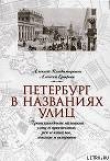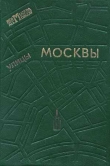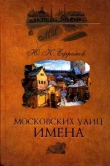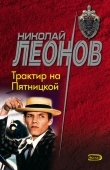Текст книги "Истории московских улиц"
Автор книги: Владимир Муравьев
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 56 страниц)
Следующее столетие – с конца 1810-х годов и до революции 1917 года – в истории Сретенского монастыря было спокойное. День за днем текла обычная монашеская жизнь, службы в его храмах посещались и москвичами, и иногородними паломниками.
По указу Екатерины II о "Духовных штатах" Сретенский монастырь был определен как необщежительный и заштатный. Это значило, что он не получал государственного содержания, монахи пользовались от монастырского дохода только общей трапезой, остальное же – одежду, бытовые хозяйственные предметы должны были приобретать на собственные средства от служения треб и "трудоделания".
В начале ХХ века монастырская братия состояла из архимандрита, шести иеромонахов, четырех иеродиаконов, четырнадцати послушников – всего двадцати пяти человек.
Однако монастырь постоянно занимался строительством: ремонтировались старые постройки, возводились новые. На улице, у святых ворот, встала часовенка, были построены помещения для церковно-приходской школы и гостиницы, хозяйственные службы – сараи, конюшня, каретник. Незадолго до революции началось строительство на монастырской территории доходного дома, в котором предполагалось сдавать помещения торговым конторам, но строительство его (ныне дом № 21 по Большой Лубянке) было завершено после закрытия монастыря, уже в советское время.
23 января 1918 года Совет Народных Комиссаров издал декрет "Об отделении церкви от государства и школы от церкви". Этот акт законодательно закрепил политику новой революционной власти в отношении всех церковных учреждений и религии вообще, которые в конечном итоге должны были быть полностью упразднены и уничтожены. По этому декрету церковь лишалась в какой бы то ни было форме государственной поддержки, ей запрещалось любое участие в политической жизни, закрывались церковные учреждения: учебные заведения, монастыри, а все церковное имущество – земля, постройки, предметы культа – изымалось из владения церкви и объявлялись "народным достоянием". Верующим гражданам было оставлено право образовывать и регистрировать общины, которые должны существовать исключительно на их личные средства; естественно, общины облагались налогами. На практике все это выливалось в бесконечные придирки, проволочки и отказы в регистрации по той или иной причине. В 1918 году были запрещены крестные ходы по улицам города как нарушающие общественное спокойствие.
Ряд московских монастырей был приспособлен под концентрационные лагеря. Сретенский эта судьба миновала, но поскольку как монастырь он был ликвидирован, то оставшаяся братия в числе пяти человек (в предреволюционный год братии насчитывалось тридцать четыре человека) образовала совет общины, и монастырские церкви должны были действовать как приходские. Совет образовали архимандрит Сергий, иеромонахи Владимир и Димитрий, монах Алексей, священник Преображенский. Кроме них в совет вошли епископ Можайский Борис и митрополит Верейский Илларион. Илларион не был прежде насельником обители, в Сретенский монастырь его привели обстоятельства и случай, но ему выпало сыграть в жизни и истории монастыря важную роль.
Митрополит Илларион (в миру Владимир Алексеевич Троицкий) родился в 1886 году в селе Липицы нынешнего Каширского района Московской области в семье священника. С детства он испытывал высокую радость от духовных и церковных впечатлений в их неразрывности с народной жизнью.
"Широка, просторна страна родная! – писал он, вспоминая свои детские переживания. – Бедна она внешними эффектами, но богата красотами духа!.. И есть одно украшение смиренных селений... Божьи храмы с колокольнями смотрятся в зеркало русских рек. С детства привык я, мой милый друг, видеть такую именно картину на своей родине, на берегах родной Оки. Войдешь у нас в Липицах на горку позади села, посмотришь на долину Оки, верст на сорок видно вдаль. Только в ближайших деревнях своего и соседнего прихода разбираешь отдельные дома, а дальше заметны лишь здания Божьих храмов: красная тешиловская церковь, белая церковь в Лужках, в Пущине, в Тульчине, а на горизонте в тумане высятся каширские колокольни...
Приедешь, бывало, домой на Пасху. Выйдешь к реке. На несколько верст разлилась, затопила всю равнину. И слышишь по воде со всех сторон радостный пасхальный трезвон во славу Христа воскресшего... Ярко и ласково светит весеннее солнышко, шумно бегут по канавам мутные потоки, важно расхаживают по земле грачи, вся земля проснулась и начала дышать, зеленеет уже травка. Оживает природа, и смиренный народ справляет праздник Воскресения. Слышишь, бывало, как несется над рекой пасхальный звон, будто волны новой жизни вливаются в душу, слезы навертываются на глазах. Долго и молча стоишь зачарованный..."
Подобное описанному Илларионом ощущение единства родного пейзажа, храма и светлой радости жизни – и после многих лет советской атеистической пропаганды – все-таки жило в сознании и памяти народа. Всем памятно, с каким восторгом и замиранием сердца читались ходившие в шестидесятые годы в самиздатских копиях "Крохотки" А.И.Солженицына, и особенно миниатюра о церквах "Путешествуя вдоль Оки", в которой речь шла о тех же местах, о которых рассказывает митрополит Илларион. И хотя Солженицын пишет о разрушении, о гибели, об уничтожении, о торжестве зла и смерти духа, читателем вычитывалось иное – о теплящейся еще жизни и о надежде на воскрешение.
"Пройдя проселками Средней России, начинаешь понимать, в чем ключ умиротворяющего русского пейзажа, – говорит Солженицын. – Он – в церквах. Взбежавшие на пригорки, взошедшие на холмы, царевнами белыми и красными вышедшие к широким рекам, колокольнями стройными, точеными, резными поднявшиеся над соломенной и тесовой повседневностью – они издалека-издалека кивают друг другу, они из сел разобщенных, друг другу невидимых, поднимаются к единому небу.
И где б ты в поле, в лугах ни брел, вдали от всякого жилья, – никогда ты не один: поперек лесной стены, стогов наметанных и самой земной округлости всегда манит тебя колоколенка то из Борок Ловецких, то из Любичей, то из Гавриловского..."
Далее Солженицын пишет, что, войдя в село, видишь, что церковь ободрана, разграблена и "узнаешь, что не живые – убитые приветствовали тебя издали". Но весь тон предыдущего описания говорит о прямо противоположном: церкви в разорении – живы, в поругании – не поруганы и еще ободряют, поддерживают слабую душу... Так оно и было.
Илларион в своем образовании прошел традиционный путь сына священника: духовное училище, семинария, Московская духовная академия. Академию он окончил со степенью кандидата и был оставлен при ней для продолжения научной деятельности в области богословия и для преподавания. Темой его научных исследований стало изучение православного учения о роли Церкви в православии. "Вне церковной жизни, – утверждал молодой богослов, – нет истинной веры".
В 1913 году он принял постриг и был наречен Илларионом. В том же году он был утвержден в звании профессора Московской духовной академии, четыре года спустя избран ее инспектором.
Иллариона любили и преподаватели, и студенты. "Высокий и стройный... с ясным и прекрасным взглядом голубых глаз... всегда смотревший уверенно и прямо, с высоким лбом, с небольшой окладистой русой бородой, звучным голосом и отчетливым произношением, он производил обаятельное впечатление. Им нельзя было не любоваться, – вспоминает его ученик С.А.Волков. – ...У него самого была поразительная восторженность и любовь ко всему, что было ему дорого и близко – к Церкви, к России, к Академии, и этой бодростью он заражал, ободрял и укреплял окружающих".
На Поместном Соборе Русской Православной Церкви в 1917 году, собравшемся для восстановления в русской церкви патриаршества, убедительная и яркая, образная речь Иллариона оказала большое влияние на мнение Собора.
"Зовут Москву сердцем России, – говорил Илларион. – Но где же в Москве бьется русское сердце? На бирже? В торговых рядах? На Кузнецком мосту? Оно бьется, конечно, в Кремле. Но где в Кремле? В окружном суде? Или в солдатских казармах? Нет, в Успенском соборе. Там, у переднего правого столпа должно биться русское православное сердце". (Илларион имеет в виду историческое патриаршее место в соборе, опустевшее после отмены патриаршества Петром I.)
Патриаршество было восстановлено на заседании Собора в 1918 году, уже после революции. На патриарший престол был избран митрополит Московский и Коломенский Тихон (Белавин). Илларион становится его ближайшим помощником, им был написан ряд патриарших посланий и обращений.
В 1919 году Иллариона арестовали в первый раз, около двух месяцев он просидел в Бутыр-ской тюрьме. Через год – новый арест и год пребывания в концлагере в Архангельске.
В 1920 году патриарх Тихон назначает Иллариона епископом Верейским.
По отбытии срока Илларион поселяется у своего друга – отца Владимира (Страхова) – монаха Сретенского монастыря. Живя в Сретенском монастыре, Илларион продолжает работать в патриархии, совершает службы в Донском монастыре, где живет патриарх, и в Сретенском.
"На Страстной неделе тянуло в церковь, – записывает в апреле 1921 года в своем дневнике Н.П.Окунев – пожилой москвич, "советский служащий" невысокого ранга. – Несколько раз ходил в Сретенский монастырь. Привлекал туда епископ Илларион, не своим пышным архиерейским служением, а участием в службах в качестве рядового монаха. Однажды (за всенощной со среды на четверг) он появился в соборном храме монастыря в простом монашеском подряснике, без панагии, без крестов, в камилавке, и прошел на левый клирос, где и пел все, что полагается, в компании с 4-5 другими рядовыми монахами, а затем вышел в том же простом наряде на середину храма и проникновенно прочитал канон, не забывая подпевать хору в ирмосах. Прочитавши канон, запел один "Чертог Твой вижду, Спасе мой, украшенный". Ну! Я вам скажу, и пел же он! Голос у него приятнейший, чистый, звучный, молодой (ему 35 лет), высокий. Тенор. Пел он попросту, не по нотам, но так трогательно и задушевно, что я, пожалуй, и не слыхивал за всю свою жизнь такого чудесного исполнения этой дивной песни".
С первых месяцев прихода к власти большевики взяли откровенный курс на уничтожение религии как конкурента государственной идеологии. Наряду с атеистической пропагандой началось массовое физическое уничтожение духовенства, для чего использовался любой предлог. В этом отношении характерно распоряжение В.И.Ленина от 1922 года, которым он рекомендовал органам ГПУ действовать "с беспощадной решительностью, безусловно ни перед чем не останавливаясь, и в самый кратчайший срок. Чем больше число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше". Священников и монахов подвергали изощренным надругательствам и пыткам: распинали на крестах, закапывали в землю живыми, монахиням отрезали груди – в те годы об этом было широко известно: чекисты – ради устрашения – не очень-то все это и скрывали.
Митрополит Илларион в одной из лекций о месте и роли патриарха в послереволюционной России сказал: "Теперь наступает такое время, что венец патриарший будет венцом не "царским", а скорее венцом мученика". Но такая же судьба ожидала почти каждого священника, остающегося верным своему долгу. Те, кто не отрекался от Бога и сана, были обречены. И тем не менее, зная это, значительная часть православного священства продолжала исполнять долг пастыря, не оставляя своих прихожан.
На следующий день после того, как цитированное выше письмо В.И.Ленина было направлено в Политбюро и принято к исполнению, Политбюро выработало проект практических мер борьбы с церковью, в котором был пункт о разрушении церкви изнутри: "Одновременно с этим внести раскол в духовенство, проявляя в этом отношении решительную инициативу". Это означало государственную поддержку так называемой обновленческой церкви, то есть части церковников, выступающих за "реформирование" церкви. Практически реформы обновленцев являлись приспособленчеством. Обновленцы шли "навстречу пожеланиям трудящихся и властей", как они понимали эти пожелания: проводилось некоторое упрощение богослужения, что, как они утверждали, делало его более доступным для масс, переходили на новый стиль, а также, не забывая себя, решали сексуальные проблемы "обновленного" духовенства: епископы могли вступать в брак, священникам-вдовцам разрешалось снова жениться, снималось запрещение духовенству брать в жены разведенных и вдов и тому подобное.
В мае 1923 года обновленцы провели свой собор, на котором "лишили сана и монашества бывшего патриарха Тихона". Повсюду началось внедрение в храмы священников-обновленцев. Это было разрушение церкви изнутри, подмена ее, как писал патриарх Тихон, сектантством. Илларион ведет борьбу против обновленчества за сохранение канонической православной церкви.
В 1920-е годы широко проводились публичные антирелигиозные лекции и диспуты. Среди наиболее ярких московских ораторов того времени по церковным проблемам обычно называют наркома просвещения А.В.Луначарского и митрополита-обновленца А.И.Введенского. О них пишут многие мемуаристы. Но в советских мемуарах нельзя было прочесть об их оппонентах – деятелях канонической церкви, словно бы этих оппонентов и не было. Объясняется это тем, что большинство деятелей патриаршей церкви были репрессированы, расстреляны, и даже на простое упоминание их имен в печати был наложен строгий запрет. А они – противники и наркома, и митрополита-реформатора были, выступали и часто одерживали в диспутах победу над тем и другим. Понемногу, по крупицам восстанавливается истинная картина тогдашних лет. Кое-что мы теперь можем узнать из мемуаров русской эмиграции, работ историков, устных преданий современников. Время стирает многие детали, но в самых кратких воспоминаниях об Илларионе те, кому посчастливилось слышать его выступления, говорят, что по ораторскому дару, яркости и убедительности речи он превосходил и Луначарского, и Введенского. К сожалению, обычно слышишь только общую оценку, и тем ценнее каждая конкретная деталь. Уже когда писалась эта глава, в разговоре с Ниной Михайловной Пашаевой, доктором исторических наук, замечательным знатоком московской истории, и в том числе церковной, я упомянул, что пишу об Илларионе, и пожаловался, что мало материалов, она сказала:
– Моя покойная мама слышала Иллариона и не раз рассказывала об этом.
– Нина Михайловна, очень прошу вас, напишите, что помните.
– Хорошо. Только это будет немного.
Несколько дней спустя я получил от нее листок. Написано действительно немного. Но какая живая картина, какой впечатляющий образ! Привожу написанное Н.М.Пашаевой целиком; уверен, что оно станет часто используемой цитатой:
"Моя мама, София Сергеевна Кононович (1900-1996), посмертный сборник стихов которой недавно вышел, в 20-е годы работала в библиотеке Политехнического музея. И как сотрудник присутствовала на мероприятиях в Большой аудитории. Она оказалась свидетелем диспута А.И.Введенского с митрополитом Илларионом Троицким. Она рассказывала, какое сильное впечатление произвел этот замечательный иерарх Церкви на всех присутствующих. Когда он вошел, высокий, красивый, строгий, зал встал. Выступление владыки Иллариона было ярким и убедительным. Одно высказывание маме запомнилось: "Все мы – Божьи овцы, но мы, – добавил он с расстановкой, – не... ба-ра-ны!"
На рукописи Нина Михайловна сделала примечание, свидетельствующее о, как говорят теперь, эксклюзивности материала: "Записала впервые для В.Б.Муравьева. 2/VII-1999 г.".
Верующие в массе своей не поддержали обновленцев (в народе их называли "обнагленцами"), вскоре начали отходить от них и увлекшиеся было поначалу их идеями священники.
В 1922 году Сретенский монастырь был занят обновленцами, но в следующем году они вынуждены были уйти. Митрополит Илларион совершил новое освящение монастыря и всех храмов.
В июне 1923 года патриарх Тихон возводит Иллариона в сан архиепископа, включает в состав Синода и назначает игуменом Сретенского монастыря.
Современный историк Церкви (в предисловии к сочинениям Иллариона издания 1999 года) отмечает: "Во многом благодаря деятельности епископа Иллариона началось массовое возвращение клира и мирян в "тихоновскую" церковь. Храмы, захваченные обновленцами, стали пустеть". Так провалилась задуманная и поддержанная советской властью широкомасштабная провокация.
Вскоре последовало возмездие: Иллариона арестовали, и в декабре 1923 года он уже оказался в Соловецком лагере особого назначения со сроком заключения – три года. Такой срок был обычной нормой для духовенства, поскольку сажали не за какую-то вину, а за принадлежность к духовному сословию, но было тут и демократическое равенство – архиепископ получал то же, что и послушник.
Илларион, работая в бригаде рыбаков и на других работах, оставался при этом тем, кем он был, – пастырем и духовником.
"Архиепископ Илларион, – рассказывает в своих воспоминаниях М.Польский – священник, сидевший вместе с ним в Соловках, – человек молодой, жизнерадостный, всесторонне образованный, прекрасный церковный проповедник-оратор и певец, блестящий полемист с безбожниками, всегда естественный, искренний, открытый; везде, где он ни появлялся, всех привлекал к себе и пользовался всеобщей любовью... За годы совместного заключения являемся свидетелями его полного монашеского нестяжания, глубокой простоты, подлинного смирения, детской кротости. Он просто отдавал все, что имел, что у него просили. Своими вещами он не интересовался...
Любовь его ко всякому человеку, внимание и интерес к каждому, общительность были просто поразительными. Он был самою популярною личностью в лагере, среди всех его слоев. Мы не говорим, что генерал, офицер, студент и профессор знали его, разговаривали с ним, находили его или он их... Его знала "шпана", уголовщина, преступный мир воров и бандитов именно как хорошего, уважаемого человека, которого нельзя не уважать... Он доступен всем, он такой же, как и все, с ним легко всем быть, встречаться и разговаривать..."
Выразительный портрет Иллариона на Соловках рисует в книге воспоминаний "Погружение во тьму" и другой соловецкий узник – писатель Олег Васильевич Волков.
"Иногда Георгий уводил меня к епископу Иллариону, поселенному в Филипповской пустыни, верстах в трех от монастыря. Числился он там сторожем...
Преосвященный встречал нас радушно. В простоте его обращения были приятие людей и понимание жизни. Даже любовь к ней. Любовь аскета, почитавшего радости ее ниспосланными свыше.
Мы подошли к его руке, он благословил нас и тут же, как бы стирая всякую грань между архиепископом и мирянами, прихватил за плечи и повел к столу. Приветливый хозяин, принимавший приставших с дороги гостей. И был так непринужден, так славно шутил, что забывалось о его учености и исключительности, выдвинувших его на одно из первых мест среди тогдашних православных иерархов.
Мне были знакомы места под Серпуховым, откуда был родом владыка Илларион. Он загорелся, вспоминал юность. Потом неизбежно переходил от судеб своего прежнего прихода к суждениям о церковных делах России.
– Надо верить, что церковь устоит, – говорил он. – Без этой веры жить нельзя. Пусть сохранятся хоть крошечные, еле светящие огоньки когда-нибудь от них все пойдет вновь. Без Христа люди пожрут друг друга. Это понимал даже Вольтер... Я вот зиму тут прожил, когда и дня не бывает потемки круглые сутки. Выйдешь на крыльцо – кругом лес, тишина, мрак. Словно конца им нет, словно пусто везде и глухо... Но "чем ночь темней, тем ярче звезды...". Хорошие это строки. А как там дальше – вы должны помнить. Мне, монаху, впору Писание знать.
Иллариону оставалось сидеть около года. Да более двух он провел в тюрьме. И, сомневаясь, что будет освобожден по окончании срока, он все же готовился к предстоящей деятельности на воле. Понимая всю меру своей ответственности за "души человеческие", преосвященный был глубоко озабочен: что внушать пастве в такие грозные времена? Епископ православной церкви должен призывать к стойкости и подвигу. Человека же в нем устрашало предвидение страдания и гонений, ожидающих тех, кто не убоится внять его наставлениям".
Незадолго до окончания срока Иллариона перевели из Соловков в Ярославль. Там, в тюрьме, его посещал ответственный работник ГПУ и уговаривал присоединиться к новому, поддерживаемому властями, церковному расколу, возглавляемому епископом Екатеринбургским Григорием. "Вас Москва любит, вас Москва ждет", – уговаривал агент Иллариона, обещая ему свободу и высокое место в иерархии григорианства. Илларион отказался. После переговоров, продолжавшихся несколько месяцев, агент ГПУ сказал: "Приятно с умным человеком поговорить. – И тут же добавил: – А сколько вы имеете срока на Соловках? Три года?! Для Иллариона – три года?! Так мало?"
Иллариону добавили еще три года и возвратили на Соловки. По окончании нового срока его отправили этапом на вечное поселение в Казахстан. В пути он заболел сыпным тифом и 28 декабря 1929 года умер в тюремной больнице в Петербурге. Петербургский митрополит Серафим (Чичагов) упросил начальство НКВД выдать тело усопшего. Ми-трополита Иллариона отпели в Воскресенском храме Новодевичьего монастыря и похоронили на монастырском кладбище.
Годы спустя, когда на Соловках не осталось ни одного заключенного, лично знавшего митрополита Иллариона, стойко держалась память о нем. От одного потока заключенных к другому передавались уже не воспоминания, а предания, ставшие фольклором. Фольклорное предание, как известно, имеет в своей основе действительный факт, обычно трансформирует его, дополняет фантастическими вымыслами, но при этом всегда сохраняется идея и смысл того события, которое лежит в его основе. Таковы и две легенды о митрополите Илларионе. Первая – о его неколебимой верности православию, вторая – об общегосударственном масштабе значения его деятельности и личности.
Первая легенда повествует о том, как однажды на Соловки приехал посол Папы Римского, католический кардинал, для переговоров с сидевшим в Соловках духовенством, среди которого было много высших иерархов. Папа решил воспользоваться в своих целях тяжелым положением русской Церкви и осуществить давно лелеемый Ватиканом коварный план.
Священники-соловчане избрали для переговоров с папским нунцием митрополита Иллариона.
И вот они встретились – князья двух Церквей – одетый в пышные облачения католический кардинал и митрополит Илларион в заплатанной телогрейке арестанта.
Нунций сказал, что он может добиться освобождения православного духовенства из лагерей, но за это Православная Церковь России должна объединиться с католической в унию и признать власть папы над собою. Митрополиту Иллариону в униатской церкви России он обещал тиару кардинала.
Но владыка Илларион ответил, что Православная Церковь предпочитает лучше принять терновый венец, чем изменить истинной вере.
В действительности такой встречи не было. Борис Ширяев, автор воспоминаний о Соловках, в которых он приводит эту легенду, специально расспрашивал сидевших там иерархов, и все они "решительно отрицали этот факт". "Тем не менее, апокриф родился и жил на острове, – пишет Ширяев. Он даже перекинулся на материк: позже я слышал его в Москве. Легенда возникла и жила потому, что люди хотели видеть реальное воплощение духовной силы Церкви, ее несокрушимой твердыни, и самым подходящим объектом для такого воплощения был владыка Илларион".
Вторая легенда утверждала, что существует тайное завещание покойного патриарха Тихона, в котором он указывает на Иллариона как на истинного хранителя и местоблюстителя патриаршего престола.
В заключение рассказа о митрополите Илларионе приведу стихотворение, о котором шла речь в его разговоре с Олегом Васильевичем Волковым. Это стихотворение принадлежит А.Н.Майкову.
Не говори, что нет спасенья,
Что ты в печалях изнемог:
Чем ночь темней, тем ярче звезды,
Чем глубже скорбь, тем ближе Бог...
Теперь вернемся к началу 1920-х годов, когда совету общины Сретенского монастыря удалось спасти от закрытия Владимирский собор, защититься от обновленцев и сохранить приход.
Колокола Сретенского монастыря славились в Москве своей мелодичностью. Один из последних дореволюционных путеводителей "Всеобщий путеводитель по Москве и окрестностям", вышедший в 1915 году и по обширности заявленной программы вынужденный писать лишь только о самых значительных достопримечательностях, тем не менее приглашает послушать великолепные колокола Сретенского монастыря.
12 июня 1920 года Н.П.Окунев, запись из дневника которого приводилась ранее, отметил новое звучание сретен-ского колокольного звона:
"Прошел домой мимо Сретенского монастыря, не закрытого еще в полном объеме, но оставшегося с одной только церковкой и братией человек в 5. Но от былого остались музыкально подобранный звон и звонарь, какой-то удивительный человек – я вижу его, он "штат-ский", тощий, болезненный, типа старых сухаревских мелких торговцев. Еще бы чуть-чуть попотрепаннее одеяние, ну и подавай ему Христа ради копеечку. Такова наружность, а кто его знает, может, он богатый человек, любитель позвонить. В нем нет профессионального звонаря, он несомненно дилетант, но зато какой в своей сфере гениальный! Я, по крайней мере, никогда не слышал такого замечательного звона. Когда он звонит, на углу Сретенки и Сретенского переулка всегда собирается толпа и смотрит на его переборы по веревочкам. Голова без шапки, закинута вверх, – точно смотрит в небо и аккомпанирует ангелам, поющим гимн Богу. Так играют вдохновенные пианисты, смотрящие не на клавиши, а куда-то ввысь..."
Этот звонарь – Константин Сараджев – еще одна московская легенда 1920-х годов. Он не был профессиональным звонарем и звонил на разных колокольнях. У него был круг поклонников из любителей и знатоков колокольного звона и музыкантов-консерваторцев, которые заранее узнавали, где и когда он будет звонить, и приходили слушать.
После того как в 1977 году была напечатана документальная повесть А.И.Цветаевой "Сказ о звонаре московском", имя Константина Константиновича Сараджева приобрело широкую известность.
К.К.Сараджев родился в 1900 году в Москве. Отец – профессор Московской консерватории, скрипач, дирижер, мать – пианистка. Детство и отрочество Сараджева прошло на Остоженке. С раннего детства он прислушивался к звону колоколов окрестных церквей, благо вокруг их было много. Особенно привлекали его внимание колокола Замоскворечья – церкви Преподобного Марона у Крымского моста, знаменитый колокол Симонова монастыря...
Сараджев обладал особым абсолютным слухом. Музыканты с абсолютным слухом в звуке колокола различают три основных тона, он же слышал более восемнадцати, а в октаве он, по его словам, четко различал 1701 тон.
Хотя Сараджев жил в музыкальной семье, музыке систематически не учился и всем музыкальным инструментам предпочитал колокола. Он свел знакомство с московскими звонарями, в четырнадцать лет ему удалось самому позвонить на колокольне, и с тех пор колокола заняли все его мысли. Наиболее интенсивная его деятельность по изучению и пропаганде колокольного звона падает на 1920-е годы. В это время Сараджев не только звонит, открывая и осмысливая музыкальные возможности колоколов, но и работает над теоретическим трудом "Музыка – Колокол". Он обследовал 374 колокольни Москвы и Подмосковья, составил их каталог с музыкальной нотной характеристикой звучания каждого колокола.
Среди музыкантов, ходивших слушать Сараджева, А.И.Цветаева называет композиторов Р.М.Глиэра, Н.Я.Мясковского, М.М.Ипполитова-Иванова, А.Ф.Гедике – органиста, профессора Московской консерватории.
Известный хоровой дирижер А.В.Свешников слушал звон Сараджева на колокольне Сретенского монастыря. "Звон его, – вспоминает Свешников, совершенно не был похож на обычный церковный звон. Уникальный музыкант! Многие русские композиторы пытались имитировать колокольный звон, но Сараджев заставил звучать колокола совершенно необычайным звуком – мягким, гармоничным, создав совершенно новое их звучание".
Сараджев мечтал об устройстве специальной "Московской Художественно-Музыкально-Показательной Концертной колокольни". Музыкальная общественность поддерживала его ходатайство перед Наркомпросом о создании такой звонницы. Но во второй половине 1920-х годов в России настали роковые времена для церковного колокольного звона и колоколов: колокольный звон как "нарушающий общественный покой" был запрещен, закрывались и разрушались церкви и колокольни, снимались и отправлялись в переплавку колокола.
Наступила очередь и звонницы Сретенского монастыря.
В 1927 году живший по соседству с монастырем член партии "с дореволюционным стажем" ответственный работник ВСНХ Н.С.Попов отправил письмо тогдашнему председателю Моссовета К.Я.Уханову, также партийцу с 1907 года, бывшему слесарю:
"Тов. Уханов!
Ты хозяин Москвы: обрати, пожалуйста, внимание на Б. Лубянку. Стоит тут развалина, называемая храмом божьим, живут в нем какие-то Братские общества и т.п., а улица от этого страдает: уже не один человек в этом месте раздавлен трамваем. Улица в этом месте благодаря этой балдахине имеет искривленный вид и, если ее снести, а снести ее надо, то будет совершенно другая улица с свободными проходами. Улица слишком бойкая. Во дворе как раз в этом месте, где стоит эта чертова часовня, где гуляют только кошки и мыши, стоит еще колокольня, где сумасшедший какой-то профессор выигрывает на колоколах разные божеские гимны, ничего абсолютно нет. Тебе как хозяину Москвы во имя благоустройства города надо в конце концов обратить внимание...
С коммунистическим приветом – По-пов Н.С.".
В 1928 году в газете "Рабочая Москва" была опубликована фотография Сретенского монастыря, огражденного забором, с пояснительной подписью: "Для расширения уличного движения сносится Сретенский монастырь, мешающий движению".
Приход Сретенского монастыря был ликвидирован в 1928 году. В 1928-1930 годах снесены церковь Марии Египетской, церковь Николая Чудотворца, колокольня, монастырская стена. Соборный Владимирский храм был приспособлен под общежитие сотрудников НКВД, затем использовался как гараж и под помещения для реставрационных мастерских. В 1950-е годы собор был поставлен на госохрану как историко-архитектурный памятник. Из старых построек Сретенского монастыря к 1990-м годам сохранились только три: Владимирский собор, совершенно опустошенный внутри и со сбитой росписью, двухэтажный хозяйственный корпус ХVIII века, перестроенный в XIX веке, так что от первоначального здания остались лишь так называемые "ушастые" наличники на трех окнах (Большая Лубянка, 17), и часть настоятельского корпуса ХVII-ХIХ веков в глубине двора.