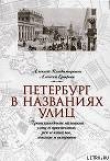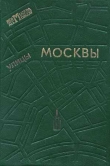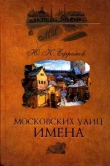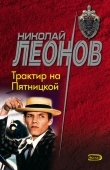Текст книги "Истории московских улиц"
Автор книги: Владимир Муравьев
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 56 страниц)
Князь Дмитрий Пожарский за эти годы приобрел в народе известность как "талантливый и храбрый воевода", но поистине всероссийская слава пришла к нему в 1611 году после героического сражения в Москве на Большой Лубянке.
1611 год. В России – Смута: двенадцать лет честолюбцы и проходимцы один за другим захватывают царский трон. Сомнительно "избранного" Годунова сменяет вереница авантюристов-самозванцев, завершающаяся откровенно иностранными претендентами – польским королем Сигизмундом и его сыном Владиславом.
Для более убедительного доказательства своей "легитимности" первый же самозванец Лжедмитрий I вводит в Россию армию наемников-иноземцев, которые фактически оккупируют страну, с каждым годом и с каждым новым "царем" расширяя и ужесточая оккупацию. Из бояр, чиновников и торговцев складывается целый слой отечественных коллаборационистов, который с усердием служит всем "царям" по очереди, блюдя только личную выгоду и совершенно пренебрегая интересами государства и народа. Народ с присущей ему доверчивостью верит посулам "царей", что они установят в стране порядок, защитят обиженных и всем даруют милости. Тем более что посулы подкреплялись клятвами "своих", православных бояр.
В августе 1610 года коллаборационисты, а за ними и обманутый очередными посулами простой народ московский, правда, под строгим наблюдением польских солдат, присягает объявленному новым царем всея Руси польскому королевичу Владиславу Жигимонтовичу.
Поляки и их союзники – литовцы, немцы, шведы, решив, что теперь они имеют полное право творить в России то, для чего, собственно, и пришли владеть и повелевать, уже не скрывали этого: по приказанию военных властей Приказы выписывали им "листы на поместья", то есть на владение деревнями с крестьянами; офицеры и солдаты вели себя в России, как в завоеванной стране: заходили в любой дом, забирали все, что им приглянется, насиловали даже боярских жен и дочерей, надсмехались над православной верой, называли русских "быдлом", обязанным работать на завоевателей и угождать им.
Теперь даже у самых доверчивых наступило прозрение. Во многих деревнях, куда являлись отряды поляков, мужики вооружались и оказывали сопротивление. Поляки допускали возможность бунта и в Москве, где была сосредоточена основная часть их военных сил. Н.М.Карамзин, ссылаясь на польские источники, так описывает сложившееся положение: "Уже москвитяне переменились в обращении с ляхами: быв долго смиренны, начали оказывать неуступчивость, дух враждебный и сварливый..." Поляки предприняли некоторые предварительные меры: запретили в Москве русским держать в доме любое оружие, ходить по городу с палками и ножами, носить пояса на рубахах, чтобы нельзя было ничего спрятать за пазухой, а на торговые площади и в кабаки заслали шпионов и соглядатаев.
По донесениям агентов, в Москве на улицах "кричали", то есть, говоря современным языком, агитировали: "Мы выбрали королевича не на тот конец, чтобы всякий безмозглый поляк помыкал нами, а нам, московским людям, чтоб пропадать!", "Мы по глупости выбрали ляха в цари, однако же не с тем, чтобы идти в неволю к ляхам; время разделаться с ними", "Если эти добром отсюда не уберутся, то перебьют их, как собак; стоит только взяться дружно за дело", "Недолго вам тут сидеть..."
Патриарх Гермоген, отказавшийся сотрудничать с оккупантами и за то брошенный в тюрьму, ответил на угрозы: "Что вы мне угрожаете? единого я Бога боюсь; буде же вы пойдете, все литовские люди, из Московского государства, и я их благословляю отойти прочь; а буде вам стояти в Московском государстве, и я их (сопротивляющихся москвичей. – В.М.) благословляю всех против вас стояти". Из заключения ему удалось передать грамоту, которой он освобождал от присяги всех, присягнувших Владиславу. Гермогена в темнице замучили до смерти, но его грамоты продолжали ходить по Руси и вдохновлять народ на сопротивление.
Из Троице-Сергиевой лавры в Нижний Новгород и другие русские города и земли, куда не дошли ни поляки, ни шведы, рассылались письма с призывами идти на освобождение Москвы от врагов: "Где только завладели литовские люди, в тех городах разорение учинилось Московскому государству. Где святая церковь? Где Божие образа? Где иноки, цветущие многолетними сединами?.. Не всё ли до конца разорено и обречено злым поруганиям?.. Где бесчисленное множество христианских чад в городах и селах? Не все ли без милости пострадали и разведены в плен? Не пощадили престаревших возрастом, не устрашились седин многолетних старцев, не сжалились над сосущими млеко незлобивыми младенцами... Помяните и смилуйтесь над видимою нашею смертною погибелью, чтоб и вас не постигла такая лютая смерть. Бога ради, положите подвиг своего страдания, чтоб вам и всему общему народу, всем православным христианам быть в соединении, без всякого мешканья поспешите под Москву... Смилуйтесь и умилитесь, ратными людьми помогите... О том много и слезно всем народом христианским вам челом бьем".
В марте 1611 года в Москве стало известно, что в Рязани думный дворянин Прокопий Ляпунов собрал ополчение, к нему должны присоединиться отряды других земель, и все они идут к Москве. Несколько отрядов, в том числе отряд, руководимый воеводой князем Дмитрием Михайловичем Пожарским, проникли в город заранее, и воины растворились среди москвичей.
Поляки приняли решение, пока разрозненные отряды ополчения не собрались воедино, выйти за Москву и разгромить их поодиночке. В то же время они начали укреплять оборону городских стен, прежде всего Кремля и Китай-города, дополнительной артиллерией. План этот не остался неизвестен москвичам, они говорили, что надо помешать полякам осуществить их замысел и не пускать их из города.
19 марта 1611 года, в Страстной вторник, поляки пытались заставить московских возчиков на своих лошадях втаскивать пушки на кремлевские стены. Возчики отказались. Завязалась драка, распространившаяся по всему Китай-городу. Солдаты начали громить торговые ряды, убивая всех подряд. Современник вспоминает, что улицы Китай-города после этой расправы "были завалены выше человеческого роста трупами людей".
После побоища в Китай-городе, весть о котором быстро разнеслась по всей Москве и вызвала всеобщий гнев и возмущение, польские отряды вышли в Белый город.
Польский офицер С.Маскевич вел дневник, и в нем он описывает события этого дня: "В Белом городе [...] нам управиться было труднее: здесь посад обширнее и народ воинственнее. Русские свезли с башен полевые орудия и, расставив их по улицам, обдавали нас огнем. Мы кинемся на них с копьями, а они тотчас загородят улицу столами, лавками, дровами; мы отступим, чтобы выманить их из-за ограды, они преследуют нас, неся в руках столы и лавки, и лишь только заметят, что мы намерены обратиться к бою, немедленно заваливают улицу и под защитою своих загородок стреляют по нас из ружей; а другие, будучи в готовности, с кровель, с заборов, из окон бьют нас самопалами, камнями, дрекольем. Мы, то есть всадники, не в силах ничего сделать, отступаем..."
Князь Пожарский со своим отрядом стоял на Сретенке (Большой Лубянке) против своего двора, он отбил атаку и "втоптал", как сказано в летописи, поляков в Китай-город. Но он понимал, что неминуемо последует новое наступление, и велел ставить возле церкви Введения укрепление-острожек. К его отряду присоединились пушкари с соседнего Пушечного двора и окрестные жители.
Новое польское наступление началось на следующий день. Поляки применили новую тактику.
"Мы не могли и не умели придумать, чем пособить себе, – пишет Маскевич, – как вдруг кто-то закричал: "Огня! жги домы!" Достали смолы, прядева, смоленой лучины... Наконец затеялся пожар; ветер, дуя с нашей стороны, погнал пламя на русских и принудил их бежать из засад; а мы следовали за развивающимся пламенем..." Поджигать город было поручено двухтысячному отряду немецких рейтаров и польским гусарам.
Эта тактика была в высшей степени варварской и бесчеловечной. Москва деревянный город, огонь не щадил никого. И оккупанты убивали не только сражавшихся против них. Гетман Жолкевский, участник и свидетель этих боев, в своих воспоминаниях пишет: "В чрезвычайной тесноте людей происходило великое убийство: плач, крик женщин и детей представляли нечто, подобное дню Страшного суда; многие из них с женами и детьми сами бросались в огонь, и много было убитых и погоревших; большое число также спасалось бегством... Таким образом, столица Московская сгорела с великим кровопролитием и убытком, который и оценить нельзя. Изобилен и богат был этот город, занимавший обширное пространство: бывавшие в чужих краях говорят, что ни Рим, ни Париж, ни Лиссабон величиною окружности своей не могут равняться сему городу".
Но среди разгула пожара и убийств держался и отбивал атаки острожек Пожарского на Большой Лубянке – Введенский острожек, как называет его летопись. Когда на других улицах москвичи были оттеснены огнем и войсками к окраинам, поляки обратили объединенные силы против Пожарского. В штурмах, продолжавшихся целый день, кроме собственно польских отрядов, приняли участие немецкие рейтары под командованием капитана Маржерета и другие наемники. "Вышли из Китая, – описывает это сражение летописец, – многие люди к Устретенской улице и к Кулишкам, там же с ними бился у Введенского острожку и не пропустил их за Каменный город преждереченной князь Дмитрий Михайлович Пожарской через весь день, и многое время тое страны (то есть ту сторону города. – В.М.) не дал жечь, и изнемогша от великих ран паде на землю, и взем его повезоша из города вон к Живоначальныя Троице в Сергиев монастырь".
Первому ополчению не удалось освободить Москву от врагов. Но бои на ее улицах в марте 1611 года положили начало общенациональной освободительной борьбе, народ прозрел и преодолел страх. Восстание было подавлено, но не побеждено. Введенский острожек, об обороне которого слух по всей Руси разнесли москвичи – участники боев, стал воодушевляющей легендой, а в его защитнике – князе Дмитрии Михайловиче Пожарском народ обрел того всеми признаваемого и облеченного доверием народа вождя, вокруг которого смогли объединиться все силы и который возглавил борьбу за освобождение страны.
Пожарский вернулся в Москву полтора года спустя во главе всенародного ополчения.
После освобождения Москвы властью в столице, да и во всей России стали руководители ополчения: князь Трубецкой – начальник казачьего войска, Пожарский и Минин. "Ныне меж себя мы, – в одном из тогдашних документов объявляли они, определяя свою политику, – Дмитрий Трубецкой и Дмитрий Пожарский, по челобитью и по приговору всех чинов людей, стали во одиночестве и укрепились, что нам да выборному человеку Кузме Минину Московского государства доступать и Российскому государству во всем добра хотеть безо всякия хитрости".
В январе 1613 года начал заседать Земский собор представителей всех слоев и сословий. В результате месячных споров и переговоров был избран царем шестнадцатилетний Михаил Федорович Романов. На этом закончились властные полномочия руководителей ополчения, и все грамоты и указы выпускались теперь от имени "царя и великого князя Михаила Федоровича всея Руси".
2 мая 1613 года царь Михаил прибыл в Москву, 11-го состоялось торжество венчания на царство. В этот день до церемонии венчания царь пожаловал князю И.Б.Черкасскому и князю Д.М.Пожарскому боярство. По существовавшему обычаю, "стоять у сказки", то есть сообщить о царской милости, должен был придворный, по чину и родовитости считающийся ниже награждаемого. "Стоять у сказки" Пожарскому был назначен думный дворянин Гаврила Пушкин, но он, услышав о назначении, бил царю челом, что ему "у сказки стоять и быть меньше князя Пожарского невместно, потому что его родственники меньше Пожарских нигде не бывали". Так отозвалось давнее исключение Пожарских из Разрядных книг. Царь приказал свой указ о боярстве Пожарского тотчас же, при всех боярах, записать в Разрядную книгу. При венчании боярин князь Пожарский держал одну из царских регалий – яблоко.
Однако, хотя Пожарский и был внесен в Разрядную книгу, в местнических челобитных бояре продолжали писать, что "Пожарские – люди не разрядные, при прежних государях, кроме городничих и губных старост, нигде не бывали". Даже царские указы и жалованные грамоты, в которых было написано, что Пожарский "многую свою службу и правду ко всему Московскому государству показал", не могли пересилить придворных интриг. В Боярской думе Пожарский сидел на низшем месте, его подпись под документами ставилась в конец. Видимо, "он не бил царю челом" о пожаловании его деревнями, поэтому полученные им награды были чрезвычайно малы по сравнению с другими.
Усадьба князя на Большой Лубянке в Смуту сгорела. Восстанавливалась она долго и с трудом, и даже в переписи 1638 года названа не двором с постройками, а "местом" князя Пожарского, значит, строительство было еще не закончено.
Не прижившись в Москве при дворе, князь Пожарский исполнял различные поручения вне ее: был посылаем в походы против не сложивших оружия отрядов польских интервентов, время от времени пытавшихся снова пробиться к Москве, исполнял дипломатические поручения, воеводствовал в Великом Новгороде, в Переяславле-Рязанском, в 1620-1630 годы "ведал" Ямским, Разбойным, Судным приказами.
Скончался князь Дмитрий Михайлович Пожарский в Москве, в своем доме, отпевали его в приходском храме Введения. Предание говорит, что перед кончиной его посетил царь Михаил, но документальных подтверждений этому нет.
После смерти князя Д.М.Пожарского усадьбой владела его вдова. На его внуке князе Юрии Ивановиче в 1685 году род Пожарских пресекся.
Московская усадьба перешла к родне жены – князьям Голицыным.
В 1770-е годы князь Николай Михайлович Голицын разобрал "старые палаты", то есть дом Пожарского, и построил на их месте дворцовое здание. Оно было отделано и обставлено с невероятной роскошью, и хозяин вел соответствующий образ жизни. "Барин этот, – рассказывает современник, – был питомцем веселой школы XVIII столетия, когда и в голову не приходило размерять расходы по доходам своим". В последние годы XVIII века, уже при его наследнике, князе А.Н.Голицыне, дом перестраивался. Перестройку осуществлял М.Ф.Казаков, в его "Архитектурных альбомах", в которые он включил лучшие в архитектурном отношении постройки Москвы, в том числе и некоторые свои, имеется и "дом действительного камергера князь Александр Николаевича Голицына в Мясницкой части 4-м квартале по 336 на Лубянки".
Дом Голицына, перестроенный Казаковым, украшенный шестиколонным коринф-ским портиком, лепными орнаментами над окнами, обнесенный художественною металлическою оградой с белокаменными столбами-пилонами, с парадными интерьерами, выполненными также по проектам Казакова, представлял собой великолепный образец московского классицизма.
В пожар 1812 года дом Голицына не горел.
Но к этому времени он из княжеских рук перешел (в 1806 году) во владение откупщика П.Т.Бородина и из барского жилища превратился в объект экономических операций: в 1820-е годы главное здание сдавалось под учебное заведение, флигеля – под торговлю, в 1843 году дом был арендован 3-й Московской мужской гимназией, а затем ею же и куплен.
С размещением в доме Голицына гимназии его внешний облик приобрел несколько новых деталей: на фронтоне появилась идущая по всему фасаду надпись "3-я Московская гимназия", столбы-пилоны украсились аллегорическими античными статуями, на углу Лубянки и Фуркасовского переулка возле белокаменной стены была установлена мраморная группа, изображающая мудрого кентавра Хирона в окружении учеников, ибо, как рассказывают древнегреческие мифы, он был учителем и воспитателем легендарного врача Асклепия, героев античного эпоса – Тезея, Язона, Ахилла и других.
3-я гимназия считалась одним из лучших московских средних учебных заведений, в ней преподавали многие известные ученые, в том числе профессора Московского университета: В.О.Ключевский, Н.Е.Жуковский, Н.В.Бугаев, Ф.А.Бредихин, М.А.Мензбир, Н.А.Умов, А.П.Сабанеев и другие. Среди выпускников гимназии также немало известных имен: академик филолог Н.С.Тихонравов, бактериолог Г.Н.Габричевский, врач В.Д.Шервинский, археограф академик В.Н.Щепкин.
В этой гимназии учились также два крупных поэта Серебряного века Виктор Гофман и В.Ф.Ходасевич. Начало их творческой деятельности связано непосредственно с гимназией.
"В ту пору, – рассказывает Ходасевич о начале 1900-х годов, – я писал стихи "для себя" и показывал их лишь ближайшим приятелям – товарищам по гимназии: Александру Брюсову (брату Валерия) и Виктору Гофману, на которого, впрочем, я смотрел снизу вверх, он был одним классом старше меня, он уже напечатал несколько стихотворений". О поэзии Ходасевич и Гофман говорили на переменах и после уроков, идя по улице домой. Эти прогулки по улицам особенно чудесны бывали весной. О них писал Виктор Гофман в одном из своих тогдашних стихотворений:
...Вдоль длинных зданий, мимо храма
Протянут мой случайный путь,
Пойти ли влево или прямо,
Или направо повернуть?..
Люблю бесцельные прогулки
С тревогой перелетных дум.
Люблю глухие переулки
И улиц неустанный шум.
Смеется солнце. Ясно. Ясно.
На камнях матовой стены
Мелькают бегло и согласно
Оттенки радостной весны.
Играют в золотистом беге
Лучи, дробимые стеной.
И лица женщин полны неги,
Рожденной светлою весной...
Ходасевич вспоминает любительские спектакли, которые ставились в гимназии и в которых они с Гофманом участвовали, вспоминает учителей: "В те дни в 3-й гимназии был целый ряд преподавателей, умевших сделать свои уроки занимательными и ценными. Таков был П.А.Виноградов, большой любитель поэзии; В.И.Шенрок, известный знаток Гоголя; М.Д.Языков, сам писавший стихи и любезно относившийся к литературным опытам гимназистов; Т.И.Ланге, человек широчайшей эрудиции, на родине у себя, в Дании, известный поэт и критик; наконец, Г.Г.Бахман, преподаватель немецкого языка, обаятельный человек, поэт, писавший стихи по-немецки".
О Бахмане с теплотой вспоминал и Гофман. "Гимназисты, – пишет он, его не боялись, он не умел справляться с учениками. Откуда-то мальчишки всегда узнавали, что Егор Егорович пишет стихи, что у него есть печатный сборник, а в альманахе "Скорпиона" помещено, хотя и без подписи, его русское стихотворение. Егор Егорович, когда ему это говорят, смущается, считает нужным от всего отрекаться. Учителю писать стихи почти столь же предосудительно, как и ученику. Но в старших классах положение дела меняется, и на уроках немецкого языка начинаются горячие, увлекающие беседы о русской и всемирной литературе, беседы между учителем и несколькими придвинувшимися к кафедре учениками – под неугомонный гвалт всех задних скамеек".
Ходасевич вспоминает о том, какое потрясшее их впечатление производили стихи поэтов-символистов: "Читали украдкой и дрожали от радости. Еще бы! Весна, солнце светит, так мало лет нам обоим, – а в этих стихах целое откровение. Ведь это же бесконечно ново, прекрасно, необычайно... Какие счастливые дали открываются перед нами, какие надежды! И иногда от восторга чуть не комок подступает к горлу... И вот однажды (это было в 1902 году. В.М.) Гофман, изо всех сил стараясь скрыть сознание своего превосходства, говорит мне как будто небрежно: "Я познакомился с Брюсовым". Ах, счастливец! Когда же я буду разговаривать с Брюсовым?" (Ходасевич познакомился с Брюсовым два года спустя – в 1904-м.)
Гофман имел полное право возгордиться. В.Я.Брюсов, много лет спустя, писал о своей первой встрече с Гофманом: "Стихи юноши-поэта меня поразили. В них было много юношеского, незрелого; были явные недостатки техники, в темах было какое-то легкомыслие и поверхностность (да и как ждать "глубины" от "философа в осьмнадцать лет"); но было в этих стихах одно преимущество, которое искупало все: они пели – была в них прирожденная певучесть, не приобретаемая никакой техникой, особый "дар неба", достающийся в удел лишь немногим, истинным поэтам. Стихи Гофмана доказывали неопровержимо, что он поэт..."
Стихи Виктора Гофмана тогда же вошли в репертуар декламаторов и читались чуть ли не на каждом профессиональном или любительском литературном вечере или утреннике, на гимназических и молодежных вечеринках и вообще в любом кружке, где сходилось несколько любителей поэзии.
Наибольшим успехом пользовалось одно из самых "певучих" стихотворений Виктора Гофмана "У меня для тебя". Кстати сказать, оно написано в 1902 году и наверняка не раз звучало в стенах гимназии.
Стихи Виктора Гофмана ни разу не переиздавались после революции и практически незнакомы современному читателю, поэтому позволю себе процитировать стихотворение, "сводившее с ума" москвичей – любителей поэзии первых лет XX века. Тогда стихи читались нараспев, почти пелись, и при таком исполнении полнее проявлялась их "певучесть".
У меня для тебя
У меня для тебя столько ласковых слов
и созвучий,
Их один только я для тебя мог придумать,
любя.
Их певучей волной, то нежданно-крутой,
то ползучей,
Хочешь, я заласкаю тебя?
У меня для тебя столько есть прихотливых
сравнений
Но возможно ль твою уловить, хоть
мгновенно, красу?
У меня есть причудливый мир серебристых
видений
Хочешь, к ним я тебя отнесу?
Видишь, сколько любви в этом нежном,
взволнованном взоре?
Я так долго таил, как тебя я любил и люблю.
У меня для тебя поцелуев дрожащее море,
Хочешь, в нем я тебя утоплю?
Вскоре после революции гимназия была закрыта. К началу двадцатых годов все окружающие здания заняла ВЧК. В 1928 году здание гимназии было снесено, хотя Музейный отдел Наркомпроса категорически возражал против его сноса. На его территории и был выстроен комплекс зданий НКВД – Дворец спортивного общества "Динамо".
Мемориальная доска с именем "освободителя Москвы" князя Дмитрия Михайловича Пожарского бесследно исчезла в недрах НКВД.
ДОМ ГРАФА РОСТОПЧИНА
Вторую, южную, половину бывшей усадьбы князя Дмитрия Михайловича Пожарского в настоящее время занимает дом с флигелями и надворными постройками, по современной нумерации значащимися под общим номером – 14.
С Большой Лубянки сквозь чугунную ограду в глубине двора виден полузакрытый деревьями изящный и одновременно величественный дворец ХVIII века в стиле архаического и наивного, но все равно милого барокко. Перед дворцом – парадный двор. Этот дворец с всегда пустынным двором и закрытыми воротами неизменно привлекает взгляды прохожих своей красотой и таинственностью.
В 1851 году профессор Московского университета, известный историк, знаток Москвы Иван Михайлович Снегирев издал об этом доме брошюру, до сих пор остающуюся единственным печатным трудом на эту тему. "Как самое здание, так и местность вокруг него, – пишет он, – напоминают не только славные в истории имена, но и важные по своим последствиям события в истории Отечественной".
Говоря о важных "в истории Отечественной" событиях, Снегирев имеет в виду, во-первых, освобождение России от польско-шведской интервенции и обуздание Смуты начала ХVII века, грозившей гибелью самому существованию государства, и, во-вторых, изгнание наполеоновской армии двунадесяти языков в 1812 году. Об обороне Введенского острожка на нынешней Большой Лубянке, обороне, которая стала переломным моментом в цепи событий эпохи, речь шла ранее. Об эпизодах, разыгравшихся здесь же в Отечественную войну 1812 года, разговор пойдет ниже.
Но прежде обратимся к самому дому № 14 на Большой Лубянке.
Этот дворец представляет собой памятник истинно московского старинного каменного строительства, которое всегда руководствовалось правилом: если надо строить на месте, на котором уже имеются строения, то их не сносят подчистую, но в максимальной степени включают в новое здание. Поэтому дворец на Большой Лубянке в своем облике, в отдельных деталях планировки, фрагментах кладки сохраняет строительные элементы четырех веков.
Точное время постройки и имя архитектора, возводившего дворец, неизвестны. В современную искусствоведческую литературу он вошел под названием "Городская усадьба XVII-XVIII вв.".
В XVII-XVIII веках усадьба переменила много владельцев. В XVII веке после Пожарского ее владельцами были Хованские (по другим сведениям князья Голицыны). В конце ХVII – начале XVIII века участком владели Нарышкины, и вполне вероятно, что именно тогда на месте боярских палат было построено новое дворцовое здание. Специалисты находят в его декоре черты "нарышкинского барокко". Затем дворец перешел к князю А.П.Долгорукову, после него к князю Б.С.Голицыну. При Анне Иоанновне здесь помещался Монетный двор, при Елизавете – Камер-коллегия, ведавшая казенными сборами, одно время его занимал Немецкий почтамт. В конце ХVIII века дворец служил резиденцией турецкого посла. Среди его владельцев в этот период значатся имена князя М.Н.Хованского, камергера И.Г.Наумова, князей М.Н. и П.М. Волконских, княгини А.М.Прозоровской. При М.Н.Волконском была произведена перестройка дома; "согласно с желанием владельца, – пишет Снегирев, художники, стараясь придать старинному его дому все возможное великолепие, положили на нем отпечаток вкуса ХVIII столетия". Снегирев называет имена художников, которые "занимались украшением этих палат": "сперва славный скульптор Юст, а потом Кампорези".
Дворец перестраивался и в последующие годы, но сохраняя некоторые особенности "царских и боярских палат" и "особенный тип" дворца времени царствования Петра I. "Хотя в первом этаже, – пишет Снегирев, – отчасти сохранилось прежнее расположение комнат, но в некоторых из них, вместо коробовых сводов, сделаны потолки... Нижний этаж, прежде составлявший подвалы с коробовыми сводами, недавно обращен в жилые покои, где помещаются библиотека, аптека, кладовая и баня липовая; под ним находится небольшой подвал. Стиль фасада его не сходен с стилем задней части, сохранившей еще следы первоначального стиля здания, он древнее фасада, как можно судить по окнам с трехугольными сандриками и по закладенной обширной арке в средине, где, вероятно, был проезд".
В 1811 году дворец купил граф Федор Васильевич Ростопчин, в 1842 году его наследники продали дворец графу В.В.Орлову-Денисову, герою Отечественной войны 1812 года, с 1857 по 1882 годы дворцом владела известная богачка Д.А.Шипова, устраивавшая в нем роскошные балы, в 1882 году дворец приобрел купец Э.Ф.Маттерн, а в следующем году перепродал его "Московскому страховому обществу от огня", которое и размещалось в нем вплоть до 1917 года. Кроме того, флигеля сдавались под квартиры, здесь жили или бывали многие известные люди: историк М.П.Погодин, поэт Ф.И.Тютчев, купец и книгоиздатель К.Т.Солдатенков и другие.
Но, несмотря на столь блестящий ряд имен людей замечательных и интересных, в истории за дворцом твердо удерживается название: "Дом Ростопчина".
"Из них, – пишет в своей брошюре Снегирев о владельцах и обитателях дома, – особенно обращает на себя внимание Московский Главнокомандующий граф Ростопчин, сроднивший свое имя с судьбою Москвы в 1812 году... Если драгоценен для нас надгробный памятник над прахом великого мужа, то тем драгоценнее его дом, представитель его образа жизни и обихода, свидетель его дел и слов, предсмертных обетов, воздыханий и молитв. Там его немой прах, здесь его дух; там мрачно и таинственно, здесь все еще живо и очевидно. Редко кто посетит его загородную и уединенную могилу, которая только возвещает общий человечеству удел – тление; но всяк, кто пройдет мимо дома его, по большой улице города, невольно вспомнит знаменитого хозяина. (Ростопчин покоится на Пятницком кладбище, давно вошедшем в черту Москвы, и на дальнейшем нашем пути по Троицкой дороге мы посетим его. В.М.) Так жители с берегов Темзы, Сены и Рейна с некоторым подобострастием останавливаются пред домом графа Ростопчина в Москве и, указывая на него, говорят: "Здесь жил тот, кто сжег Москву, уступленную Наполеону".
Это было написано полтораста лет тому назад. Конечно, теперь "жители берегов Темзы, Сены и Рейна" здесь не останавливаются и не произносят тех слов, которые произносили когда-то. Но соотечественниками Ростопчина его имя не забывалось в прошлом веке и не забыто в нынешнем. Каждый, хоть немного заинтересовавшийся Отечественной войной 1812 года и особенно событиями, связанными с Москвой, в самом начале своих занятий встречается с ним как с одним из главных действующих лиц этой эпохи. Знают его имя и читатели самого читаемого романа Л.Н.Толстого "Война и мир", в нескольких главах которого говорится о Ростопчине, причем действие этих эпизодов происходит в его доме на Большой Лубянке и возле него.
Федор Васильевич Ростопчин принадлежал к той части московского общества второй половины ХVIII – начала ХIX века, которая играла огромную роль в жизни древней столицы. Этот круг составляли вельможи, по тем или иным причинам вынужденные оставить двор и из Петербурга переехать на жительство в Москву. Императрица Екатерина II относилась к этим москвичам с настороженностью и нелюбовью, подозревая в них намерение "сопротивляться доброму порядку".
Но в Москве к ним относились по-иному.
Н.М.Карамзин, вспоминая Москву екатерининских времен, вступает в полемику с императрицей. "Со времен Екатерины Великой, – пишет он, – Москва прослыла республикою. Там, без сомнения, более свободы, но не в мыслях, а в жизни; более разговоров, толков о делах общественных, нежели здесь в Петербурге, где мы развлекаемся двором, обязанностями службы, исканиями, личностями. Там более людей, которые живут для удовольствия, следственно, нередко скучают и рады всякому случаю поговорить с живостию, но весьма невинною. Здесь сцена, там зрители, здесь действуют, там судят, не всегда справедливо, но всегда с любовию к справедливости. Глас народа – глас Божий, а в Москве более народа, нежели в Петербурге.
Во время Екатерины доживали там век свой многие люди, знаменитые родом и чином, уважаемые двором и публикою. В домах их собиралось лучшее дворянство: слушали хозяина и пересказывали друг другу слова его. Сии почтенные старцы управляли образом мыслей".
О них пишет А.С.Грибоедов в "Горе от ума": "Что за тузы в Москве живут!.." Их вспоминает и А.С.Пушкин, заставший некоторых и любивший побеседовать с ними: "Некогда в Москве пребывало богатое неслужащее боярство, вельможи, оставившие двор, люди независимые, беспечные, страстные к безвредному злоречию и к дешевому хлебосольству".
В 1811 году, когда Ростопчин приобрел дом на Большой Лубянке, он проживал в Москве на положении отставного вельможи.