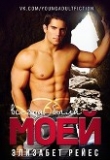Текст книги "Песок из калифорнии (СИ)"
Автор книги: Владимир Борода
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 11 страниц)
Все поломано, закрыто, исчезло с лица земли, лик Москвы изменен до неузнаваемости, родных людей ближе, чем в Западной Европе нет, как дальше жить – ума не приложу... Нужно еще разок забежать на Гоголя, символ нерушимости, хоть с Гоголями ни чего не придумали уделать, капиталюги...
Гоголь стоял, как всегда, памятником самому себе. По его непокрытой голове били крупные капли дождя. Дядя Вась сидел нахохлившись на мокрой скамейке и неуклонно трезвел. Дождь, как вытрезвитель мечтателей и пьяниц...На всем бульваре, в пределах ограниченной непогодой видимости, их было всего двое – Гоголь и он. Капли перерастали в струи, затем струи повисли сплошной завесой, по телу текло, как в душе, весь прикид напоминал раскисшую кучу тряпья возле помойки, Дядя Вась казалось, потерял какие-либо точки опоры, казалось еще немного, еще чуть-чуть и он просто растечется под тяжестью намокших шмоток.
На нем не было ни одной сухой нитки, хайр повис сосульками, обнажив неправильной формы череп, с многочисленными выпуклостями, шишками и какими-то вмятинами, усы и борода казались приклеенными пьяным гримером, клеша противно облегали ноги, которые до безобразия были худы...В шузах не хлюпало, так как в озерах не хлюпает... Почему-то расхотелось дальше жить... Может кинутся как-нибудь, лениво шевельнулось в мокрых мозгах, но что-либо предпринимать было лень...
Вот и погулял по прошлому, вот и устроил праздничек души, вот и справил безник, правильно все бумагомараки чуть что твердят – в Лету дважды не войдешь...Аж блевать охота, с такого безничка... Может головой ударится о Гоголя, так жалко, памятник жалко, весь в крови будет и мозгах...
Что же произошло все-таки с нашим героем-антигероем, Дядей Вась? А что же с ним может произойти в стране, твердо вставшей на путь новых экономических отношений? Ведь Родина хорошеет на глазах, изменения и позитивные реформы мелькают ежесекундно, и еже ли субъект, обладающий обыкновенным желанием и силой воли, захочет, так он же горы свернет! В стране есть с кого делать жизнь, пускай пророков немного, зато героев хватает! ежеминутно в Москве образовываются частные предприятия с туманным первоначальным капиталом, ежечасно выходят в печати книги маститых авторов об (смотри выше про капитал), ежедневно создаются шедевры отечественного кинематографа, на ту же тему, еженедельно проводятся с большой помпой различнейшие презентации... Устанешь перечислять достижения Родины...А тут какие-то рассуждения, рефлексия, да такие мелкие и на пустом месте, что впору заниматься ими психиатру, а не автору в купе с читателями. Тем более герой-не герой не раз там бывал, где от рефлексии лечат, от самокопания... Да и что ему самокопатся – в прошлом одна лишь грязь! беспорядочные половые связи, наркомания и алкоголизм, плюс бродяжничество, тунеядство и попрошайничество... Дерева не посадил, сына не вырастил, дом не построил... Учение не создал, учеников растерял, на крест не попал... Не может герой жить на Родине, пусть не живет. И должен автор наконец-то поставить точку, во всей этой затянувшейся истории. Пора.
Форпост нарождающейся новой России, Шереметьево-2, был полон скипающей в даль публики, естественно, прибывали и сюда, но в аэропорту не задерживались, а исчезали за горизонтом, где светились огни ночной Москвы.
В зале ожидания, под щелкающим табло, не было места для падения яблока... Свободных мест для ожидания тоже не было. Стоял ровный гул, похожий на прибой крымского моря перед штормом, изредка прерываемый особо крупными всплесками-криками.
Дядя Вась с размаху шлепнулся возле длинного ряда занятых сидений, шлепнулся прямо на пол, чуть чавкнув мокрыми джинсами. Сидевшая с краю, девушка грузинско-еврейских очертаний лица испуганно встрепенулась неожиданному соседу, столь не посредственно захватившего кусок жизненного пространства, девушка трогательно прижимала к симпатичным грудям сумку, видимо со всеми своими документами, столь трогательно, что хотелось сразу ее полюбить...
–Куда лыжи навострили, мадмуазель? -
тактично-интеллигентно поинтересовался дядя Вась у соседки, стараясь привести в относительный порядок спутанные и слипшиеся хайра. Та нервно хихикнула:
–На Родину предков...
–Искренне завидую... Я туда собираюсь лет двадцать и ни как добраться не могу. А жаль...
–Что же вам мешает? -
слегка заинтересовалась девушка, прекрасно понимая – в связи с цейтнотом времени на кадрешь не похоже, просто болит душа у мокрого человека, вон и запах спиртного есть...
–Многое. Лень, отсутствие силы воли, денег, менталитет поганый... Если бы вот вы ваяли меня да спрятали хотя бы в сумку...
–Я то с радостью, но вы сильно большой, -
засмеялась радостно девушка, открыв рот с прелестными зубами.
–Я то с радостью, но вы туда не поместитесь... Вы художник?
–Я?! Да, наверно художник...Художник, собственной жизни, от слова "худо", плюс скульптор-новатор, работающий по-какому-то-там-методу, видали на бывшем ВДНХа двух разнополых болванов, с серпом и молотом, так-то мое творчество...
–А я думала Мухиной, -
решила блеснуть эрудицией собеседница с прелестными зубами, но Дядя Вась уже потерял к ней интерес:
–Может быть и Мухиной, я не помню...
Вокруг гудел-шумел ночной аэропорт, все куда-то хотели улететь, багаж был отправлен вперед, только ожидалась команда к посадка...За стеклами вновь заплакало небо, оно видимо жалело своих сыновей и дочерей, бросающих его и желающих осесть под другим, более ярким и голубым...Над Канадой, над Канадой небо синее такое, меж берез дожди косые...
–А у вас глаза печальные, -
первая и вновь начала девушка, блистая на этот раз наблюдательностью. Он зевнул:
–Просто в них тоска всего народа.
–Так вы тоже...еврей?! -
с придыханием и радостью узнавания тайны, так как не придала сразу серьезного значение словам мокрого собеседника о земле предков, шепнула негромко отъезжающая на историческую Родину.
–Да нет, я хипарь... Тоска волосатого народца.. Все скипнули, а я идиот... Знаете такой анекдот?..
–Знаю, -
равнодушно ответила мгновенно почему-то потерявшая к нему интерес девушка и прислушалась к невнятице, несущейся с потолка.
–Мой рейс. Прощайте.
Речь стала отрывистой и решительной, как у...хер знает как у кого...
–Нет уж! До свидания, радость не моя!.
Дядя Вась попытался приподняться и обнять в последнем поцелуи-прощанье ускользнувшее тело, девушка исчезла, он остался совершенно один. В переполненном аэропорту... Усевшись на освободившееся кресло, прислушался-задумался...Вокруг шумело и гудело, что-то объявляли, все куда-то летели и спешили, с балкона насмешливо глядели на сумятицу и неразбериху российской действительности, на вселенский переполох, чистенькие иностранцы, которым не дано понять душу русского человека... Рвущуюся неизвестно куда... И только Ф. Достоевский смог разобраться в ней – убьет сначала старушку топором, а потом терзается, терзается, терзается...Совесть в нем так и булькает, так и булькает... Как прокисший суп... Сейчас бы оторвать мокрую жопу, оторвать вот так вот от кресла, Дядя Вась действительно оторвал названную часть тела от уже прилипшего кресла, под ним чавкнуло, и пойти вот так вот, толкая нерасторопных, и он действительно пошел, и пошел себе, расталкивая нерасторопных, ох ни чего себе, как у него клево получается, улет и только!..
Он сидел в кресле и смотрел себе в спину, которая все дальше и дальше удалялась от него среди толпы пассажиров, неужели не оглянется, сволочь, не попрощается, мы же с ним все-таки сорок лет знакомы были, и выпили не одну цистерну... Да и френдами были – душа в душу... Почти...
Дядя Вась оглянулся и увидел себя, оставшегося сидеть на коричневом дерматиновом сиденье, такого жалкого, длинного, с нескладным телом, не знающего куда деть руки-ноги, колени уперты почти в подбородок, кисти свешиваются промеж ног, подсохшие волосы напоминали паклю свалявшуюся, борода торчала куда-то вбок, все длинное тело было обтянуто потрепанными-попиленными шмотками, жалкими, как рубище, на секунду ему стало жалко бросать его, но он понял – если сейчас он не сделает этого – то уже ни когда не сделает этого...Жалкое и ничтожное зрелище (почти по Ильфу-Петрову) , пусть такое ничтожество здесь и остается, хотя жалко – сорок лет знакомы, ни один косяк вместе выкурили, да и френдами были, не разлей портвейн. Дядя Вась махнул рукой, прощаясь с самим собой и исчез в круговерти толпы... Среди пассажиров растворился, исчезло его длинная фигура в чуть подсохшем рубище...У него от жалости к себе навернулись слезы, гад, ушел и ручкой махнул, ни слова не сказал... Он шел весь такой элегантный и уверенный в себе, ловко управляя своим длинным и ладным телом, обтянутым по-модному клешеными джинсами, в меру обтянутом плаще, длинные ухоженные волосы придавали его худому лицу романтический антураж, бородка добавляла интеллигентности, усы бойкости и пикантности...Он слегка покачивал широкими плечами и все встречные дамы провожали его задумчивыми взглядами, он мельком оглянулся. – нет, не видать то жалкое зрелище, исчез, как дым, стерт с поверхности рассказа, а во взглядах встречных дам, что задумчиво провожали его взглядами, можно было прочесть многое, но на это не было времени...
–Ваши документы! -
строгий, но справедливый голос пограничника, бдящего и стерегущего, вместо собаки, нашу границу, оторвал его от мыслей.
–Пожалуйста, -
совершенно небрежно Дядя Вась предъявил справку с психдиспансера со всеми проставленными визами. Пограничник с уважением повертел ее в руках, заглянул на обратную сторону и предложил:
–Проходите...
и он прошел в накопитель. Накопитель, гнусное название, но за то красивая стюардесса, узкая металлическая лестница-трап, ведущая прямо в небо, уютное тепло авиалайнера, летайте самолетами, как ее сейчас называют, прежнею компанию "Аэрофлот", черт ее знает...Взревели моторы-турбины, вспыхнули за мгновение до этого многочисленные сигналы-тревожные огни на потолке "Ноу смокинг" и он взлетел... вместе со всей своей прежней жизнью и со всеми другими пассажирами, стюардесса тоже летела с ними...
Свободен!...
Одновременно со взлетом самолета рейс Москва-Париж от здания аэропорта отъезжала машина "скорой помощи".
Дядя Вась смотрел на стремительно удаляющуюся землю, он впервые был счастлив.
Часть вторая. ТАМ.
СЕМЬ ШТРИХОВ К РИСУНКУ "ПАРИЖ ЗИМНИЙ".
Рисунок выполнен углем на серой бумаге форматом примерно метр на семьдесят сантиметров, в которую когда-то давным-давно и в далекой от Парижа стране со свистяще-шипяще-рычащим названием – СССР, заворачивали в магазинах колбасу и сыр, когда те были... Позже стали заворачивать лишь «Мыло хозяйственное, 0,17 коп. за кус.»... Довольно таки мерзкое было мыло, но разговор не о нем. Рисунок прикреплен заржавевшими от дождей и редкого снега, кнопками к стене дома. Судя по мусору здесь когда-то стояло здание, а теперь от него осталась лишь одна стена с куском крыши и со следами перекрытий, каких-то труб и прочего хлама. Стена осталась лишь одной причине – за нею следующий дом.
От тротуара и собственно улицы пустырь с мусором отделен сетчатым забором, заржавевшим еще больше, чем кнопки, держащие рисунок. Дожди, дожди, дожди, редкий мокрый снег, зимой в Париже ужасно... Скоро рисунок будет смыт и останется лишь серый лист бумаги, со следами подтеков, каких-то пятен, весь покоробленный и вздувшийся...
Но пока еще можно, если перелезть через ржавую сетку и как-либо поднявшись н уровень второго этажа, разглядеть нарисованное. Изображена данная улица, на и торой расположен пустырь с рисунком, по-видимому зимой, такие же редкие прохожие норовят быстро пробежать продуваемое пространство и исчезнуть в теплой дыре кафе-бистро, по прежнему находящееся напротив, припаркованный «ситроен», старой модели, его-то и не видать, вывеску «Бистро», чуть теплящиеся фонари... Рисунок выполнен профессионально, со знанием дела, не побоимся сказать больше -талантливо, но несколько штрихов к рисунку не помешают, не испортят картины, а придадут большую выразительность, экспрессию, натуральность.
Штрих первый.
В Париже зимой холодно. И даже очень, если учитывать на какой широте он скотина, лежит. Из-под груды одеял и какого-то тряпья вылезать не хотелось, да и делать нечего... Идти некуда, холодно, с неба сыпет, с не заклеенного окна дует, комната огромна, с высоким потолком, бывшая столярная фабрика все-таки, он выгородил тряпьем себе уголок, но помогало мало. Холодно... Кто ж знал, что здесь такая херня – ни одного знакомого фейса, да какие к черту знакомые в этой дыре, фрез остались в Москве и Питере, доживают перестройку, входят в дикий капитализм постсовка... Просто ни одной приятной рожи, да и откуда им здесь взяться – панки, андерграунд херов, все навороченно-дранные, крутые до не могу, плюнуть в него и на хуй послать, ну и конечно, по западному приветливые – сова, сова и в сторону. Комнаты на этой фабрике чертовой захватили поприличней, в бывшем офисе, а ему на тебе Василий, что нам и даром не надо, фак им в душу...
Василий зашевелился, пузырь лопался, так хотелось в дабл, не вылезать на холодину было ломы. Бр-р-р-р...Ну и погодка сранная, что в Питере зимой, так там полный рингушник рингов, звякнул – не те, так другие вписали, на маге Боб, на столе вайн, косячишко-другой, а там глядишь и прилайфоватся-прифаковатся получится... А тут...
Василий скрипнул зубами и выставил из-под теплой защиты лицо. Холод полосанул почти как бритвой, аж выбило слезу. Ну блядство в этом сквоте вонючем, лопнешь, сдохнешь, и не одна сука, пока вонять не начнешь, не пошевелится... И какого хрена я не покатил осенью в Грецию с Лораном, гляди – там не так паскудно было б...
Василий задумался, грязные волосы длинными, слипшимися, свалявшимися прядями свесились ему на лицо, ширмой отгородив от неприветливой реальности... Давно не стиранная борода сбилась на бок, подбородок и шея под нею отчаянно чесались.
В закутке было темно и холодно, низ одной из ширм-штор, какие-то грязные тряпки он нашел на чердаке, шевелились от сквозняка, шузы, он знал точно – были холодные, холоднющие и сырые... Жить не хотелось...
Блин, а я летел, как в жопу наскипидаренный, Париж, свобода, интеллектуально-богемная тусовка, есть возможность блеснуть собою, поразить длинноногих парижанок знанием французского и дикими хипповыми манерами... Блядь, какая тусовка, какие парижанки, в Париже нет парижанок, только коровы с Эльзаса да и те морды воротят тупые...
Василий снова скрипнул зубами, переполненный хер знает чем мочевой пузырь, было затихший, вновь заныл и загрозился лопнуть, делать нечего, придется идти вниз, В их вонючий дабл, да сортир на бомжовом Казанском вокзале поприличней выглядит, по утрам после уборки, эти руки, сквотеры ебанные, уже кирпичи на пол положили, что б в собственном говне не утопнуть, ну бляди...
Штрих второй.
В Париже зимой голодно. Василий уже вторую неделю питался одними сухчайшими от старости багетинами, ломать которые приходилось через край подоконника. А за грязным стеклом, умываемом с той стороны струйками непрекращающегося дождя, горе, неоном реклама «Бистро»... Ну а там целыми днями жрали, пили и снова жрали, куда только входит, ну гады, эта тонкая мадемуазель уже во второй раз намылилась за последний час кофе пить... Ни о цвете лица, тварь, не заботится, ни о сердце, еще наверно с сахаром и пончиком, здесь они себя любят, а вес ночью сгонит, с каким-нибудь Жаном или Жаком, что б у них гандон лопнул...
Василий заскрипел зубами, натертые до крови старыми багетами десны болели, живот пучило, но уже второй день он не мог просратся – запор. Сейчас бы картошечки поджаренной, на сале, к черту вегетарианство, эту херню на Западе придумали, кто с жиру бесился, и он туда же, дожил до тридцати пяти, а ума придурок не нажил, какое к черту вегетарианство, если родился и вырос в Совке вонючем, вырвался на волю, либертуха пиплы, а жрать-то и нечего, спасибо буржуям – старые багеты выставляют в бумажных мешках после закрытия булочных, а так бы просто сдох бы от голода...
За окном серело небо, с него сыпалась какая-то гадость, снег пополам с дождем, Василий стоял возле окна, глубоко втянув голову в ворот старой дранной синтетической куртки, придерживая под горлом наброшенное на плечи одеяло. Мало того, холодно, еще в добавок постоянно жрать охота... Как он оттягивался в Крыму, по овощам да фруктам, м-м-м-м... Да че душой кривить, было и в Совке херово, на макаронах зиму тянул, но что б сухой хлеб глодать... Десны заныли больше, Василий осторожно потрогал кончиком языка нижний левый резец. Все, качается, второй зуб за зиму, а впереди еще два месяца минимум, а до чего два месяца, что изменится? Ну что? Ну на базаре фрукты выбрасывать будут и что? Как бомжара, клошар вонючий подбирать, а ведь летел в Париж полный надежд, как же – губу раскатал, ха-ха, язык знаю, оригинальный художник, из-за железного занавеса...А занавес-то тюлевый оказался, так-то балбесина, и опоздал ты минимум на десять лет, а максимум на всегда... И говна такого, как ты – хоть жопой жри, а от художников прохода нет, куда не харкнешь соплей, так писака... Или на заборе или на стенах в дабле или еще где... А в салонах места нет.
Василий резко откинул грязную прядь со лба и с ненавистью посмотрел сквозь мутное окно на бистро. Сейчас бы в хорошей замшевой, нет, замша промокает, кожаной куртке, целых джинсах, в теплых шузах и шляпе с широкими полями сидеть там, а большим стеклом, слегка облокотившись на мраморную доску стола, пить кофе с пончиком, выпускать клубы дыма из пенковой трубки и разглядывать со слегка ироничной улыбкой мадемуазель с тонкими ляжками... Десна заныла от неосторожного движения языка, Василий выругался во весь голос, от души, матом. И добавил, криво усмехаясь – идиот...
Штрих третий.
В Париже зимой сыро. Особенно если бывший столярный цех отапливается единственным камином, устроенным в шахте промышленного лифта. Эти придурки, сквотеры сранные, заклинили кабину лифта на уровне второго этажа, пробили в потолке лифта дыру и пожалуйста – топи сколько лезет, камина металлическая, дым просто на чердак уходит, и как только эта деревянная мастерская еще не вспыхнула, одному богу черту известно. Наверно насквозь пропитана водой... Одежда сырая, волосы и борода липкие и грязные, может быть липкие от грязи, а может быть и от сырости, ноги постоянно мокрые. Интересно, если б ударил мороз, сдохли бы здесь все наверно, вот бы кайф был бы...
Василий оторвался от окна и черных мыслей, подошел к камину. Граф облокотило на камин и прихлебывая бренди, задумался, нет, задумчиво глядел на языки пламени – вслух произнес он и выругался. Бренди, еб твою мать, сейчас бы портвешка вонючего, за милую душу, принял бы так 0,75 на каждый глаз и впал бы в нирвану, Василий сунул руку в черную пасть и пошарив среди остывшего мусора, вытащил относительно крепкий кусок угля. Стул был, вчера я его засунул в эту ненасытную пасть, жрет все подряд, морде горячо, а жопа мерзнет, вот сука...
На стене висел лист бумаги, серой, как оберточная, в Совке когда-то в такую заворачивали сыр с дырками, о жратве ни слова, лучше пересчитай не ржавые кнопки. Василий внимательно оглядел кнопки, пришпилившие лист бумаги к стене. Вчера еще было одиннадцать не ржавых, сегодня осталось девять... Сырость, сырость, сырость проклятая сырость, кругом сырость... Он всмотрелся недоконченный рисунок – улица, чуть намеченные фонари, вывеска «Бистро», а там жратва, заныли живот и десны, следом, вспомнилось давнее, фантастическое, давно забытое... Жратва, тепло, сухо вспомнился Крым, захотелось сдохнуть, Василий скрипнул зубами... Ну идиот, он искренне верил, что здесь-то он и раскроется, что здесь-то он и... галереи и салоны будут к его услугам, раскроют свои объятья, а его имя станет известным, кретин, жил бы и жил бы под Москвой у френдов на даче, рисовал бы для души и для быдла заграничного, продавал бы на Арбате, тусовался бы в Крым... Василий сухо зло расхохотался и швырнул кусок угля в рисунок, какой Крым, хохлы-поганцы суверенитет провозгласили, на Арбате мафия в спортивных костюмах заправляет, дачу друг продал и в бизнес подался, а в магазинах от нулей в глазах пестрит, и там херово, и здесь караул...
Штрих четвертый.
В Париже зимой одиноко. Особенно если ты не француз сранный, а бывший совок, прайса у тебя десять сантимов, щузы и куртка дранные, язык на уровне советской средней школы, правда одни пятерки по французскому были, но когда это было... и живешь ты сам в сквоте сыром среди подонков припанкованных, которые ни чем делится не собираются и ведут себя так, что якобы должен он, Василий, им спасибо говорить, за то что не выгнали под мост... Бляди... В Совке у него и френдов было навалом и герл. В разных городах...В «системе» олдовым считался, а это всегда пионерию привлекает, тянет молодую поросль к умудренному жизнью дубу... Дуб он есть, дубина стоеросовая, славы ему захотелось, прайса и известности, а теперь торчи тут у мокрого окна в холодном и вонючем сквоте, и любуйся, как другие в бистро френдят и фрилавничают...
Вон та толстая смуглая вчера с длинным носатым в кожаной куртке была, сегодня кофе пьет с каким-то седым козлом, а он ее за руку держит, ну сука, проститутка!
Все у него было – друзья, подруги, было кому позвонить, с кем поболтать, с кем переспать, все было, и все осталось в прошлом, одни воспоминания, но и те уже не греют, только раздражают... Последняя герла в Совке была у него перед самым от отъездом, на выставке одного мазилы он ее склеил, торопливая такая богемщица оказалась, все быстрей ей хотелось, все куда-то рвалась – жить, везде успеть, везде побывать... Интересно, успокоилась или нет? Василий прикрыл глаза и попытался помнить ее ими... Одна пустота, он даже не помнил – худая была или толстая, одна пустота да торопливость запомнились...
За окном снова пошел дождь, где-то внизу хлопнула дверь, видать эти сквотеры херовы на промысел пошли, красть, это они так с капитализмом борются, на баррикады пойти духу не хватает, так они по супермаркетам промышляют, ну революционеры ебаные, не даром тут и плакаты есть, и литература соответствующая – Маркс, Кропоткин, Троцкий... Можно было бы гордится, что русские мыслители их направляют и ведут, только какого черта тут гордится, плакать надо... А он в молодости с Лысым Филом, за бутылкой вермута болгарского, о Западе и свободе рассуждали, мечтали о цветочном братстве и празднике Любви, а тут... Суки-революционеры, крадущие по магазинам, дранные крутые быки и стриженные девки с замашками блядей... Дают вроде всем, но только не ему.
Штрих пятый.
В Париже зимой бесперспективно. Летом он хоть на что-то надеялся, куда-то хоть совался со своими рисунками, бился как рыба об лед, да еще своими эмигрантскими делами занимался, но кончились франки, зарядили дожди, где-то в метро оставил по рассеянности да под вермут местный свою заветную папку, порвались щузы и куртка, и пришел товарищ депресняк... Впереди не хера ни видать, впереди ни чего не будет, рождаться надо было не в Рязани, колыбели русской поэзии двадцатого века, а в Париже, и не в семье электрика и поварихи, а хрен знает кого... И учится надо было не на прикладном, текстильного института, а в какой-нибудь Сорбоне от искусства, то да бы к его тридцати пяти было б все...И слава, и прайса, и флет, и целые шузы... А так одно говно, и морду разбить за судьбу некому, правильно Боб поет – не прижжешь ей паскуде хвоста огоньком, вот и полная безнадега, депресняк долбает у который месяц, сейчас бы закинутся колесом да запить винцом вонючим, и забыться б хоть на мгновение, вспомнить бы все то, что было ништяк и в кайф, вспомнить лето, море, герл, френдов, траву, вайн, жратву, жратву, жр... Ну в рот ее пополам – смачно выругался Василий не известно в чей адрес и сплюнул. В уголках глаз щипало и он зло усмехнулся – ссать меньше будешь, уже как герла, ностальгия выбила слезу у эмигранта и он пополз на коленях к березкам... Какая на хер ностальгия, ебена вошь, да он плевал на эту помойку, Совок вонючий, Родиной зовется, ему бы совсем немного бы, хер с ней, с известностью, продавался бы немного, хоть чуть-чуть и все, так нет же суки, тут от мазил дранных, жопой рисующих и путающих Пикассо с Рембрандом кидать не перекидать... Он по лету, когда шатался с папкой заветной по галереям, щузы бил, насмотрелся на это творчество... Руки оторвать мало, а тем кто покупает – глаза повыбивать! Да на Арбате вчерашний слесарь талантливей пишет, сраку что ли подставляют хозяевам галерей эти писаки от слов писсуар...
Сейчас бы напиться, в смерть, в стельку, и по венам полосануть, лечь под тряпку и все. И все... Напоследок вспомнить всех, кого любил, с кем пил, с кем делился последним, и вперед. И все... И ни чего не будет больше – ни голода, ни холода ни сырости... Вечный кайф, порог, к которому он уже дважды подходил в своей жизне, было такое у него, и наконец-то он узнает, что же там так сильно сияет, аж глазам больно...
Штрих шестой.
В Париже зимой просто нет сил. Ни на что. Аскать ломает и больше чем полфранка в самом лучшем случае не дадут. И то не каждый. Воровать не умеею. Рисовать нет прикола, хотя этот рисунок просто обалденный, видимо его пик, умри, а лучше н напишешь...
Улица зимнего Парижа, реклама бистро, фонари, снег пополам с дождем и все отражается, ломаясь и дробясь, в лужах с мусором и в низких облаках. Автор Василий Румянцев, непризнанный гениальный художник конца двадцатого века...
Ни на что нет сил. Друзей нет, подруги нет, есть жилье. Поджечь бы его, но тогда точно только под мост. Денег давно уж нет...
Улица зимнего Парижа, реклама бистро, фонари, снег пополам с дождем и все отражается в лужах с мусором, низкие облака свинцового цвета нависли над всем эти и ни на что нет сил. Даже на жизнь. Сейчас бы закинутся бы каким-нибудь таким колесом, что б кони двинуть, так где его взять, а пилится нет сил, ни физических, ни духовных...
Ночью приснилась какая-то герла, лица он не разглядел, она его хотела, а у него ни на что нет сил... Проснулся заплаканный, но зато трусы сухие, дошел до ручки, уже ночью не приплываю, ребра торчат, совсем скелет стал...
Улица зимнего Парижа, реклама бистро, фонари, снег пополам с дождем и все отражается в лужах с мусором и в низко висящих облаках свинцового цвета, и совсем совсем непонятно – где рисунок, а где реальность, голова кружится, десны болят, шатается уже третий или четвертый зуб, ни на что нет сил, ни на что...
Зимняя улица, застывшая в лужах, фонари, тускло горящие на серой бумаге, кнопки, все до единой ржавые, реклама бистро, горящая неоном, низкие свинцовые облака, а по ним ползет рыжий таракан, ну а он то что в этом сранном сквоте жрет, интересно?..
Снег пополам с дождем и на рисунке и на улице, и ни куда от него не деться, и ни на что нет сил. Просто нет сил...
Штрих седьмой и последний.
В Париже зимой хуево. И мерзко... Но очень. И совсем не хочется жить. Особенно, если живешь в собачьих условиях. Хотя многие местные собаки живут в особенно крутых условиях. А бродячим собакам помогает какая-то херовая организация, обклеившая своими плакатами все станции метро, нет что бы о людях позаботится, суки... Шузнякам пиздец полнейший пришел, в бороде вчера вшу поймал, точно чесалась паскуда, мыться негде и холодно, тряпье воняет, как у заправского клошара, джинсы того и гляди сломаются от грязи, а про трусы лучше и не говорить... Носки давно сопрели и развалились на куски, ноги он газетами обматывает, видали бы его френды – не поверили бы своим глазам, неужели это он, Базиль, собственной персоной? да нет же, это просто какой-то бомжара вонючий с Комсомольской станции метро, ваши документы, да я паспорт начальник давно посеял, если не брезгуешь – держи справку со спецприемника... Василий Сергеевич Румянцев, год рождения 1962, место жительства город Парижск, третий колодец направо, хе-хе-хе-хе!..
Василий закашлялся, сильно, с надрывом, до боли в бронхах, до слез. Неужели еще и туберкулез, мелькнуло, так я совсем по штампам загулял – талантливый художник приехал покорять Париж и умер от туберкулеза в расцвете сил...
Василий оттер слезы и слезы, зло уставился в окно. В Париже зимой мерзко, особенно если третий день не курил, выходить в холодину и в лужи в рваных шузах ломает, ни жрать, ни срать багеты и от багет он не может, а разговаривает лишь сам с собой...
За окном шел или падал мокрый снег пополам с дождем, было или позднее утро или ранний вечер, фонари или не были еще выключены или уже их включили, редкие прохожие кутались в кашне и прятали свои французские носы в воротники, за стеклом бистро было тепло, уютно, сухо...Там веселились и жировали бляди и проститутки сутенеры и бандиты, наркоманы из среднего социального слоя и гомики... Там пропивались наследства и состояния, там... Василий захлебнулся слюной и с силой, со злобой, харкнул в стекло. В стекло бывшей столярной мастерской, расположенной на втором этаже. До стекла бистра было минимум десять метров... А жаль.
Клерк местного, 74 отделения «Лион Банк», Жан-Луи Сераль забежал после работы в бистро выпить чашку горячего кофе, перебросится парой слов с хозяином об мерзкой погоде. Хозяин бистро возвышался монументом за никелированной стойкой, монументом самому себе... Проглотив и довольно-таки торопливо, чашку кофе и слегка досадуя на то, что из-за избытка клиентов нет возможности посетовать на плохую погоду и получить заверения от хозяина бистро, что раньше зимы были намного лучше, Жан-Луи вышел на улицу. Ветер, снег пополам с дождем, дома гриппующий сынишка, теплая жена и обед, улыбка тронула тридцати пяти летнее бритое лицо клерка и запахнувшись в пальто, он устремился к желанному домашнему уюту... Сегодня жена обещала приготовить утку с картофелем и цветной капустой, м-м-м-м...
Василий понял – это обожравшийся прожигатель жизни, вмазавший в бистро пару-тройку «бурбонов», спешит к какой-нибудь бляде, а в портфеле у него что-нибудь пажрать-выпить для нее. Подождав, когда шикарно одетый мусье поравняется с ним, Василий рванул портфель к себе...
Задумавшись о гриппующем сынишке, он ему сегодня купил мягкого розового слона, вот будет радости малышу, Жан-Луи не сразу заметил неприятно выглядевшего клошара, заросшего бородой до самых глаз, как йети. Нашарив в кармане монету, вроде бы как франк, дам ему, пусть выпьет, сегодня особенно холодно, христианская мораль учит – делись с ближним... мысли разлетелись от рывка, правая рука, еще мгновение назад сжимавшая ручку портфеля со слоном взлетела вверх и... О боже, Жан-Луи вскрикнул – нет, нет, так нельзя, черт вас возьми!..