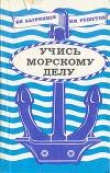Текст книги "Фантазеры"
Автор книги: Владимир Белов
Жанры:
Поэзия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц)
– Тетушка.
– Ты что, не питерский?
– Не питерский.
– Тетушка молодая, наверно?
– Нет, совсем старая, пятьдесят исполнилось. И жизнь у нее несчастливо сложилась: муж погиб, она с сыном осталась, еще совсем молодая была.
– Сын-то жив?
– Жив.
– Можно позавидовать ей.
– Чему завидовать? Вот вы молодая совсем.
– Может, ухаживать начнешь?
– Нет, не начну.
– Значит, хорошую девушку провожал. Верно?
– Верно.
– Да, видно, по ночам все кошки, как одна, серые. Ведь мне уже шестьдесят стукнуло. К двадцати годам у меня двое сыновей было: одному два года, а другой ползунок, а в двадцать три я мужа потеряла. Думала, жить не буду. А ребята пищат, голодные… Так я одна двоих поднимала. Вот всю жизнь и вожу трамвай по Питеру. Не жизнь, а одни звоночки… У твоей тетки муж на фронте погиб?
– Нет, упал. Сотрясение мозга, глупо как-то.
– Смерть глупой не бывает. Жил человек, нет человека. Знаешь, муж у меня был интересный: высокий блондин, из латышей. А я в шестнадцать лет совсем без зубов осталась – голод, и соли не было. Статная, правда… Семнадцать мне стукнуло, когда он меня на улице заприметил и давай ходить за мной. Куда я, туда и он. Из дому выйду, он тут как тут. Замуж зовет, а я ему: смотри, сколько хороших девок кругом. Он смеется: мне только ты нужна. Пять лет мы с ним всего и прожили. Бывало, когда идем по улице, соседи на нас пальцами показывают – счастливые.
Трамвай, подрагивая, летит через ночь. Женщина говорит в такт колесам.
Трамвай качнуло на повороте. Плавно движется рука на контроллере. Вагон летит в туман, в глубину улицы, в молодость этой женщины.
Юрка пытается представить и себя высоким блондином и как ходит он за Алькой по городу. Алька в школу, и он следом, сидит на ступеньках и ждет ее. Мимо пробегают мальчишки и девчонки, Альки все нет и нет…
Женщина медленно поводит плечом:
– На ногах засыпаешь, курсант.
– Нет, я не спал. Вы про мужа рассказывали, я задумался. Почему он умер так рано?
– Под ток попал. Хоронили всем заводом, речи произносили. И осталась я с двумя на руках, один другого меньше. Старший Сережка, младший Алешка – серьезные мужички. Алешка – копия отца.
Я на работу, а они дома. Соседка только заскочит, сунет им обед, и за то спасибо.
Сережка рано говорить начал, а Алешка все молчит и молчит.
Я уж врачам показывала, не болезнь ли какая. Врачи говорят, все в порядке, а остальное время покажет. Одно странно: Сережка всегда знает, что Алешке надо. Делаю, как он скажет, вижу, младший доволен. Алешке четыре года уже, и ни слова. Сережке шесть, он за двоих разговаривает.
Вышла я как-то за дверь, вдруг слышу, Алеша говорит, только как-то по-своему. Вошла, тихонько стою слушаю, но делаю вид, что внимания не обращаю. Алешка примолк, на меня косится. Видит, я своим делом занята, и дальше залопотал. Сережка отвечает ему, словно на иностранном языке. Прошло немного времени, спрашиваю я Сережу, о чем с Алешей разговаривал. Сережа складно, будто переводчик из «Интуриста», все рассказал.
Я к врачу: так и так, мол, говорят мои сыновья между собой на непонятном языке. Врач смеется, однако пришел, послушал, потом какого-то ученого привел. Тот и говорит: «У вашего старшего сына явные лингвистические способности – к языкам, значит. Младший у вас стеснительный, не все выговаривать может. Вот старший ему и пришел на помощь, и создали они свой собственный язык; не очень богатый, правда, но им хватает».
«Наверное, когда двоим хорошо вместе, у них всегда возникает свой язык. Жалко, что у меня нет младшего брата. Маме было бы веселее, и не писала бы она мне письма два раза в неделю, на которые мне нечего отвечать. Все, что происходит в училище, есть военная тайна. Про Альку маме не напишешь… А у нас с Алькой тоже ведь есть свой язык».
– Я испугалась, спрашиваю: что же дальше будет? Ученый холодно так отвечает: будет больше контактов, и мальчик заговорит нормально, а вообще во всем виновата мать – мало разговаривала с ребенком.
Тут села я прямо на пол посреди комнаты да и заревела. Ну когда я могла с Алешкой разговаривать? На работе восемь часов, потом купить, приготовить да пойти еще в пару домов постирать. Пенсия за отца небольшая.
Посмотрел ученый вокруг, про зарплату спросил, про мужа, прощения попросил… Ребятишек помог в детский сад определить. Сразу полегче стало. А насчет лингвистических способностей профессор точно сказал. Сережка в школе немецкий язык знал отлично. Еще историей увлекался. У Алешки пошел математический уклон.
Вот старая я сейчас, а до сих пор помню: нравилось мне в школу на классные собрания приходить. За двенадцать лет слова плохого о сыновьях не слышала. Бывало, конечно, всякое. Сережка в десятом такое выкинул… Надо же, восемнадцать лет парню было, скоро школе конец. Весна, окна открыты, а он – раз, и на подоконнике на четвертом этаже стойку выжал. Девочке, видишь ли, понравиться захотел. Как рассказали мне, так ноги у меня как не мои. Полчаса в учительской отсиживалась. Пришла домой, достала отцовский ремень. Первый раз достала, да как вытяну Сережку вдоль спины. Он стоит бледный такой и говорит: «Прости меня, мама, я не подумал, мама».
Алешка, тот в науку ударился, взрыв какой-то в химкабинете устроил, опыты, видите ли, ставил. Стекла из двух рам начисто вылетели. Разбирать на педсовете хотели, но тут за него Алексей Ильич, химик школьный, вступился. Сказал, наука требует жертв, и школа еще будет гордиться, что в ее кабинете Алешка тем взрывом стекла выставил.
А мне проще стало: мальчишки взрослые. Все хозяйство почти сами вели. Чтобы пол мыть или убираться – мне об этом и думать не приходилось.
Колеса стучали в лад рассказу, заполняя паузы, связывая фразы тонкой нитью.
– Вот такие у меня Сережка с Алешкой. А тебя-то как зовут?
– Юрка.
– Заговорила я тебя совсем. Старому, знаешь, приятно молодость вспомнить. Давай притормозим, стрелку надо перевести.
Женщина взяла ломик, медленно спустилась на землю. Дрогнули рельсы, раздался негромкий щелчок, и над городом, словно услышав команду, начал подниматься рассвет. Женщина выпрямилась, и Юрка увидел ее лицо. Она была, наверно, очень красива в молодости. Алька тоже будет всегда красивой, она вообще не состарится.
Вожатая встала у контроллера, как капитан у руля. И трамвай послушно побежал вдоль серой шеренги домов, подравнявшихся к подъему солнца. А женщина молча смотрела вперед, и казалось Юрию, видит она свою молодость и сыновей.
Теперь она, видно, живет одна, но приходят письма и приезжают внуки, а может быть, она ездит в гости на другой конец Ленинграда.
Сергей, очевидно, стал выдающимся лингвистом, Алексей – известным химиком или математиком. У них нормальные штатские профессии, которые приносят людям пользу, и никогда никто им не говорит «что за странное занятие быть военным в мирное время». И Юрий спросил:
– Куда ваши ребята пошли после школы?
Женщина, помолчав, улыбнулась печально:
– Сергей все историей и языками увлекался, даже я с ним вместе иногда исторические книги читала, чтобы не отставать в развитии. До сих пор историей интересуюсь.
«А куда пойдет Алька? Может быть, станет искусствоведом, может, биологом. А может быть, не пройдет по конкурсу и будет работать где-нибудь, и я буду встречать ее у проходной».
– Так вот, читали мы с Сергеем книги по истории. И пришел Серега к такому выводу, что скоро будет война, война, в которой техника потребуется. Школу он кончил в тридцать восьмом году и пошел по комсомольскому набору в училище имени Дзержинского. Алеша за братом следом.
Я в субботу, бывало, сяду к окошку и жду, когда мои морячки из-за угла покажутся. Старались они приходить всегда вместе. Алешка занимался отлично, видно, в свою стихию попал. Сереже училище труднее давалось. Бывало, и двойку схватывал, и с дисциплиной у него не ладилось. Алешка придет домой: «У Сергея сегодня по турбинам прокол. Тебе, мама, привет, обещал исправиться. А я сейчас к Люсе схожу, предупрежу ее, чтобы не ждала понапрасну».
Сергей-то мой гулена первостатейный был, и в кого такой уродился – не пойму. Зато Алешка ни с одной девушкой по улице под руку не прошелся, хотя у него была одна зазноба. Любил ее Алешка мой, только она об этом даже и не знала. Он как был в детстве, так и остался молчаливый. Бывало, соберутся у нас ребята, девушки, танцуют, поют, в коридор бегают целоваться. Алешка как сядет в углу у патефона, так его с места и не сдвинешь. А он красивее Сереги был – тонкий, высокий.
«Повезло человеку… Только, верно, и я для мамы самый красивый».
– Знаешь, я так привыкла, что приходят они в субботу и воскресенье, что и сейчас сажусь вечером и жду. Как выйдут из-за угла курсанты, так мне кажется – мои. Только теперь палашей не носят. Правильно я в ваших делах разбираюсь, Алеша?
– Правильно, – тихо сказал Юрий и почему-то не напомнил женщине, что зовут его не Алеша.
– Вот и хорошо, что правильно. А теперь тебе пора выходить, посмотри-ка по сторонам.
– Подождите, но ведь мы катим прямо по Васильевскому, вы же говорили…
– Правильно, говорила. Но надо же было такого отчаянного кавалера на место доставить. Да и тетушка, какая она ни старая, а взволнуется, коль проснется, а тебя на месте нет.
– Большое спасибо. У вас неприятностей не будет?
– Не волнуйся, кавалер, у нас ночью дисциплина не такая строгая, да и что с меня, старухи, за спрос? Я на пенсии. Вот попросят девчата в ночную, ну я их выручаю по старой памяти, сама, хоть недолго, а молодой была.
– Спасибо. Только вам же лишнее работать. Устанете.
– А мне нужно уставать, юноша, а то сон не идет. Зато как засну, мне иногда молодость снится и просыпаться не хочется. Вот устроили бы ученые так, чтобы хороший сон, как кинофильм, несколько раз смотреть можно было. Смотрела бы я сны по собственному выбору. Так не дошла ведь наука, верно?
– Верно.
«А мне Алька все время снится Под утро», – подумал Юрка и вслух:
– Сыновьям от меня курсантский привет.
– Спасибо, милый, только сыновья мои с сорок второго года на Пулковских высотах лежат со своими друзьями. И знаешь, что мне всего обиднее, что Алешка-то ни разу в жизни с девчонкой не поцеловался. И все я думаю, что это из-за меня, неразговорчивый он был, мало я с ним разговаривала в детстве.
– В сорок втором на Пулковских высотах, – машинально повторил Юрка.
Дрогнул на рельсах трамвай, пошел вдоль линии, набирая скорость. Трамвай звенел далеко, и казалось, что человек с колокольчиком бежит по городу. А Юрий так и остался стоять на Большом проспекте в двухстах метрах от дома.
Алеша, Сергей легли в сорок втором на Пулковских высотах, защищая Питер, Ленинград. О них в архивах остались лишь короткие строчки приказов да память матери. Теперь рассказывают легенды, как мальчики из Дзержинки, не кланяясь перед пулями, ходили в штыковые атаки. Они не знали правил пехотного боя, они изучали устройство корабля и строение металлов, но они знали: моряков фашисты называют «шварцер тод» – «черная смерть». И мальчишки шли в штыковую, закусив ленточки, беспомощные и непобедимые. А тоже ведь поначалу были они военными мирного времени.
Кем бы они были сейчас? Может, Сережка стал бы адмиралом и даже начальником нашего училища. Он бы наверняка понял курсанта Черкашина, сам небось стоику на подоконнике жал.
Юрка прислушался, и ему показалось, что город тихо запел песню погибших курсантов.
Мы мечтали:
Встретим ураганы.
Встретим смерч
И все равно пройдем.
Мы идем
С умолкшим барабаном,
Навесным
Расстреляны огнем.
«Я расскажу об этом Альке, расскажу ребятам в роте. И каждую субботу, когда женщина сидит у окна, мы будем приходить к ней».
Юрка взмахнул рукой, и где-то у самого ребра трепыхнулось все еще не прочитанное письмо. Юрка расправил письмо.
«А маме я теперь буду писать два раза в неделю про что угодно: про то, какое течение у Невы, про то, как львы напротив Адмиралтейства стерегут свои шары, и, может быть, даже про Альку».
Он вдруг вспомнил, что не знает ни имени, ни фамилии, ни адреса женщины, не видел даже номера трамвая.
Все равно ее можно найти: не так уж много трамваев бродит ночью по городу, только надо запомнить, какое сегодня число.
ДОН-КИХОТ
Я хандрил, и не было охоты
Становиться лучше и смелей.
И тогда купили Дон-Кихота
Мне друзья за несколько рублей.
В драной шляпе с книгою и шпагой
Он стоит на письменном столе.
Побывав в тяжелых передрягах,
Верует: есть правда на земле.
И, взмахнув чугунного рукою,
Мальчиков на подвиги зовет.
Я услышал голоса прибоя
Прямо в переулке у ворот.
Шалый шторм, и парусники в пене.
Мы, вопрос поставив на ребро,
На большой решаем перемене,
Что такое честность и добро.
На уставах армии и флота,
На широких лапах якорей
Я бы выбил: «Шпага Дон-Кихота —
Лучшее оружие людей».
РЕДАКТОР, ЛЕВКА И ТРЕНЗЕЛЬ
Редактор – это я. Трензель командует нашим взводом, а Левка – мой большой друг. Он из породы способных лентяев. Это те, кому все дается легко, и поэтому они не привыкли работать.
Способные лентяи появляются в школе, когда с ребят, более одаренных, спрашивают столько же, сколько с остальных, словно вместе с форменной фуражкой всем выдаются одинаковые головы. Я давно собираюсь написать об этом статью в большую газету.
Не знаю, как живется редакторам больших газет, наверное, по принципу: большие дети – большие хлопоты. Если так, я им не завидую. Во всяком случае, быть редактором факультетской газеты сложно. Вот и с Левкой мы поссорились из-за карикатуры.
Было два рисунка: первый – Лев, проснувшись в конце семестра, делает прыжок и цепляется хвостом за тройку; второй – Лев ходит по клетке и смотрит в окно на трехцветный шарф.
Трехцветный шарф носила Левкина девушка. Она приходила под наши окна, когда Лев оставался без увольнения. Об этим знали все курсанты и дежурные офицеры.
Она была стройна, как мачта, порывиста, словно парус под резким ветром. Вымпелом на быстрой бригантине реял знаменитый шарф. Все наши курсанты мечтали о девушке, похожей на нее.
Трехцветный шарф художник дорисовал, когда я приболел и газету вывесили. Левка зашел ко мне, щелкнул каблуками и бросил небрежно: «Однако ты совершил колоссальное математическое открытие… научился, сохраняя прямую идеальной выправки, гнуться дугой перед начальством». Я ответил ему на высоком уровне, и мы расстались. Известие о нашей ссоре потрясло факультет, как землетрясение.
Левка – дьявольски способный парень, и, по-моему, он не смеет забывать об этом. У Левки на этот счет иное мнение. Когда они были в девятом классе, девушка с трехцветным шарфом намекнула ему, что быть круглым отличником неприлично. Левка принял это за аксиому, но перейти в разряд отстающих ему было непросто: мешала «проклятая эрудиция». О двойке Левка мечтал, как пятиклассник после морских романов о трубке и пистолете. К десятому классу Левка уже научился получать все оценки, предусмотренные министерством просвещения.
Девушка испугалась результатов своей агитации. Чтобы утешить, поцеловала его после первой двойки за четверть и попросила помочь ей готовиться в институт. Левка помог и сам, прилично закончив школу, сдал вступительные экзамены в наше училище. Но агитация не прошла бесследно. Сейчас девушка пытается «перевоспитать его обратно», потому что очень грустная штука – свидание через окно.
А сегодня, когда я пришел из санчасти, Левка даже не смотрит в мою сторону. Ребята, подтянув ремни и поправив синие воротники, отправились на занятия по навигации. Я на правах больного освобожден от занятий и решил чертить: пока болел, у меня вырос «хвост», как у древнего ящера.
Неожиданно Левка тоже остался в классе, закрыл дверь на ключ, повесил на ручку тряпку – теперь дежурный офицер не может мимоходом заглянуть и увидеть нас. Но у старшины есть ключ, а за пропущенные лекции еще никому не выносили благодарности. Левке тем более рисковать не стоит: у него и так достаточно всяких неприятностей.
Он начал свой список взысканий еще на первом курсе. На втором, когда к нам пришел новый старшина, Левкина жизнь стала совсем скучной. Старшина прочитал наши аттестации и решил сделать из Левки человека. А Левка решил сделать человека из старшины. Это дается сложно обоим. Они часто стоят друг против друга, похожие на двух закадычных друзей. Оба невысокие, светлоголовые. У Левки волосы ежиком, тонкий нос и огромный чистый лоб. У старшины волосы, как у молодого барана, нос разлапист и вздернут, на лбу три параллельные линии. У Левки смешная фамилия – Капелька, у старшины – Трензелев, сокращенно Трензель. Их «дружеская» беседа иногда продолжается довольно долго. После нее, как правило, Левку можно застать в гальюне за уборкой.
– Сегодня Трензель начальник караула. При обходе постов он может заглянуть в класс, – роняю я.
Левка пожимает плечами:
– Он мне вчера организовал занятия по уставу, думаю, сегодня его бдительность притупилась.
Левка тоже устраивается чертить. Обычно он сидит передо мной, а сейчас ушел в другой конец класса, укрепил доску так, что я вижу только, его макушку.
Первый час окончен. За дверьми гудит перемена. Нехитрая штука – черчение, а проглатывает время, как удав кролика. К концу недели я разделаюсь лишь с первым заданием, а впереди еще одно. Оно несложно, но когда?.. Распорядок дня жесткий: лекции, наряды… Значит, минимум две недели мне сидеть без увольнения, заменяя театр и танцы лишней порцией компота.
Левка чертит, тихонько насвистывая. Так проходят четыре часа.
Мы не слышали, как щелкнул замок. Дверь распахнулась, словно зев чудовища. На пороге стоял Трензель, похожий на пуделя, сделавшего стойку.
– Вчерашние друзья сидят по разным углам.
– Это, кажется, не запрещено уставом, – парирует Левка.
– Почему вы в классе? – поворачивается ко мне старшина.
– Освобожден на сегодняшний день по болезни.
– А вы, Капелька?
– Проявляю творческую инициативу, – говорит Левка, сворачивая чертеж.
– Чтобы у вас для нее осталось больше времени, даю вам десять суток без берега.
– Есть десять суток без берега, – дрогнувшим голосом повторил Левка, смерив презрительным взглядом Трензеля с головы до ног.
Старшина напрягся, казалось, он хочет стать выше ростом. Но за взгляд не сунешь наряд вне очереди. Трензель шагнул вперед, он не мог сейчас уйти из класса, это было бы похоже на бегство.
– Курсант Капелька, вы считаете себя очень умным, а не можете простить людей, которые говорят вам правду. Вы обиделись даже на своего друга, когда появилась карикатура. Вы готовы бросить любого в беде, если он вам скажет, что вы не правы.
В эти минуты я ненавидел старшину. Пусть Левка не прав, пусть мы в ссоре. Трензель не смеет так говорить: Левка никогда не бросит никого в беде.
Старшина подошел вплотную к столу, развернул чертеж, над которым только что работал Левка. На щеках у Левки расцвели красные пятна.
– Лист сделан хорошо, – глухо сказал Трензель. Он повернулся резко и уже в дверях бросил Левке: – В увольнение вы пойдете…
Негромко щелкнул замок.
– Левка, что потрясло старшину в твоем чертеже? Может быть, вместо деталировки ты спроектировал новую ракету?
Левка растерянно трет переносицу. А я смотрю на чертеж. Ничего особенного, деталировка как деталировка. Но почему она совпадает с моим вторым заданием? На углу штампа вижу: четкими буквами выведена моя фамилия. Так вот почему исчезли мои эскизы.
– Левка… Ты зря…
– После болезни необходим свежий воздух, это мне еще мама объясняла…
Левка отвернулся и смотрит в окно. Над Ленинградом идет пушистый добрый снег. Мы снова пойдем вместе в увольнение, будем бродить по заснеженным улицам, неожиданным, как открытие…
В субботу к курсанту нашего взвода издалека приехал отец, а курсанту заступать в наряд. Мы бросили жребий, кому заменить его. Выпало мне. Левка один ушел в город. Но разве это самое главное?..
ФАНТАЗЕРЫ
Хроника одной жизни
Часть первая
БАРАБАНЩИК ВОСЬМОГО ОТРЯДА
ЮБИЛЕЙНАЯ ТРЕВОГА
Отливы,
Шелестящие приливы,
Кассиопеи тонкая свеча.
На ветках неприступные павлины
Так жалобно мяучат по ночам.
В четыре ночи
Из последней мочи
Дал репродуктор бомбовозов свист.
В четыре ночи,
Ах, в четыре ночи
Трубит тревогу маленький горнист.
Припомнилося
Лето в сорок первом:
Спал пионерский лагерь под Москвой.
По тишине, по лесу и по нервам
Ударил черных бомбовозов вой.
Да, бомбы…
Настоящие разрывы
Подняли землю около траншей,
И охнули поваленные ивы
У корпуса веселых малышей.
Мелькнули дни, как тоненькие спицы
На звонком, словно бубен, колесе…
Пусть никогда ребятам не приснится
Полуторка на вздыбленном шоссе.
Тревога!
Юбилейная тревога!
И слышен топот загорелых ног.
А над горою из большого лога
Уходит в небо золотистый рог.
Шевелит бриз
Брезентовые крылья,
Над парапетом вздрагивает лист.
На целый свет,
На все морские мили
Труби тревогу, маленький горнист!
1
Пушок скользящей походкой, помахивая белым хвостом, подошел к пианино, потерся боком о Юрины ноги, посмотрел в черное зеркало под педалями и сказал: «Гав!» «Гав!» – тонко срезонировали струны.
Пушок прислушался, вскинулся свечкой, не удержал равновесия. Передние лапы упали на клавиши – загремел гром, и вниз полетели сосульки.
– Прекрасный аккорд, – сказал Юра. Пушок, наклонив голову, слушал, как существуют отдельно гулкий гром, звон сосулек, звонкое «гав» и голос хозяина. Юрий тоже наклонил голову, рассматривая белую мохнатую морду.
– Пиши вместо меня музыкальные диктанты, – попросил Юрий.
Пушок чуть улыбнулся, обнажая розовые десны и белые точеные зубы, подпрыгнул и лизнул хозяина в гладкую смугло-розовую щеку. Рукавом кремовой рубашки Юра вытер лицо, взял Пушка за белые бакенбарды:
– Вот придет бабушка, и начнется такая оратория: «Инструмент и собака – кощунство; дворняжка лижет лицо – глисты; урок по музыке не готов – позор!» Но разве могут быть глисты у такой белой собаки? И потом ты совсем не дворняжка, а помесь: папа – шпиц, а мама – лайка. Зимой будешь меня на санках возить по Гоголевскому бульвару, все ребята попадают от зависти.
А если ты и дворняжка, тоже не беда: дворняжки бывают намного умнее породистых, только неизвестно, чего от них можно ждать. Мама утверждает, что от меня можно ждать чего угодно, и если так, то я тоже дворняжка. – Юра похлопал Пушка по шее, встал и начал укладывать ноты в большую синюю папку.
Улица Воровского, греясь на весеннем солнце, лениво тянулась от Арбатской площади до площади Восстания. Грузовики и автобусы обходили улицу стороной, лишь длинные элегантные машины замирали у ворот посольств и потом исчезали в тенистых загадочных дворах.
Улица Воровского – ось Юркиной жизни. По одну сторону – родной дом, по другую – переулки, ведущие в школу. На одной стороне просохший асфальт расчерчен белыми, синими, красными квадратами, и по ним прыгают легконогие девчонки. По другой стороне гуляет легендарный генерал Ока Городовиков. Он невысок, кривоног, черными щетками торчат в разные стороны усы. Милиционеры у посольств отдают ему честь.
Юра идет к площади Восстания, щурит глаза от солнца и неожиданно слышит: «Доватор!» Оглядывается. Перед ним широкоплечий Николай Картонов собственной персоной.
– Гуляешь?
– Ага. Скажи, Коля, идти мне на музыку или нет? Домашнее у меня…
– Не мучайся и не ходи. В Театре киноактера спектакль мировой: «Черемыш – брат героя».
– А билеты?
– Зачем? У тебя папка нотная и сам весь отглаженный, так пропустят.
У входа в театр толпа. Людской водоворот выносит Юру прямо к контролеру.
– Билеты? – спрашивает полная женщина.
– Сзади, – отвечает Юрий. И в следующее мгновенье слышит опять: «Билеты». И знакомый голос произносит: «Впереди».
Потом они вдвоем сидят в первом ряду партера – там всегда остаются пустые, забронированные для кого-то места. Поднимается занавес, и Юрий забывает о контролерах, о пропущенном уроке и даже о Пушке.
Черемыш хороший парень: и храбр, и на коньках бегает как надо. И вполне понятно, почему он придумал себе такого знаменитого брата – одиноко человеку было. Когда родители долго задерживаются на работе, Юрке тоже бывает одиноко. А когда все дома, все в порядке, а иногда мешают даже. Странно все это…
Домой шли медленно. Картонов гнал ногой обломок сосульки и рассуждал:
– Парень, можно сказать, жизнью рисковал. Вот и взял бы его этот летчик по-настоящему в братья. Все за честность борются, а понять человеческую душу не могут.
Юрий вздыхает, он согласен с Картоновым.
«Вот из окна виден Дом полярника. Во дворе ходят слухи, что там живет сам Кренкель, знаменитый полярный летчик Шевелев, исследователь Арктики Ушаков и много других героических людей. Взяли бы они себе по десятку братьев из соседних дворов. Почему родители вовремя не подумали, что необходим человеку старший брат? – Юрка вздохнул, изо всей силы ударил толстенную сосульку, скривился и запрыгал на одной ноге: – Вот жизнь – нет знаменитого брата, и палец отшиб ни за что ни про что».
2
Юрка проснулся рано. Три пионерских галстука висели на спинке стула. Самый красивый – шелковый, это подарили на маминой работе. Сегодня принимают в пионеры.
Вскочил, распахнул окно, взял бинокль: на Спасской башне блеснули стрелки циферблата.
Странно устроена жизнь: время то тянется, как резина, то летит истребителем. От первого звонка до торжественной линейки оно тянулось, а потом до проходного церковного двора так и летело.
– По чьему двору ходишь?! Или жизнь не ценишь?
Юрий остановился. Медленно, чтобы не помять, снял пионерский галстук и сказал мрачно:
– Давай, Глобус, один на один или до лопаток, или до первой крови.
Глобус ухмыльнулся, он любил повозить противника по асфальту. А на кулачки с ним не рисковали – каждый кулак у Глобуса был с глобус. Поэтому те, кто нарушал суверенитет проходного двора, предпочитали с Глобусом не связываться, а получать взбучку от его подручных.
Коля Картонов взял у Юрия ранец и галстук и хмуро шепнул:
– Зря, Доватор. Вдвоем мы против них неплохо бы постояли, а так Глобус тебе натрет затылок.
За спиной Глобуса полукруг ребят, за Юркиной спиной только Картонов. Но это неважно – драка один на один, условия соблюдаются свято.
– Начали, – сказал Сеня Сивый, левая рука Глобуса, и подбросил кверху грязный носовой платок.
Глобус лениво потянулся, подвигал руками. Юрка знал – Глобус давит на психику. Юрий тоже повел плечами, помассировал чуть наметившиеся бицепсы. Глобус посмотрел недоуменно. Юрий ответил пренебрежительным взглядом. Глобус прыгнул, но Юра, свернувшись калачиком, кинулся под ноги Глобуса. Глобус рыбкой полетел вперед и, ошарашенный, сел на землю. Доватор вскочил мгновенно, опрокинул Глобуса на лопатки.
– Готов! – крикнул Картонов.
Сеня Сивый махнул платком, утверждая Юркину победу, и величественно разрешил: «Идите».
Юра неторопливо завязал галстук, взял ранец, и они медленно двинулись к воротам, спиной чувствуя тяжелый взгляд Глобуса.
Вышли на улицу – навстречу Ока Иванович Городовиков. Не сговариваясь, отдали ему салют. Городовиков приложил руку к козырьку, потом потрогал кончик уса, ус согнулся и стал похож на кисточку, которой Юра рисовал заголовки для классной стенгазеты. Ока Иванович посмотрел на Юрин отглаженный галстук, на пыльную половину рубашки и улыбнулся. Юрию показалось, что он все понял.
Через час Юра с Николаем ходили вдоль серого здания Военторга и отдавали салют всем военным. А те, будто понимая, что у ребят необычный день, строго вскидывали руку к козырьку. Тут были пехотинцы и летчики, танкисты и артиллеристы и даже один моряк.
3
В Мячкове, в пионерском лагере Московского автозавода, над которым шефствовала кавдивизия, лагерная дружина давала концерт для кавалерийского эскадрона, разбившего свои палатки недалеко от лагеря.
На дощатую эстраду, сбитую на краю большой, окруженной соснами поляны, перебросив тяжелую косу за спину, поднялась пионервожатая второго отряда Елена Прекрасная – так ее называл весь лагерь. Она подняла ладонь, и все затихло, и вскинул голову молодой командир с двумя кубиками в петлицах. Лена объявила:
– Наш барабанщик восьмого отряда Юрий Доватор прочитает стихи.
Юра почувствовал, что Лена положила руку ему на затылок, хотел обидеться, но гордо посмотрел на публику и начал. Слушали молча. А когда Юра, шагнув вперед, прочитал:
И если страна не захочет,
И если страна запретит,
Никто под водой не проскочит,
Над облаком не пролетит, —
словно вздох прошел по рядам. И широкоплечий лейтенант согласно кивнул головой.
Спрыгнув с эстрады, Юра увидел, что лейтенант показывает ему на место рядом с собой:
– Садись. Кавалерист Доватор тебе кем приходится?
– Не знаю, – сказал Юрий честно. Но ему показалось, что лейтенант огорчен, а Юрию никого не хотелось огорчать, и он добавил: – Наверное, дядей.
«А хорошо бы действительно дядей, – подумал Юра, – а то мои… Один – врач, к тому же профессор, к этому слову ребята обязательна добавляют: «кислых щей». Другой и «солнце» на турнике крутит, и стойку на стуле жмет, но кончил строительный институт. Не мог разве пойти в какую-нибудь бронетанковую академию?»
А командир улыбнулся:
– Тебе повезло на дядю! Моя фамилия Почетков, Михаил Почетков.
Юрию показалось – лейтенант прислушивается к своей фамилии, мысленно примеряя, как она будет звучать в сочетании «комбриг Почетков».
– Ты тоже кавалеристом будешь?
Хотелось согласиться, но нужна самостоятельность:
– Нет, моряком.
Весь концерт Юрка, лопаясь от сознания собственной значительности, просидел рядом с лейтенантом, а тот, достав из командирского планшета блокнот, набрасывал портреты ребят, выступающих с эстрады. Чаще всего он рисовал пионервожатую Лену. Она конферансье, на сцене бывает чаще других, и рисовать ее приятно. Если бы Юрка умел рисовать, он бы тоже рисовал Лену: пушистые ресницы, широкие брови, сошедшиеся у переносицы.
Лейтенант рисовал иначе: то четкий профиль, то всю Лену с головы до ног, вытянутую кверху, словно она летит с вышки в воду.
Казалось, лейтенант знает, как Лена играет в «колдунчики» и как она перед отбоем, устроившись на пустующей койке, рассказывает о храбром мальчишке, который превращается то в пингвина, то в волка. История с продолжением, и, наверно, ее хватит на всю смену.
И Юрка окончательно решил: «Вырасту и буду искать девушку, похожую на Лену».
Юрину семью в школе всегда считали образцовой. Но человек живет не только дома. Юрка в свои девять лет знает, как ругаются матом, умеет курить, слышал самые неприличные анекдоты. Но как глубокую тайну он бережет открытие: на свете существуют девушки, на которых посмотришь немного, а потом ходишь целый день и «рот до ушей, хоть тесемочки пришей».
После концерта взялись за руки и пошли втроем: лейтенант, Лена и Юра. Юра гордо шел в середине…
Утром, выскользнув до побудки в уборную, Юрка помчался к лагерю кавалеристов.
Кусты держали на макушках обрывки утреннего тумана. Незастегнутые ремешки сандалий, взмокшие от росы, больно стегали по ногам. Юрка хотел услышать горн, увидеть, как эскадрон взлетает в седла. Но эскадрона не было. Там, где были вбиты колышки палаток, остались холмики свежей земли.