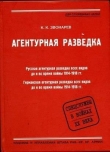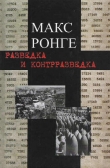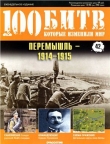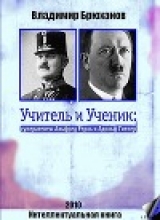
Текст книги "Учитель и Ученик: суперагенты Альфред Редль и Адольф Гитлер"
Автор книги: Владимир Брюханов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 25 страниц)
Некоторая аналогия возникает при знакомстве с другим фрагментом книги Алексеева: «Весной 1914 г. фельдфебель, чертежник германского главного инженерного управления, предложил Базарову[526]526
Полковник П.А. Базаров – российский военный атташе (военный агент) в Германии с февраля 1911 по июнь 1914 года.
[Закрыть]купить у него планы восточных крепостей Германии. Фельдфебель недавно женился и нуждался в деньгах. Так был куплен план крепости Пихлау и крепости Летцен. Базаров вел переговоры о приобретении еще ряда отдельных секретных документов. И здесь произошел провал. По утверждению Николаи, «в апреле 1914 г. контрразведка из Петербурга сообщила о том, что Генеральный штаб ведет там переговоры о покупке планов германских восточных крепостей. По более точным данным предательство должно было исходить из одного центрального учреждения в Берлине, в течение 24 часов виновный был найден в лице одного старшего писаря. Он сознался в том, что совершил предательство по предложению русского военного агента…»[527]527
Николаи В. Указ. сочин. С. 40.
[Закрыть]
По другой версии, чертежник после одного из свиданий с Базаровым встретил своего сослуживца и, разговорившись с ним, раскрыл свою связь с русским военным агентом. Тот предложил работать совместно, а потом выдал своего знакомого властям[528]528
Звонарев К.К. Указ. сочин. Т. I, с. 97.
[Закрыть]. Одна версия, впрочем, не исключает другую».[529]529
Алексеев М.. Указ. сочин. Кн. II, с. 119.
[Закрыть]
Но аналогия тут может привидиться лишь чисто поверхностная: Австро-Венгрия – не Германия, 1913 год – не 1914-й, а Агент № 25 – не берлинский чертежник!
Однако Рооп, напоминаем, опасался именно такой возможности провала своего «венского» агента!..
Так что ход рассуждений Алексеева не является совсем уж чистейшей фантастикой.
Высказав наши предупреждения, возвращаемся к прерванному тексту Алексеева: «В складывающейся обстановке австрийцам необходимо было срочно пресечь деятельность тайного агента, работавшего на русских. Ответственность за эту операцию была возложена на руководство разведывательной службы Австро-Венгрии – Августа Урбанского /…/ и Макса Ронге /…/.
Однако скоропалительные поиски шпиона не дали желательных результатов. Оставалось либо признать свое бессилие (что означало, если не отставку, то «перевод» по службе), либо найти «запятнанного» офицера и взвалить на него обвинение в шпионаже. И такой кандидат был найден.
Чем располагали австрийские разведчики? Только вскрытым фактом противоестественных наклонностей Редля. Все остальное необходимо было фальсифицировать. /…/ После создания «улик» оставалось только подтолкнуть Редля к самоубийству (или убить его?), используя психологическое давление, угрозы разоблачить «преступную страсть», не доводя дело до суда. В данном случае грань между самоубийством и убийством довольно размыта. Ибо то, что случилось с Редлем, можно рассматривать как убийство, «загримированное» под самоубийство, и как самоубийство, впопыхах подготовленное австрийской разведкой. /…/
Редль ушел из жизни, сохранив за собою на многие десятки лет скандальную известность «русского шпиона». Но, убрав ими же сотворенного «агента», Ронге, Урбанский и Николаи не смогли лишить Россию подлинных источников разведывательных сведений. Сохранившаяся в Вене агентура продолжала добывать информацию. Русская военная разведка одержала верх в тайной войне».[530]530
Там же. С. 197–198.
[Закрыть]
Не правда ли, здорово звучит? Особенно это: русская военная разведка одержала верх в тайной войне!
Ну и в чем же логика рассказанной побасенки?
Предположения о невинности Редля как изменника и шпиона, о подтасовке улик против него и об убийстве весьма близки к истине и выглядят достаточно убедительно.
Не слишком понятным остается поведение истинного Агента № 25, практически прекратившего свою деятельность сразу после разоблачения и гибели Редля.
Может быть, он испугался аналогичной участи? Вполне возможно – и последняя встреча «посредника» или самого агента с Самойло в 1914 году полностью соответствует такому предположению.
Но в чем же тогда победа русской военной разведки в тайной войне?
Был один-единственный ценный российский агент, № 25, а потом перестал быть таковым, прекратив свою деятельность.
В чем же, повторяем, победа? В том, что он сохранил свою жизнь? А сохранил ли?
Высказанная Алексеевым версия оставляет в стороне вопрос о том, кем же был Агент № 25, каковы были его мотивы, в чем состоял смысл всей его игры, продолжавшейся целых десять лет, и каковы на самом деле истинные итоги этой «игры», в которой Альфред Редль лишился жизни и которая, в зависимости от истолкования ее смысла и результатов, лишила жизней то или иное множество людей, убитых на последовавшей войне в качестве жертв этой разведывательной акции, успешной для кого-то.
На эти вопросы нам придется отвечать без подсказки, предложенной Алексеевым.
В 1931 году Урбанский категорически возражал против того, что в свое время Редль имел возможность продать русским план развертывания Австро-Венгерской армии. Аргументы Урбанского представляются логичными и весомыми.
Он рассказывает, что само составление такого плана производится в рамках деятельности Оперативного отдела Генштаба, причем почти все офицеры-разработчики участвуют в работе не по плану целиком, а по отдельным его частям. В разработке таких частей участвуют и другие отделы Генштаба – транспортный, разведывательный (Эвиденцбюро) и прочие органы, которым отдается исходная информация из Оперативного отдела и от которых назад получаются готовые разработки, относящиеся только к профилю деятельности именно этих подразделений. Главные идеи разрабатываемого плана находятся в проработке у чрезвычайно ограниченного круга лиц.[531]531
Urbanski von Ostrymiecz A. Aufmarschplдne. S. 85.
[Закрыть]
Добавим от себя, что к этому ограниченному кругу не должен был относиться ни начальник Эвиденцбюро, ни Редль, не достигший даже и такого служебного уровня.
Что же касается готового плана, то он тем более находился в распоряжении всего нескольких человек, которые могли продолжать работать над ним, а при необходимости и переснимать его в шпионских целях. К числу таких доверенных лиц тем более не мог принадлежать Редль.
Урбанский высказал сожаление о том, что, несмотря на все принимаемые меры секретности, благодаря предательствам все же постоянно происходит утечка информации, собранной в таких документах.[532]532
Ebenda.
[Закрыть]
Но при таких утечках возникает не только польза, но и вред для противника, поскольку план оперативного развертывания не есть что-то навсегда застывшее, а постоянно подвергается исправлениям и изменениям.
Вот здесь-то Урбанский и написал о той негативной роли, которую сыграл российский план развертывания, добытый австрийцами, напоминаем, еще в 1909 году: зло, нанесенное им, заключалось не столько в искажении определенных его составляющих, по-другому реализовавшихся на практике, сколь в той излишней самоуверенности, какой прониклись австрийские генштабисты в результате веры в свои знания планов противника. Хотя сами же эти генштабисты, подчеркивает Урбанский, прекрасно понимали, насколько их собственные планы были подвержены переменам.[533]533
Ebenda. S. 86–87.
[Закрыть]
Помимо Генерального штаба планы развертывания должны были находиться и в нижестоящих инстанциях. Исходя из общепринятых принципов секретности, нетрудно заключить, что наличие частных планов на этих нижних этажах общеармейской иерархии не могло создавать дополнительные угрозы утечки общей информации.
Армии, группы армий и фронты создавались в Австро-Венгрии уже после начала Первой Мировой войны. До начала войны крупнейшими постоянными воинскими объединениями были корпуса. Ни один штаб корпуса, разумеется, не мог обладать экземпляром общего плана развертывания; корпусов касались лишь их собственные планы, предписанные им на случай приближения военных действий, а также минимально необходимые сведения о соседних корпусах, взаимодействие с которыми предполагалось по общему плану.
Редль, заметим мы, мог, конечно, с осени 1912 по весну 1913 скопировать для кого-нибудь (для русских или сербов) планы своего 8-го корпуса, начальником штаба которого он оказался. Но как раз получение этих-то сведений и не подтверждается архивами российской военной разведки!
Что же касается общих планов, то они, благодаря принятой системе хранения, просто не были доступны Редлю[534]534
Urbanski von Ostrymiecz A. Der Fall Redl. S. 97–98.
[Закрыть] – и в этом приходится согласиться с Урбанским!
Тем более они были недоступны ни Чедомилу Яндричу, ни тому мнимому майору, которого пытался изображать Милан Ульманский.
От себя выскажем чисто абстрактное соображение, что выкрасть (хотя бы на время фотосъемки) такой план было бы все-таки легче не Редлю или кому-либо другому из посторонних офицеров, а какому-нибудь писарю из Оперативного отдела Генштаба!
Причем, как подчеркивает Урбанский, даже и единого общего плана у Австро-Венгрии не было и не могло быть в принципе: воевать предполагалось на различных направлениях – против России, против Сербии и Черногории, против Италии (или вместе с ней), против Турции (или вместе с ней) – то же и с участием Румынии на собственной стороне или на противоположной и т. д. На все такие случаи разрабатывались собственные планы. При необходимости войны одновременно на два или на три фронта предусматривались компромиссные варианты.[535]535
Urbanski von Ostrymiecz A. Aufmarschplдne. S. 86.
[Закрыть]
Число последних, заметим мы, исходя из математических принципов комбинаторики, уже получается таким, что просто невозможно отработать все возможные варианты общего плана (всех возможных комбинаций, например, из четырех вариантов по одному, двум или трем – в сумме 16 штук). На практике же такие комбинации возникают в динамически развивающейся политической реальности – и далеко не сразу понятно, в какую окончательную комбинацию выльются решения, самостоятельно принимаемые различными сторонами; так оно и получилось в июле-сентябре 1914 года.
На основании этих соображений Урбанский и отверг одно из главнейших обвинений, выдвинутых против Редля: он-де выдал план наступления против Сербии, что и позволило сербским военачальникам успешно отразить его осенью 1914 года, зная все его детали. На самом деле, разъясняет Урбанский, срыв разгрома Сербии произошел из-за неправильного анализа австрийцами политической ситуации.
Почти до самого конца июля 1914 года австрийцы исходили из того, что воевать предстоит лишь против одной Сербии – соответствующий план развертывания и был своевременно приведен в действие. Развертывание против Сербии уже вовсю происходило, когда вдруг выяснилось, что предстоит воевать и против России. План развертывания против Сербии пришлось менять на ходу, перебрасывая часть войск против России и меняя маршруты перевозки войск с южного направления на восточное и северо-восточное – это создало колоссальные трудности для железнодорожного транспорта.
По российским данным, австрийцам пришлось при этом изменить в июле 1914 года 84 маршрута воинских эшелонов.[536]536
Зайончковский А.М. Первая Мировая война. СПб., 2000. С. 79.
[Закрыть]
В результате осенью 1914 года реализовалась комбинация, крайне неприятная для Австро-Венгрии: удар по Сербии производился недостаточными силами, а опоздание сосредоточения войск против русских привело к поражениям австрийцев и на этом театре военных действий.[537]537
Urbanski von Ostrymiecz A. Aufmarschplдne. S. 86.
[Закрыть]
Урбанский высказывает свои доводы жестко и категорически: колоссальные жертвы среди австрийцев, продемонстрированные в игровом фильме о Редле (снятом, напоминаем, в 1925 году), не имеют никакого отношения к утечке предвоенных планов. Приписывание же Редлю выдачи противнику австрийских шпионов за границей, считает Урбанский, тем более является фантазией, вообще ни на чем не основанной.
И вся роль Редля, как подвел итоги Урбанский, оказалась раздутой и преувеличенной.[538]538
Urbanski von Ostrymiecz A. Der Fall Redl. S. 97–98.
[Закрыть]
С мнением Урбанского совпадает и мнение Конрада о том, что Редль не мог нанести Австро-Венгрии существенного ущерба.[539]539
Markus G. Op. cit. S. 13.
[Закрыть]
А вот Максимилиан Ронге в 1930 году так расценил вопрос о том, кто кого победил в тайной войне в 1913 году (хотя Ронге при этом чисто врет в отношении Редля): «Редль, несомненно принес вред. Однако представление, возникшее у многих, что он является могильщиком монархии, преувеличено. Самое большое предательство – выдача плана развертывания против России – не принесло русским пользы, а наоборот, ввело их в заблуждение.
Нечего было и думать об изменении плана развертывания, ибо развертывание тесно связано с целым рядом факторов. Русские хорошо знали это и вполне положились на данные Редля. Но когда подошли вплотную к войне и когда выяснилось, что нечего рассчитывать на Румынию[540]540
Румыния до начала войны считалась союзницей Германии и Австро-Венгрии, но сначала осталась нейтральной, а затем выступила против них в августе 1916.
[Закрыть], на которую прежде рассчитывали, то было обнаружено, что при сосредоточении наших войск правый фланг северной армии был слишком открыт и потому начальник генштаба решил отодвинуть сосредоточение за р[еки] Сан и Днестр. Русские ничего об этом не знали. Им неизвестны были даже некоторые изменения, внесенные после 1911 г., как об этом впоследствии сообщил ген[ерал Ю.Н.] Данилов[541]541
Генерал Ю.Н. Данилов (1866–1937) с октября 1908 по август 1915 в разных должностях руководил оперативной деятельностью Российского Генштаба; затем – командовал корпусом. С августа 1916 по апрель 1917 – начальник штаба Северного фронта; присутствовал при отречении Николая II. С апреля по сентябрь 1917 – командующий 5-й армией. В марте 1918 – военный эксперт советской делегации на Брестских мирных переговорах. Затем – в Белом движении, где не играл заметной роли. С 1920 – эмигрант. В 1920–1933 годах – автор многих трудов и воспоминаний о Первой Мировой войне. Умер в Париже: Залесский К.А. Указ. сочин. С. 190–191; Авдеев А.В. Генерал Ю.Н. Данилов и его воспоминания. // Данилов Ю.Н. На пути к крушению. М., 2000. С. 3–23.
[Закрыть] в своих мемуарах. Они считали, что 3-й[542]542
Так в тексте. Это – явная опечатка; правильно – 8-й.
[Закрыть]корпус, начальником штаба которого был Редль, войдет в состав 3-й армии в Галиции, тогда как в действительности он был направлен против Сербии. Это подтверждает тот факт, что Редль не имел ни соучастников, ни последователей. Он был единственным доверенным лицом России».[543]543
Ронге М. Указ. сочин. С. 76.
[Закрыть]
Итак, Российский Генштаб действовал исходя из плана, добытого разведкой, только, конечно, не от полковника Редля, который не был единственным доверенным лицом России, поскольку вообще не был доверенным лицом России (в этом Алексеев, конечно, прав!), а от агента № 25!
А вот австрийский начальник генштаба (тот же Конрад!) действовал, исходя из некоторого иного плана, так и оставшегося неизвестным русским, пока дело не дошло до практического столкновения сторон.
Об этом писал и генерал Мильштейн: «После разоблачения Редля австрийский генеральный штаб внес изменения в план стратегического развертывания и, в частности, полосу стратегического развертывания отнес на 100–200 км к западу по сравнению с прежним планом. Однако царским[544]544
Так в тексте.
[Закрыть]генеральный штаб не учитывал, что в план могут быть внесены серьезные изменения и все свои расчеты строил на основе данных старого плана. Начальник оперативного управления царской ставки генерал Данилов в своих воспоминаниях о первой мировой войне писал: «Развертывание австрийцев в действительности произошло западнее, чем мы ожидали»»[545]545
Мильштейн М. Указ. сочин. С. 49, сноска.
[Закрыть] – и приводит ссылку на соответствующий источник.[546]546
Меликов В.А. Стратегическое развертывание. М., 1939. Т. 1, с. 277–279.
[Закрыть]
Примерно то же мнение высказал, подводя итоги, и Петё, в свою очередь имевший в виду не Агента № 25, о котором Петё ничего не читал, а именно Редля, якобы выдавшего этот план русским: «неожиданно для противника в момент начала войны австрийские армии оказались на 100–200 км западнее ранее предполагаемых позиций. Из-за этого российскому командованию удалось в достаточной мере уяснить обстановку на фронте только к середине августа, а в начале войны – потерпеть два неприятных поражения в битвах под Красником и под Комаровом. Российские генштабисты уже после войны сделали такой анализ: «Слепо доверившись купленному у полковника Редля плану стратегического развертывания австрийской армии, императорский Генеральный штаб полностью просчитался. Обладая богатым информационным материалом о совещаниях австрийского Генштаба под руководством его начальника Конрада фон Хётцендорфа, в российском штабе считали, что располагают сведениями, в полной мере достаточными для достижения стратегического успеха». Но «основные силы австрийцев избежали удара». В конечном счете, сведения Редля «принесли больше вреда, чем пользы». (По иронии судьбы этот успех [чей?] стал известен лишь задолго после войны благодаря публикациям научных работ российских военных.)»[547]547
Петё А. Указ. сочин.
[Закрыть]
Ну и кто же, повторяем, при всем этом выиграл, независимо от того, кто именно передал эти материалы русским – Редль или неизвестный таинственный Агент № 25?
К стратегическим последствиям деятельности Агента № 25 нам еще предстоит возвращаться.
К тому же, конечно, нельзя верить и всему, что писали непосредственно о Редле Урбанский и Ронге. Но вот разумный методический подход к анализу происшедшего у них, профессиональных разведчиков, четко просматривается: расценивать роль Редля необходимо с учетом его практических возможностей и сопутствующих реалий, а не вымысла и фантазий.
То же целесообразно применить и к анализу деятельности Агента № 25.
А уже затем анализ его возможностей позволит нам вычислить, кем же он был: сначала – по должности, а потом – и по имени.
4.4. Смурной реформатор лоскутной империи
Первое слово, которым начинается заголовок данного раздела, не относится к разряду общепринятых литературных терминов – это скорее жаргонное словечко, имевшее хождение в соответствующей неформальной среде на финише советских времен. Но мы не нашли более подходящего краткого определения для отражения личностных черт, внутреннего самоощущения и образа действий эрцгерцога Франца-Фердинанда. Сделав это пояснение-оговорку, возвратимся к сущности наших проблем.
Теперь мы пребываем в ситуации, встречающейся у следователей по уголовным делам: обнаружен склад украденных вещей, но не известно где это уворовано, кем и у кого. Состав предметов, однако, позволяет установить, где же они (хотя бы приблизительно) украдены, очертить круг возможных исполнителей преступления, а затем и постараться найти конкретных виновников. То же и у нас: донесения Агента № 25 и являются собранием украденного, но не предметов, а документов.
Хронологически первым известным из них идет добыча, привезенная Владимиром Роопом в июне 1905. Это – упоминавшиеся Роопом «копии с журнала секретного совещания австро-венгерской комиссии под председательством начальника Генерального штаба по выработке проекта укрепления страны на предстоящее десятилетие (1905–1914 гг.) и с секретной резолюцией австро-венгерского военного министерства по этому вопросу, имеющихся в моем [Роопа] распоряжении непродолжительное время». Рооп, напоминаем, очень переживал относительно сохранения в строжайшем секрете самого факта утечки данной информации, поскольку в Вене круг посвященных был строго ограничен.
Исходя же из наших целей, он, наоборот, чересчур широк: этот круг посвященных состоял тогда из десятка, двух десятков, а может быть даже из трех десятков высших австрийских военных и администраторов. К ним необходимо добавить и технических сотрудников – секретарей, писарей, машинисток и стенографисток, а также и близкое неформальное окружение обозначенных должностных лиц – их жен, любовниц, любовников и т. д. Круг подозреваемых, повторяем, чересчур широк.
Зато сведения, поставленные Агентом № 25 в 1908 году и предложенные им тогда же, но так и не приобретенные в силу ограниченности финансовых возможностей штаба Киевского военного округа, отличаются невероятным разнообразием. Повторим:
– поставлено: «новые данные о мобилизации австрийских укрепленных пунктов; некоторые подробные сведения об устройстве вооруженных сил Австро-Венгрии; сведения о прикомандированном к штабу Варшавского военного округа П. Григорьеве, предложившим в Вену и Берлин свои услуги в качестве шпиона; полное боевое расписание австрийской армии на случай войны с Россией, издания 1907 г., ряд сведений о современных политических событиях на Балканском полуострове и мобилизации по этому случаю австрийских корпусов»;
– предложено к поставке: «сведения о контингенте, который обязана выставить Италия в случае войны Тройственного союза; о почтовых, телеграфных и телефонных сообщениях в военное время; секретный шифр Австро-Венгрии, принятый в ее дипломатических сношениях».
Примерно в том же ключе выдержаны донесения и более позднего периода деятельности Агента № 25 – включая передачу русским пресловутого плана развертывания в марте-апреле 1913 года.
Вот тут уже есть о чем поразмышлять!
Помимо информации того же рода, что и в 1905 году, восходящей по происхождению к руководству Генштаба и военного министерства Австро-Венгрии, среди перечисленных разведданных встречается и нечто совершенно иное.
Например, сведения о некоем П. Григорьеве. Неизвестно где, когда и при каких обстоятельствах этот вроде бы изменник предложил свои услуги немцам и австрийцам, но решение о его вербовке должно было приниматься непосредственно в разведотделах генштабов Германии и Австро-Венгрии, если в последней – то в Эвиденцбюро. Там эта информация должна была быть принята и обработана, а затем положена под строжайший секрет: подлинное имя фигуранта, во всяком случае, не должно было сообщаться никаким начальственным инстанциям во избежание такой утечки, каковая и произошла. И к русским эта информация могла поступить лишь из Эвиденцбюро – минуя и Генштаб, и военное министерство Австро-Венгрии, которые не должны были заниматься вопросами конкретной вербовки агентов и, главное, знать их подлинные имена.
Эта история оказывается единственной, о которой мы уже упоминали в том отношении, что она дает основания подозревать Редля в выдаче австрийских шпионов русской контрразведке. Но и это обвинение тут же приходится отмести из тех соображений, что подавляющее большинство других сообщений Агента № 25 заведомо выходит за рамки служебной компетенции тогда подполковника Редля.
Некоторые из перечисленных сведений, поставленных номером двадцать пятым, исходят даже скорее не от военных, а от политиков – из кабинета министров Австро-Венгрии, из министерства иностранных дел и т. д. Секретный шифр Австро-Венгрии, принятый в ее дипломатических сношениях, почти наверняка не имел никакого отношения к военному ведомству: из соображений секретности МИД должен был сам управляться с собственными шифрами, никого не посвящая в эту сферу своей деятельности.
Что же получается?
Получается, что источники исходной информации Агента № 25 были рассеяны по меньшей мере в нескольких высших учреждениях Австро-Венгрии, а потому этим источником в принципе не мог быть какой-либо один работник любого из этих ведомств. Такие сведения могла поставлять лишь специальная шпионская организация – подобные случаи хорошо известны в истории разведок и упоминались нами выше.
Такой организацией и была, например, возглавлявшаяся Треппером «Красная капелла», хотя и вошедшая в историю под именем клички, данной ей гестаповцами. Ныне про нее известно если и не все, то очень многое.
Хорошо известна ее структура: организация состояла из нескольких сотен людей, действительно рассеянных по различным учреждениям Третьего Рейха, занимавших там не очень высокие должности, но связанных с секретными сведениями. Некоторые из этих людей были убежденными антинацистами; другие даже не подозревали, что сообщаемая ими информация используется врагами Рейха. Из соображений безопасности и по условиям личных знакомств организация была не единой, а состояла из целого ряда подразделений, не связанных между собой, но замыкавшихся на одного руководителя – «Большого шефа» Леопольда Треппера. К сожалению, было допущено немало ошибок, подорвавших безопасность деятельности этой организации – потому она и погибла; но далеко не все ее члены были расшифрованы Гестапо и подверглись репрессиям – некоторые просто лишились связи и затаились, улегшись на дно.
Притом обобщенные доклады, шедшие от Треппера и его ближайших помощников в Москву, редко содержали подлинные масштабные документы – подобные тем, что поставлял Агент № 25; большинство сведений, переданных «Красной капеллой», создавалось аналитической проработкой и сопоставлением разнообразных данных, нередко ничтожных по собственному самостоятельному смыслу.
Можно предполагать, что и Юзеф Пилсудский, например, тоже в свое время располагал чем-то подобным: его тайные стронники-поляки были рассеяны по всем учреждениям царской России, а также в Германии, в Австро-Венгрии и даже во Франции! Ниже мы приведем пример блестящего, просто гениального анализа и прогноза политической ситуации, предпринятого Пилсудским за полгода до начала Первой Мировой войны. Но для подобных прозрений необходима не только гениальность, присущая Пилсудскому, но и неординарная информированность, каковой он, по-видимому, также располагал!
Вот только похожая по характеру, структуре и масштабам организация и могла поставлять сведения, реально исходившие от Агента № 25. Отдельному человеку – писарю ли, полковнику, министру или даже начальнику Генштаба (или любовнику или любовнице кого-либо из них) обладать такими сведениями (если они были достоверными, а не выдумкой, как пытались представить дело на суде братья Яндричи) было просто невозможно!
Но, с другой стороны, очень трудно предположить, что подобная организация могла реально существовать: ведь она осталась совершенно неизвестной ни по составу, ни по задачам, притом не только русским, но и австрийцам! Ни единого намека о возможности такой организации не сохранилось в сведениях тех времен!
Агент № 25, как считали русские, руководствовался лишь стремлением торговать секретами в корыстных целях. Ему и платили немало, но немало для одного или нескольких человек, но не для многих! Содержать же на подобные гонорары организацию хотя бы в десяток достаточно равноправных источников информации было просто невозможно, да они мгновенно перессорились бы и повыдавали бы друг друга, будучи не идейными людьми, а жуликами.
Недаром Ронге ссылался на якобы предсмертные слова Редля (врет тут Ронге или нет – в данной ситуации не имеет значения!): «Соучастников у него не было, ибо он имел достаточный опыт в этой области и знал, что соучастники обычно ведут к гибели»; мы это цитировали, и это действительно должно было быть устоявшимся мнением руководства австрийской контрразведки, кто бы конкретно ни высказывал его.
Да и поведение Агента № 25, затаившегося после гибели Редля, проще объяснять мотивами поведения одного человека, а не целого коллектива: ведь русские, как считается, ничем Редлю не навредили, а австрийцы разоблачили его по чистейшей случайности – так почему бы этому коллективу не возобновить свою деятельность без Редля? И возможность связи с русскими у них вроде бы оставалась – как свидетельствовал Самойло.
Но этого, как известно, не произошло.
Вот и получается, что Агент № 25 не мог представлять собой ни организацию, ни отдельного частного лица. Остается, таким образом, вроде бы лишь одна возможность – он не принадлежал к миру реальных людей!
Последнее, однако, не совсем верно.
На самом же деле в Австро-Венгрии было даже не одно должностное лицо, обладавшее возможностью поставить все сведения, исходившие от Агента № 25, а целых два!
Это были – император Франц-Иосиф I и его официальный наследник – эрцгерцог Франц-Фердинанд, они же – верховный главнокомандующий вооруженных сил Австро-Венгрии и его единственный заместитель. Только они и могли безотчетно использовать любые служебные документы в Австро-Венгрии, притом практически не опасаясь подозрений и обвинений в измене.
Франц-Иосиф вообще в принципе был неуязвим в этом отношении и недоступен ни для каких и ничьих нападок; Франц-Фердинанд был подотчетен лишь одному Францу-Иосифу.
Никто из всех остальных во всей Австро-Венгрии ничем не мог ограничить их индивидуальную деятельность по использованию любых документов; этих же двоих можно было лишь убить – что и оказалось наглядно реализовано в Сараеве 28 июня 1914 года по отношению к Францу-Фердинанду.
Мог ли быть Агентом № 25 кто-либо из этих двоих?
А почему бы и нет?
Разумеется, возможность исполнения роли Агента № 25 применительно к этим двоим лицам подразумевает и возможность подозрений в том же, адресованную к людям из их ближайшего окружения – к какому-нибудь адъютанту, например. Обнаружить и разоблачить подобного агента нам совершенно не по силам.
Это было бы и вовсе никому невозможно, если бы Агент № 25 действовал короткое время: тогда могло сложиться так, что очень многие (преимущественно – неизвестные нам лица) могли стянуть с письменных столов императора или его наследника те или иные секретнейшие документы – и продать их русским. Но, к счастью для нас, эта преступная деятельность продолжалась годами – целых десять лет: со дня появления у Роопа весной 1903 года неизвестного (для всех остальных русских) ценнейшего «венского агента» и до момента гибели Редля.
Сохранение постоянно действующего изменника, на которого не падали никакие подозрения ни окружающих, ни обоих наивысших начальников – императора и его наследника – при таких условиях представляется нам крайне маловероятным, хотя и не вовсе невозможным.
Никакой адъютант или кто-либо близкий к подобной должности не сохранялся на одном месте целый десяток лет – все они совершали какие-то карьерные перемещения. Но в принципе существует возможность сюжета для романа, в котором роль русского агента исполнит, например, супруга Франца-Фердинанда (убитая вместе с ним в Сараеве), или какая-нибудь ее камеристка, или кто-либо другой – от такой перспективы, думается, не отказались бы Александр Дюма-отец или какой-нибудь Валентин Пикуль. Подобная возможность, повторяем, и в реальности не исключена.
Но если же ограничиться кругом известных личностей, отмеченных в политической истории Австро-Венгрии данного периода, то никаким случайным незначительным персонажам не найдется места в этой шпионской эпопее, продолжавшейся целое десятилетие.
А вот сами Франц-Иосиф и Франц-Фердинанд остаются в качестве подозреваемых почти на равных. Но все же подозревать императора нужно значительно меньше: и его возраст, и его, так сказать, служебное положение не должны были бы подвигнуть престарелого монарха на столь отчаянную авантюру на восьмом десятке лет его жизни.
Иное дело – Франц-Фердинанд.
Габсбургская империя сформировалась и укрепилась в жестокой борьбе – именно она оказалась на пути турецких завоевателей, вторгшихся в Европу. Для народов, населявших империю, ее существование и сохранение было вопросом жизни и смерти: альтернативой было лишь воинствующее мусульманство. Но как только отпала угроза, исходившая от мусульман (а именно так и казалось в Европе XIX и значительной части ХХ веков), как единство империи оказалось подорвано.
«Свое название «лоскутной монархии» Австрия получила по заслугам. /…/ после Венского Конгресса 1815 года Австрия оказалась славянской империей с значительными «инородческими меньшинствами» – итальянским, румынским, венгерским и немецким, из которых самое незначительное – немецкое меньшинство – правило всеми остальными при помощи немецкого государственного аппарата и немецкой династии. Рецепт этого управления /…/ прекрасно изобразил император Франц II[548]548
Франц II (1768–1835) – последний император Священной Римской империи в 1792–1806 годах; отрекся от этого титула по требованию Наполеона и остался Австрийским императором под именем Франца I.
[Закрыть] в следующих выражениях: «мои народы являются иностранными один для другого. Они не болеют одними и теми же болезнями в одно и то же время. Когда во Франции наступает горячка (революция), она охватывает всю страну в один день. Я же посылаю венгерцев в Италию и итальянцев в Венгрию. Каждый стережет своего соседа. Они не понимают, они ненавидят друг друга. Из их антипатии родится порядок, а из их взаимной ненависти – общий мир».»[549]549
Полетика Н.П. Сараевское убийство. Исследование по истории австро-сербских отношений и балканской политики России в период 1903–1914 гг. Л., 1930. С. 58–59.
[Закрыть]