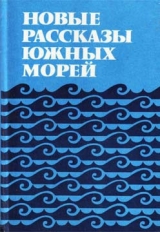
Текст книги "Новые рассказы южных морей"
Автор книги: Вити Ихимаэра
Соавторы: Джон Вайко,Колин Джонсон,Марджори Кромомб,Кумалау Тавали,Джон Калиба,Альберт Вендт,Патриция Грейс,Ванесса Гриффен,Биримбир Вонгар
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 17 страниц)
Мистер и миссис Траст были прихожанами англиканской церкви, которую посещали в основном папаланги, состояли членами Ассоциации бывших военнослужащих (белых), Яхт-клуба, Гольф-клуба, Клуба любителей верховой езды, Общества Красного Креста и безупречно викторианского Шахматного клуба. Миссис Траст к тому же пользовалась влиянием и Дамском клубе и в Женской лиге. Они занимали просторный, хорошо обставленный казенный дом, держали прислугу: садовника лет шестидесяти и двух горничных (замужних) – и животных: пса и кота (оба были кастрированы) и еще двух существ с шерстью вместо перьев, потому что самоанские птицы не похожи на настоящих птиц.
– Ты опять от нее? Только не ври.
Он продолжал есть, делая вид, что не видит ее и не слышит. Дети спали. Она ждала его почти до полуночи.
– Только не ври, – повторила она. Он кивнул. – Но почему она?
Он бросил вилку в тарелку.
– Потому что она не против.
– Но она… она…
– Китаянка? Цветная? – досказал он за нее.
– Да.
– Ты их ненавидишь? Правда, дорогая?
– Да. И ты тоже!
Медленно поднявшись со стула, он отнес тарелку в белоснежную раковину, потом повернулся к жене – она по-прежнему сидела у стола, стиснув голову руками, – и сказал:
– Она может быть какой угодно китаянкой и цветной, и я сколько угодно могу их ненавидеть, но только с ней я чувствую себя мужчиной. По крайней мере в постели.
Это была его первая измена.
– Я уеду, Дэвид, – сказала она.
– Скатертью дорога.
Он стал совсем чужим, а был всегда таким преданным и послушным. Это она сделала его чужим, отчаянным безумцем.
– А дети? – спросила она.
– Что с ними?
– Это твои дети!
– Можешь оставить их при себе.
Он пошел в ванную, и она, испуганная, бросилась за ним следом.
– Ты не должен больше с ней встречаться, – заявила она, стоя на пороге. – Я запрещаю тебе! – Он продолжал шумно чистить зубы. – Если ты посмеешь… я… – Она остановилась, не решаясь договорить, потому что он мог принять ее условия.
– Разведись со мной, Этель, – только и сказал он, все еще стоя к ней спиной.
– Тебя бы это устроило. Еще бы. Очень удобно. Ты будешь спать со своей китайской сукой, а я возиться с твоими ублюдками.
– Что ж, не разводись.
Он вытер полотенцем руки и рот и, протиснувшись в дверь мимо нее, направился в их спальню.
Она вошла в комнату, когда он раздевался перед вделанным в шкаф зеркалом. Присела на постель, закрыла лицо руками и стала тихо всхлипывать.
– За что ты со мной так?
– Как? – ответил он вопросом на вопрос и зашвырнул трусы в противоположный угол комнаты.
– Унижаешь меня.
Она открыла глаза и увидела, что он стоит перед зеркалом и, почесываясь, разглядывает себя.
– Ты унижала меня пятнадцать лет.
Он натянул на себя голубую пижаму и сел позади жены на кровать.
– Чем же?
– Сама знаешь чем.
Отогнув край одеяла, он забрался в постель.
– Ты имеешь в виду сексуальную сторону нашего брака?
– Прекрасно сформулировано, Этель.
Она смотрела на него через плечо. Он закрыл глаза.
– Она… она очень хороша? – спросила она, запинаясь, и сама удивилась своему любопытству.
– Да, очень.
– Я говорю о постели.
– Да, и я об этом.
Он повернулся на левый бок, спиной к ней.
– Давно это у вас началось?
– Около четырех месяцев назад. Да. Четыре великолепных месяца. С тех пор как она пришла к нам работать.
Он сказал это с такой гордостью и таким самодовольством, что она вскочила и выбежала из комнаты на открытую веранду.
Только под утро вернулась она в спальню. Она стояла над ним в темноте и говорила:
– Я ненавижу тебя. Я ненавижу ее. Я ненавижу… я ненавижу эту проклятую страну! – Потом, тронув его за плечо, сказала: – Дэвид, я хочу домой. Увези меня домой, Дэвид.
Но он не проснулся.
В то солнечное утро, во вторник, за три дня до новогодних праздников, мистер Паовале продиктовал мисс Чан письма и вручил ей роковой подарок – три ярда дорогого гонконгского шелка и лосьон для волос. Через неделю он был мертв. Ни директор, ни мистер Дэвид Траст, ни мисс Анна Чан на похороны не пришли. Рассыльный возложил на могилу венок, купленный миссис Тиной Мейер. Через месяц мистер Траст перевел ее на место Паовале, и теперь она сидела на вращающемся стуле в маленьком стеклянном кабинете. Еще через три мучительных месяца Траст с семьей спешно выехал в Новую Зеландию. (Дэвид так и не развелся с Этель до самой своей, шестнадцать лет спустя, смерти от сердечного приступа. И вплоть до того дня он никогда больше ей не изменял.) Еще через несколько месяцев мисс Чан родила светловолосого зеленоглазого мальчика восьми фунтов. (Она больше никогда не верила обещаниям папаланги, особенно если речь заходила о разводе с фригидной женой.)
Что до миссис Паовале, то смертный приговор заменили ей пожизненным заключением. Но она была освобождена в первый день нового, 1962 года, когда глава независимого государства Западное Самоа подписал всеобщую амнистию в честь первого Дня независимости Западного Самоа. Она и теперь живет в Ваипе. И каждую субботу приходит на могилу мужа.
Приезд БледнолицегоНередко сыновья и дочери Ваипе уезжали искать работу в Новой Зеландии. Большинство из них до сих пор там живут. Некоторые объявлялись на похоронах родителей, а потом пропадали совсем. Первым, кто вернулся домой навсегда, был Пеилуа, сын Алапати, одного из самых почтенных граждан Ваипе. Алапати был фармацевтом, что вызывало у многих сильную зависть, вдобавок он принадлежал к так называемой «ученой элите» Ваипе, которая за всю долгую жизнь Алапати насчитывала не больше четырех-пяти человек, и пусть его никогда не видели в церкви, это не мешало ему любить ближнего и помогать тем, кто нуждался в его помощи.
Несколько лет назад Алапати умер, и его похороны стали одним из самых памятных событий в истории Ваипе. На них пришли и мистер Ф. А. Джонс, главный фармацевт аптеки, где служил Алапати, и мистер Т. Б. Муэль, чиновник Департамента здравоохранения, и многие другие уважаемые граждане Уполу и Савани. Похороны в Ваипе могут поддержать или, напротив, погубить репутацию человека, которая остается потомкам в наследство. «На славу его проводили, и к встрече с богом он готов, и оплакали его честь по чести», – говорят старики после особенно пышных похорон. Ну а если похороны совсем неприглядные, они говорят: «Стыдно так скупиться». Бедны вы или богаты, а умереть и уйти к боту должны прилично, чтоб и еды было много, и красивых циновок, и печальных молитв, и речей, и плита на могиле из черного мрамора. Алапати похоронили достойно, как и подобало ему по его положению в Ваипе. Теперь смерть и похороны близких в общем-то ничего не меняют в судьбе здоровой, резвой, неунывающей молодежи, которой жить да жить еще долгие годы. А тогда смерть Алапати изменила судьбу Пеилуа, его самого младшего, самого умного и любимого сына, которого он отправил в Новую Зеландию работать и учиться в вечерней школе фармацевтов, чтобы тот вернулся домой искусным аптекарем, не хуже отца.
В первый год жизни в Веллингтоне Пеилуа днем работал на пристани, а с половины седьмого до половины одиннадцатого усердно занимался в школе. По воскресеньям он обязательно дважды ходил в церковь и каждую неделю писал домой длинные письма. Так было в 1953 году. А в 1954-м он написал только четыре письма: под Новый год, на пасху, потом еще одно. И последнее – 1 декабря 1954 года, за четыре недели до того, как он собственной персоной с огромным дорогим чемоданом объявился в Ваипе. (Этот день навсегда остался в истории Ваипе как День Приезда Бледнолицего.)
Через свою вторую жену, Мизу, которая не была матерью Пеилуа, Алапати распространил слух, будто Пеилуа вынужден был вернуться по причине плохого здоровья: здесь помнили, что Пеилуа родился слабеньким мальчиком. Но уже через два дня весь Ваипе знал, что любимый сын Алапати был выдворен из Новой Зеландии. И разболтал это сам Пеилуа. На второй вечер после приезда он сидел с приятелями в пивной у Фофонги и, опьянев, признался в том, что, по его словам, было «правдой и ничем, кроме правды». Это даже не было похоже на признание, Пеилуа похвалялся перед всеми своим геройством. В тот вечер, когда его притащили домой, Алапати едва не забил сына до смерти.
На следующий день утром Пеилуа, с опухшим, в ссадинах лицом, перебрался из просторного, добротного дома отца к дяде Томаси, в плохонький домишко по соседству. С собой он взял только свой «волшебный чемодан», прозванный так жителями Ваипе.
С тех пор Алапати говорил с Пеилуа только один раз, перед смертью. Он призвал Пеилуа к себе. И Пеилуа пришел в надежде, что тот попросит у него прощения – несмотря ни на что, он оставался оптимистом: таким воспитал его отец. Но Алапати проклял его.
– Я проклинаю тебя, – кричал он, – проклинаю женщину, с которой ты живешь, и незаконных детей, которых она тебе родит!
С этой минуты оптимизма Пеилуа как не бывало. Теперь его повсюду преследовали, как приговор, слова отца, его последнее проклятие. Старики говорят: кто проклят матерью или отцом (бабкой или дедом), обречен, как был обречен сам дьявол, которого проклял бог. И то, что случилось с Пеилуа, было предопределено проклятием его умиравшего отца.
Пеилуа не слишком переживал уход из дому. Ему и в голову не пришло поискать себе работу или вымолить у отца прощение, хотя отец этого ждал. Дядя Томаси с женой и восемью детьми ютился теперь на правой половине дома, потому что левую половину, единственную кровать, лучшие циновки и новую москитную сетку он отдал во владение Пеилуа.
В доме Томаси к Пеилуа отнеслись так, словно он был важным папаланги. Ему отдавали лучшую еду да еще и прислуживали. Вся семья гордилась тем, что в их доме живет образованный человек, «совсем как белый». В разговорах с соседями они без всякого лукавства величали Пеилуа «наш родственник папаланги». Томаси не уставал повторять, что его племянник заслуживает лучшей доли, а Алапати – просто неблагодарный старик, недостойный называться отцом такого человека.
Члены семьи Томаси были первыми смертными, которым выпало счастье заглянуть в чемодан Пеилуа.
Буквально каждый день, едва Пеилуа вылезал из постели, жена Томаси и дети сбегались в дом, чтобы посмотреть, как он готовит себя к выходу на улицу. Весело насвистывая, Пеилуа открывал чемодан, доставал из него серебристую бритву, красную зубную щетку, ручное зеркало и удалялся за дом принимать душ. Никогда раньше не видели они такого зеркала и такой бритвы. На бритье и умывание уходил обычно целый час, и все это время миссис Томаси наблюдала за Пеилуа из дома. Кто-нибудь из ребятишек подавал ему одно из его красивых полотенец, и он с нежностью осушал свою кожу, совсем как кинозвезды, которых дети видели в американских фильмах.
Пеилуа возвращался в дом, открывал два флакона духов (они просто не представляли себе, что это может называться как-то иначе), выливал немного жидкости себе на руки и, похлопывая, втирал ее в лицо. Миссис Томаси, совершавшая иногда недозволенные осмотры его чемодана, подавала ему черную блестящую расческу, и Пеилуа, намазав каким-то маслом – в Ваипе такое видели тоже впервые – свои черные вьющиеся волосы, расчесывал их замедленными, осторожными движениями, тогда как кто-нибудь из детей миссис Томаси, выбранный Пеилуа по соображениям опрятности, держал перед ним ручное зеркало. Вслед за этим диковинным ритуалом начинался следующий.
И опять они, боясь что-либо пропустить, смотрели, как он открывал свой чемодан, перебирал бессчетное число рубашек, прежде чем, выбрав наконец одну, развертывал ее и аккуратно надевал на себя. (Даже яркая радуга потускнела бы, окажись она рядом с его рубашками.) Стирать их и гладить было привилегией миссис Томаси. Потом из самых глубин чемодана извлекались брюки, также выбранные после долгих размышлений о погоде, состоянии дорог в Ваипе и цели выхода. Пеилуа исчезал за занавеской, отделявшей его кровать от будничной жизни других обитателей дома, и, просвистев что-то особенно веселое, появлялся оттуда с улыбкой на устах. Все семейство с облегчением вздыхало, готовое рукоплескать при виде его бедер, обтянутых дорогими, идеально сшитыми и наглаженными брюками, и ног в шелковых носках. (У Пеилуа, как однажды ночью миссис Томаси шепотом сообщила мужу, никак не меньше пятнадцати пар таких же чудесных брюк. Он и Томаси подарил джинсы, правда поношенные и выцветшие. Это случилось через неделю после того, как Пеилуа поселился в его доме. Томаси берег их как драгоценность и надевал только раз в месяц, когда шел за деньгами в контору, где работал ночным сторожем.) Миссис Томаси предупредительно ныряла под кровать и вытаскивала оттуда восемь пар туфель, которые она выстраивала в ряд, как готовых к параду солдат. Критически осмотрев их, Пеилуа тыкал пальцем сперва в какую-нибудь пару, а потом и одного из мальчишек, который, с тряпкой в руках выскочив вперед и наведя на туфлях глянец, подавал их Пеилуа. Не переставая улыбаться, он надевал их. Другой мальчишка, которого Пеилуа целую неделю учил завязывать шнурки, протискивался вперед и, стоя на коленях, делал свое дело. Пеилуа доставал из чемодана два шелковых носовых платка: один – в карман рубашки, другой – в брюки. И наконец наступала очередь позолоченных часов, они обвивались вокруг кисти его левой руки, притягивая к себе солнечные лучи. Дети верили в то, что часы были волшебными. Все семейство смотрело вслед Пеилуа – такому чистенькому и неправдоподобно красивому и похожему на белого человека, – пока он спускался по ступенькам и шел по улице. Ангел или папаланги, который пришел в их безрадостную жизнь с новой надеждой, он покажет им, как прекрасен цивилизованный мир, вызывающий зависть мир бледнолицых.
Пеилуа возвращался точно в шесть часов вечера, раздевался, снова шел в душ и, если ему нравилась приготовленная для него еда, ел, а Томаси и все его семейство ему прислуживали. Потом он надевал чистую рубашку, чистые брюки, носки и заново начищенные туфли и опять уходил, чтобы вернуться уже под утро и сразу лечь в кровать, застеленную чистыми простынями (их он тоже привез из Новой Зеландии). Он никогда не забывал запереть чемодан, когда шел к Фофонге или в биллиардную изумлять приятелей бесчисленными рассказами о чудесах укрывшегося за рифами мира с его великолепием и цивилизованным устройством жизни. Повергнутые в трепет мужчины платили за выпивку и по первому же намеку ссужали его деньгами.
Это случилось через шесть месяцев после возвращения Пеилуа. В то дождливое утро Томаси открыл глаза и увидел, что Пеилуа привел к нему в дом жену. (В Ваипе большинство браков заключается именно так: он и она решают жить вместе, стать семьей, и на это им не требуется санкции закона или церкви. Только те, кто принадлежат к «элите» или мечтают об этом, венчаются в церкви, платят деньги и задают свадебные пиры, которые им, как правило, не по карману, но которые в большом почете у так называемого простого люда.)
Мистера и миссис Томаси выбор их племянника привел в восторг. Луафата была дочерью Паовале, члена местной элиты, трагически погибшего от руки жены, которая таким образом отомстила ему за измену. Луафата была очень красива и, подобно Пеилуа, весьма образованна, ей всего ничего оставалось до окончания школы. После смерти отца и заключения в тюрьму матери Луафата слыла образцом добродетели, что называется, хорошей девушкой.
Ухаживание, однако, было непродолжительным. Пеилуа, с первого взгляда покоривший почти всех женщин Ваипе, встретил Луафату в тот вечер на танцах. Он протанцевал с ней всего один танец (кажется, это был вальс), оказав ей честь, о которой она не смела даже мечтать, ведь и ей Пеилуа представлялся необыкновенно красивым и образованным. После этого Луафата, не сказавшись братьям, ушла к Пеилуа. Едва слух о женитьбе Пеилуа распространился в округе, он и Луафата сделались предметом зависти соседей. Какие они оба красивые, говорили все. Даже семья Луафаты, ополчившаяся было на Пеилуа за похищение девушки, была довольна браком. Все, кроме Алапати, лелеявшего надежду, что Пеилуа возьмет в жены дочь пастора, согласились, что этот брак на редкость удачный. Он и был удачным почти год.
Члены семьи Томаси ни в коей мере не чувствовали себя эксплуатируемыми Пеилуа и Луафатой. Томаси нашел себе еще одну, дневную работу на пристани, ибо считал себя обязанным поддерживать роскошный образ жизни племянника. Луафата не стала искать себе работу, ее обязанностью было заботиться о вещах Пеилуа: о содержимом его чемодана. Она стирала и гладила его одежду, начищала его туфли и часы. Иногда он водил ее в кино, и это было для нее единственным развлечением. Она прощала ему даже измены, слухи о которых доходили и до нее. Пеилуа имеет право быть неверным, он выше условностей, он не такой, как все, уговаривала она себя. Да и потом, по-настоящему он любит только ее одну: доверяет ей свой чемодан, даже дал второй ключ, и она может часами разглядывать сложенные там вещи, не рискуя навлечь на себя гнев мужа. А когда он впервые явился домой пьяным, она тоже не рассердилась, раздела и уложила его в постель. Она молча сносила его пощечины за недостаточно хорошо постиранные или поглаженные вещи – что ж, раз провинилась, терпи. Однажды он ударил Луафату ногой в живот за порванную при стирке рубашку. Луафата заплакала, а когда он вечером вернулся домой, попросила у него прощения. И он ее простил. Она спокойно приняла и то, что он перестал с ней спать. Пеилуа сказал ей, будто она «слишком хороша» для этого, и она поверила.
В субботу, 23 декабря 1955 года, ровно через год после возвращения из Новой Зеландии, Пеилуа проснулся утром и не нашел под кроватью чемодана. Он бросился к Томаси, разбудил его, кричал и непотребно ругался, обвиняя всех и каждого в краже его чемодана, «его жизни».
Миссис Томаси и дети с плачем ползали на коленях по дому в поисках чемодана. Мистер Томаси попытался было успокоить Пеилуа, но, заработав чудовищный удар в лицо, вылетел за дверь. Досталось даже Луафате, он осыпал ее оскорблениями и бил, обвиняя в том, что будто бы это она «отдала его жизнь своей нищей семейке».
Чемодан не нашли ни в комнатах, ни около дома, и Пеилуа в одних ярко-красных трусах побежал в полицейский участок. Впервые люди были лишены возможности восхищаться великолепием его рубашек и брюк. Вернулся он в сопровождении двух запыхавшихся полицейских, усадил их, а сам, совсем обезумев от горя, принялся бегать вокруг дома, еще и еще раз крича (по-английски), что «какой-то ублюдок из местных украл его жизнь!». Собрались соседи. Наконец один из полицейских, коренастый капрал – тайный сторонник освободительного движения, – вежливо, на аристократическом самоанском языке сказал, что ни он, ни его коллега не понимают по-английски, и Пеилуа то же самое повторил еще раз по-самоански, потом опять по-английски. Капрал, на самоанском записав его слова в толстый блокнот и по-самоански же заверив, что они сделают все возможное, дабы поймать «сего местного патриота», изъявшего чемодан, удалился (как потом оказалось, чтобы забыть об этом деле навсегда).
Едва полицейские ушли, Пеилуа стал обвинять в краже чемодана любопытную и в общем-то симпатизировавшую ему толпу. На мерзком, непристойном английском языке, для многих оставшемся непонятым, он заявил, что «все самоанцы сволочи и воры», что «ни один белый не позволил бы себе ничего подобного». Толпа рассеялась. А понимавшие по-английски пригрозили, что убьют «чертова папаланги», то есть Пеилуа.
Оставшись в обществе миссис Томаси, ее детей, рыдавших в дальнем углу дома, и Луафаты, которая, подойдя к нему и коснувшись его голого плеча, сказала, что любит его и без чемодана, Пеилуа рухнул на пол и горько заплакал, без конца повторяя: «Что мне теперь делать? Я все потерял!» – «У тебя есть я», – сказала ему Луафата. В ответ он толкнул ее и хотел было ударить, но она успела увернуться. Тогда он снова опустился на циновку и так сидел, уставившись в пол. Время от времени он тяжело вздыхал и бил себя кулаком по лбу.
Наступил вечер. Луафата подошла к Пеилуа и, упершись руками в бока, сказала:
– Теперь у тебя ничего нет. Ты пустое место, и я сыта тобой по горло.
– Ты не уйдешь! – крикнул он.
– Как бы не так! Я тебя ненавижу.
Пеилуа хотел было взять ее за руку, но она оттолкнула его.
– Сыта по горло. Прощай, Бледнолицый! – с издевкой сказала она по-английски.
И ушла, как и полицейские, навсегда.
Изрядно выпивший Томаси явился домой и потребовал, чтобы Пеилуа или до конца недели нашел себе работу, или убирался к отцу, они, мол, с сынком достойная парочка.
– А наша кровать? – спросила у него жена.
– Да, еще, – сказал Томаси, – с сегодняшнего дня ты будешь спать на полу. Мы забираем свою кровать, и циновки, и москитную сетку, и занавеску. Отныне ты такой же, как мы, и изволь платить за себя сам. В моей семье москиты не водятся!
(Москитами в Ваипе называют бездельников.)
Так с этого дня, который в истории Ваипе остался Днем, Когда Бледнолицый Потерял Свою Жизнь, Пеилуа спал на старой, вытертой циновке, брошенной прямо на пол, без москитной сетки и укрывался лишь ветхой простыней. И все же он был оптимистом. Каждый день ходил в полицейский участок справиться о чемодане. Даже сделал попытку найти работу. Работа была, только Пеилуа не желал за нее браться, не хотел пачкать руки. Он искал службу в конторе, как и подобает человеку, принадлежащему к элите. Пеилуа даже попытался было вернуть Луафату; но всякий раз, когда он с ней заговаривал, она советовала ему поискать «его жизнь» в другом месте.
Несколько месяцев после кражи чемодана Пеилуа сидел по вечерам дома – он не хотел встречаться с прежними приятелями (а их было очень много), у которых одалживал деньги. Где бы он ни появлялся, мальчишки кричали ему вслед: «Голый Бледнолицый!» Он похудел, так как Томаси больше не хотел кормить его и даже стал оскорблять, называя «ни на что не годным бездельником». Единственная оставшаяся у Пеилуа рубашка скоро выцвела и прохудилась, в такой он и ходил, потому что не умел держать в руках иголку. То же произошло с брюками, носками и туфлями. Он как мог берег их и надевал, только когда отправлялся на поиски работы. Дома он носил старую лавалава и майку, с явной неохотой пожертвованные ему Томаси. Но Пеилуа не обиделся на дядю; он с нетерпением ждал, когда отец позовет его к себе, и тогда он снова заживет, как ему было предназначено…
В тот вечер, когда умер Алапати, Пеилуа надел рубашку, брюки, носки, туфли и пошел к Фофонге.
Он открыл дверь. И в переполненной людьми комнате сразу стало тихо.
– Входи, Бледнолицый! – крикнул ему из-за стойки тучный Фофонга.
Пеилуа вошел. Все смотрели, как он идет к стойке.
– Ты неважно выглядишь, приятель, – сказал Фофонга и налил ему пива.
Пеилуа взял стакан и выпил его до дна. Он почувствовал, как кто-то подошел к нему вплотную. Потом толкнул его локтем в бок. Он сделал вид, что ничего не заметил.
– Еще? – спросил Фофонга.
Пеилуа кивнул. Маленький бумажный шарик попал ему в затылок и, подскочив, пролетел над головой Фофонги. Тот снова наполнил стакан.
– Плати, – сказал он.
Пеилуа взял из рук Фофонги стакан и осушил его одним глотком. Потом поставил его на стойку и подтолкнул к Фофонге, чтобы тот налил еще. Фофонга глянул на мужчин, на Лафогу, старшего брата Луафаты, известного всему Ваипе своей жестокостью. Лафонга кивнул. Фофонга опять наполнил стакан. И опять Пеилуа выпил его до дна.
Когда он ставил стакан на стойку, еще один локоть толкнул его в правый бок. На этот раз ему труднее было не обратить внимания, потому что все видели, как его ударили, но Пеилуа опять промолчал, только медленно повернул голову и оглядел мужчин, сидевших за грязными столами и на полу. Он видел их будто в ночном кошмаре, молчаливых и страшных, готовых к ничем не объяснимой жестокости; он не понимал их и от этого вдруг смертельно испугался. С отчаянием погружаясь в воспоминания о Ваипе, частью которого он был до отъезда в Новую Зеландию, он осознал, чего они от него ждали. Предав себя, он предал и их. Он предал их надежды и мечты, воплотившиеся в нем.
– Простите меня, – сказал он. Никто ему не ответил. – Простите. Я не хотел…
– Чего? – спросил стоявший с ним рядом Лафонга.
Вот он, последний выбор. Пеилуа колебался, и смелость умирала в нем.
– Ничего, – ответил он. И опять повернулся к стойке, спиной к ним. Лафонга вызывающе захохотал прямо ему в ухо.
– Пожалуйста! – пробормотал Пеилуа.
Он бросился к двери.
Двое преградили ему дорогу. Кинулся влево – там еще двое.
– Ну, пожалуйста, – умолял Пеилуа, ползая на коленях. – Пожалуйста. Я не хотел. Я любил ее. Она мне изменила!
То, что он целый год старался похоронить в памяти, сейчас вырвалось на волю и встало перед ним. Мэри Дунстан. Так ее звали, ту женщину-папаланги, которую он любил в Новой Зеландии, которая была для него воплощением всех его надежд и предала его, как он предал Ваипе. Тот Ваипе, который он знал и любил с детства. Он на все был готов ради нее. На все. Когда он впервые увидел ее, ему показалось, что в ней было все, все то, что он искал в ее мире: красота, доброта, нежность, знания, свободная любовь. Как он ошибся! Как ошибся!
Он застал ее в постели с другим мужчиной. Он чуть не убил ее и ее любовника, он бросился на них и бил их в припадке безрассудной смелости, той смелости, которой она лишила его, едва он влюбился.
Судья постановил выслать его из страны.
И теперь, когда он умолял этих людей, умолял Ваипе простить его за то, чего они не понимали или не хотели понять, он знал, что все еще любит ее. Знал, что боится окончательного приговора Ваипе.
Он рыдал от страха.
Он визжал, когда сильные, жестокие руки поднимали его на ноги. И взвыл, едва первый кулак расквасил ему лицо и отшвырнул куда-то и из носа хлынула кровь.
Они били его, пока он не потерял сознание, потом стащили с него рубашку, брюки, туфли и вышвырнули в ночь.
Двенадцать недель пролежал он в больнице после очень серьезной операции на черепе. Потом приехал старший брат и увез Пеилуа домой.
Пеилуа и сейчас живет в Ваипе. Его часто можно видеть сидящим в грязном кресле возле родительского дома. Ему всего тридцать пять лет, а выглядит он высохшим стариком, у него вздувшиеся вены на руках, седые волосы, глубоко запавшие глаза с неподвластным времени доверчивым выражением. Подойдите к нему и спросите, кто он такой.
– Я белый. Бледнолицый, – ответит он вам по-английски. И улыбнется, как довольный ребенок.
Настоящий сын Ваипе умер в Новой Зеландии, погубленный белой женщиной, которая его не любила. В Ваипе к нам вернулся Бледнолицый. И мы его распяли.








