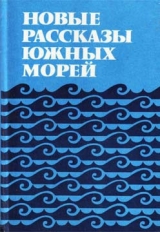
Текст книги "Новые рассказы южных морей"
Автор книги: Вити Ихимаэра
Соавторы: Джон Вайко,Колин Джонсон,Марджори Кромомб,Кумалау Тавали,Джон Калиба,Альберт Вендт,Патриция Грейс,Ванесса Гриффен,Биримбир Вонгар
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 17 страниц)
Мистер Иосуа Паовале – верноподданнейший чиновник Департамента общественных работ, более тридцати лет проработавший сначала младшим, потом старшим клерком, строгий отец семерых образцовых детей (четырех мальчиков и трех девочек), уважаемый, хотя временами слишком усердный и напыщенный, церковный староста, всеми признанный лидер местных мужчин, непременный член Ассоциации выпускников Авеле и ненасытный читатель религиозных брошюр, распространяемых Свидетелями Иеговы, – мистер Иосуа Паовале неторопливо брился в душевой каморке позади дома (в свои шестьдесят лет он чувствовал в себе силы жить вечно), когда Нофоа, его жена уже более сорока лет, мать всех его детей, вышла из-за кустов гибискуса, что стеной окружали душ, и, поинтересовавшись, всем ли он доволен, вышибла ему мозги из ружья, накануне любезно одолженного ей соседкой, миссис Таньелу. (За два дня до этого события миссис Таньелу сообщила Нофоа, что ее муж подарил некой «китайской крошке», работающей у него в конторе, лосьон для волос и, пожалуй, слишком большой отрез шелка. «Подобные подарки, – сказала тогда миссис Таньелу, на которой Паовале сорок лет назад отказался жениться, – могут означать только одно: незаконную связь. Такой лосьон дарят только любовнице!») Нофоа, которую Паовале пламенно любил с той самой минуты, как убедился (под изгородью недалеко от больницы, где она училась на медицинскую сестру) в ее девственности, и до мгновения, когда она застрелила его, обладала спокойным, сдержанным характером. Это подтверждали все выступавшие на суде свидетели. И соседи, и прихожане местной церкви, и члены женского комитета знали ее как добрую, любящую женщину, беззаветно преданную мужу, детям, семье и богу. Ее духовник, не отрицавший блага смертной казни, заявил на суде: «Нофоа – честная женщина, очень-очень честная, очень добрая и очень работящая. Она достойная дочь церкви и просто неспособна причинить кому-нибудь зло». Но судью Макарти, престарелого шотландца с огненно-рыжими волосами и зловещим голосом, из-за которого его прозвали Дьяволом, прошлое не интересовало. «Я готов поверить… я даже верю, что миссис Паовале хорошая мать, добрая христианка и достойная гражданка, но сие не имеет никакого отношения к убийству! – изрек из-под белого парика судья Макарти. – Согласно обвинительному заключению, миссис Паовале умышленно застрелила своего мужа, Иосуа Паовале».
На следующий день суд в лице судьи Макарти признал миссис Паовале виновной в убийстве из ревности. Миссис Паовале убила мужа двумя выстрелами из ружья двенадцатого калибра, после чего добровольно отдала себя в руки полиции и в письменном заявлении признала себя виновной в убийстве Иосуа Паовале. Миссис Паовале, пятидесяти восьми лет от роду, проживающая в Ваипе, была признана виновной в преднамеренном убийстве.
Большинство присутствовавших на суде, узнав, что миссис Паовале убила мужа за измену, оправдывали ее. Жены или мужья, поступающие иначе, – это не женщины и не мужчины, это бесчувственные амебы. Продырявить из ружья череп мужа и вышибить его неверные мозги было поистине необходимо, отдать себя в руки полиции и признать вину – великолепно, геройски и по-христиански. А посему миссис Нофоа Паовале, пятидесяти восьми лет от роду, проживающая в Ваипе, не виновна в преднамеренном убийстве: она лишь достойно отомстила за вопиющую обиду, нанесенную ей Иосуа Паовале, шестидесяти лет от роду, проживавшему там же, в Ваипе.
15 февраля 1952 года в четыре часа дня суд в лице судьи Макарти, известного еще как Засиженный-Мухами-Дьявол из-за множества веснушек на его лице, признал миссис Паовале виновной в убийстве и приговорил ее к повешению.
Опять будет знойный день; еще не совсем проснувшись, Паовале уже это чувствовал. Температура за восемьдесят[30]30
По Фаренгейту, или 27° по Цельсию.
[Закрыть], ветра нет, только солнце – одно пульсирующее солнце. Все дело в сверхчувствительности его кожи, которая могла бы поспорить с самым точным градусником. Сколько Паовале себя помнил, каждое утро, не открывая глаз, он уже знал, каким будет день. Половина седьмого или без пятнадцати семь, он знал точно, хотя часы лежали под подушкой и он на них еще не глядел. Он всегда просыпался минута в минуту без будильника: часы были у него в голове, подсоединенные к мозгу тридцатилетней привычкой просыпаться в одно и то же время. Он открыл глаза. Вздохнул. 1 июня 1951 года. Шестьдесят лет, пять месяцев и двадцать дней. Он сел под москитной сеткой. Все так же не глядя, он в точности знал, где в данный момент находится любой член его семьи: Нофоа и дочери, ученицы старших классов, готовят на кухне завтрак – чай и хлеб с маслом; его старшие мальчики собираются на работу, они сейчас в душе или ждут своей очереди, их жены помогают на кухне; Малелуа – самый младший и любимый сын (который, Паовале верил, закончит школу, поедет на казенный счет в новозеландский университет и вернется домой с ученой степенью) – еще спит на единственной в доме кровати; пятеро внуков спят под кроватью, четыре внучки либо тоже еще спят, либо ушли собирать листья хлебного дерева. Громко зевнув, Паовале приподнял москитную сетку, на коленях выполз из-под нее, завернулся в простыню, которой укрывался ночью, и, скрестив ноги, сел лицом к уже пробудившейся от сна дороге.
Река Ваипе протекала в нескольких ярдах от дома, за полем цветущего таро, огороженным кустарником. Она-то и дала имя всей округе. Утренний воздух был пропитан ее вонью, но Паовале не обращал внимания, еще в детстве приняв ее как неотъемлемую часть своего единственного акра земли, дома, семьи и всего, что его окружало. Похоже на запах смерти, часто думал он поздним вечером, когда ему не хотелось спать и он слушал, как река огромной илистой змеей ползет мимо полицейского участка, мимо церкви, к морю.
Он затянул молитву. С плачем и сопением проснулись внуки и Малелуа и тоже запели. Без пятнадцати семь. Потом он надел лавалава, аккуратно свернул простыню и, положив ее на сундук позади сетки, пошел в душ.
Его женатые сыновья сидели на кухне, пили чай из дымящихся кружек и ели толстые ломти хлеба, а Нофоа и невестки намазывали маслом еще куски и складывали их на оловянные тарелки для младших детей. Старшие сыновья горько его разочаровали. Ни один не пошел дальше начальной школы, и не его в том вина. Он все сделал, чтоб заинтересовать их учебой и чиновничьей службой, которую не получишь без образования, но они предпочитали шатание по улицам, биллиардные салоны, кино – легкое, беззаботное времяпрепровождение большинства молодых людей в Ваипе, – пока вдруг не оказались женатыми, и тогда Паовале, которому надоело всех содержать, пристроил их на дорожные работы. Однако продолжал помогать им, таково уж было божье благословение и его отцовский долг, от которого ему не избавиться до пенсии – впрочем, до нее осталось всего два года, – а там уж им придется содержать отца. Малелуа, самый умный из сыновей, получит степень и порадует его в старости, добьется еще более высокого положения для их семьи в Ваипе и вообще в стране.
Мимо него из душа прошли дочери и, не останавливаясь, кивнули отцу. Старшая дочь, Сина, на редкость красивая и послушная девушка, хотела стать медицинской сестрой, другая – уродливая Фаатаси – мечтала быть учительницей, одна Луафата, младшая, еще толком не знала, чего она хочет. Все они хорошо учились, и он надеялся, что удачно выйдут замуж. Может быть, за священников. Или за папа-ланги[31]31
Потрясатели небес (самоанск.). Так островитяне называют чужеземных пришельцев, потрясших основы самоанского жизненного уклада.
[Закрыть]. Или за учителей. Или за самоанских врачей. Пусть даже за чиновников. Замужество придаст им самоуважения и утвердит их положение в обществе. А сколько девушек в Ваипе погрязли в «грешной жизни». Никакого самоуважения. Потаскушки! Он заставил себя не думать об этом. И пошел в душ.
Еще не повернув кран, он посмотрел на небо, ослепительно яркое, пронизывающее все своим светом. Ну почему я не могу бросить работу и, как другие старики, посиживать себе в тенечке и, ни о чем не думая, кроме умиротворения души, готовиться к встрече с всевышним! Он ощущал силу неба, ласково обнимающего и поглощающего его всего. Хватит думать. Он включил душ, и его обдало холодом и вернуло к действительности; от выложенного камнями пола поднимался запах мочи, земляные черви корчились в иле возле изгороди, над головой кружили мухи, пронизывающий холод замораживал кости. Я не должен давать волю воображению, подумал он. Он был привязан к земле, прикован к ней неотвратимо испускаемым ею теплом. Она звала его обратно к себе, а небо стремилось вознести его вверх, как частицу света, как легкую звезду. Взяв с металлической полочки, прикрепленной к трубе, бритву, он принялся небрежно брить щеки. «Ты, Иосуа Паовале, – сказал бы его отец, – ты, шестидесятилетний слуга властей, не имеешь права мечтать – ты кормишь большую прожорливую семью, ты должен ее одевать, учить и, может статься, хоронить; ты продаешь свою кровь ради порождений твоей плоти, чтобы они жили, радовались, производили на свет детей, выжимали из тебя все соки, пока ты не станешь пустым, высохшим стручком; ты, мой сын, ничтожный человечишка, накрахмаленный холуй, продавший себя за шестьдесят долларов в месяц, грошовую пенсию и дешевый гроб; твои неблагодарные и недостойные сыновья наспех заколотят его, едва ты испустишь дух, и смрад от тебя будет такой же, как от ила Ваипе». Паовале швырнул бритву в изгородь. «А ты вспомни, чем был ты сам, – кощунственно поддел он отца, – Семейное бремя было тебе не по силам, и ты умер в объятиях беззубой сифилитички. Ты получил в наследство восемь акров земли и спустил их за долги, ты расплачивался ими за выпивку и женщин. Ты предал нашу семью. Ты не верил ни в честь, ни в совесть, ни в бота. Может быть, я ничтожество, но у меня есть честь и совесть. Я выполнил свой долг перед семьей. Я плачу долги. Верю в бога». – «Ты можешь верить в бога, сын, и все равно ты ничтожество. Ничтожный человек трусит даже там, где настоящий мужчина стоит до конца. Когда последний раз точил ты свое оружие? Год назад? Два? Десять? Бедный мой сын, жалкий засохший банан!»
Паовале что было сил быстро тер себя под душем, проклиная в душе отца и себя, теперешнюю жизнь, свою семью и судьбу, а струи воды с шипением и свистом падали на его тело и под яркими лучами солнца переливались, как ртуть, и вспыхивали, как бездымное пламя.
Нофоа ждала его на кухне. Обернувшись сухим полотенцем, он вошел в дом, стянул с себя мокрую лавалава и, швырнув ее на каменный пол, скрылся за занавеской, где принялся одеваться, чтоб идти на работу.
– Что случилось? – окликнула его Нофоа.
Ответа не последовало. Она налила себе чаю и принялась за еду. Старшие дети ушли в школу, и в доме оставались только малыши. Они ели на кухне под присмотром невесток.
– Где моя лавалава? – спросил он.
– В сундуке, – сказала Нофоа.
– А рубашка?
– Там же.
– Достань!
Она прошла за занавеску, открыла сундук и подала ему лавалава и рубашку. Не обращая на нее внимания, он перед зеркалом расчесывал волосы. Она положила все на сундук и, повернувшись, хотела было уйти.
– Платок.
Она достала из сундука белый носовой платок и положила его рядом с другими вещами.
– Галстук.
Она достала и галстук. Наконец он повернулся и, все так же не глядя на нее, немалым усилием воли сохранявшую спокойствие, сделал резкое движение рукой, приказывая ей уйти. Сердито всплеснув руками, она вышла.
– Мои сандалии, – услышала она, стоило ей приняться за еду.
– А что с ними?
– Где они?
– На полу за сундуком, – стараясь отвечать как обычно, спокойно сказала она.
Заглушая его брань, громыхнул сундук, потом послышалось несколько ударов по нему сандалиями. Она продолжала есть. После еще нескольких ругательств на смеси английского и самоанского, ударов, грохота, тяжких вздохов он наконец вышел из-за занавески. Остановился, обвел взглядом жену, накрытый стол и все вокруг.
На нем была кремовая рубашка с жестким воротничком, темно-синий галстук, сшитая на заказ лавалава с карманами и черные сандалии на толстой подошве, уже потерявшие первоначальный блеск от долгой носки и тщательного ухода.
– Не ребячься! – сказала она.
Он мигнул.
– Не ребячься, ах, не ребячься, – пробурчал он.
– Да, не ребячься, – повторила она. – Иди ешь. А то опоздаешь на работу.
– В моем доме мне платят одной неблагодарностью. Никому нет дела до моих вещей. Для вас всех я ничто, дурак… Вы вгоняете меня в гроб!
– Садись ешь, – опять сказала она. Он сел. Она пододвинула ему завтрак.
– Я работаю день и ночь, – не унимался он. – Ради чего? Все равно никакой благодарности! – говорил он громко, стараясь внушить невесткам почтение и страх. – Всю жизнь работаю, работаю, работаю! Ради чего? Я уже старый, я устал…
Нофоа слышала это не в первый раз. Она понимала, что ему хочется внимания, хочется, чтобы его пожалели, и не сердилась. Он побушует, потом покорно встанет и пойдет на работу. Он не сделает ничего безрассудного, необдуманного. Паовале есть Паовале: тихий, безобидный, честный кормилец и добропорядочный муж. За это она его и любила. В Ваипе мужья, как правило, не работали: одни потому, что не было работы, другие просто не хотели работать. Они безжалостно избивали жен, напивались, спали с кем попало, воровали, скандалили, нарушали все заповеди Библии, им было наплевать и на семью, и на бога. Они жили во мраке греха и страха, как невежественные язычники, как дикари, не знавшие христианства. Паовале был другим – нежным, добрым, цивилизованным.
– Джем есть? – спросил он.
– Нет.
– Нет джема?
– Нет. Дети доели…
– А я что говорил? Ничего для меня нет, ничего, ничего! – Он схватил кружку и выплеснул чай. Потом вскочил на ноги и смахнул со стола тарелку с хлебом: бутерброды рассыпались, а тарелка пронеслась над головой Нофоа и упала на кровать, – Надоело, надоело, надоело! Мне надоело… о, черт!
Он с грохотом скатился по ступенькам и через уже замлевший под солнцем газон направился к дороге.
– Ты забыл портфель! – крикнула она ему вдогонку.
Он остановился и, не оборачиваясь, приказал:
– Принеси!
Она принесла.
Остался позади полицейский участок – неуклюжее двухэтажное здание с просторными верандами и грязными стенами (и несколькими полицейскими, гревшимися, как он знал, на солнце на передней веранде). Сандалии хрустели по гравию тротуара, поднимая облачка пыли, оседавшей на его лавалава. Вот позади и казначейство, и еще одно побеленное двухэтажное здание прямо около порта. Наконец, повернув налево, он очутился на набережной, главной магистрали города, что держится сначала поближе к реке, а потом исчезает в глубине города и похожа на покинутое русло. Он увидел порт, гладь воды, пока еще свободной от кораблей и лодок и мягко перекатывающейся к горизонту, навстречу облаку, похожему на кусок белой ваты.
Проходя мимо низенькой закопченной каланчи, куда однажды вечером он забрел поиграть в карты с изнывавшими от безделья пожарными, он услышал приветствия двух молодых пожарных, сидевших на перилах веранды, и широко им улыбнулся; мимо рынка – серых стальных столбов под проржавевшим железным куполом; здесь суетливые торговцы фруктами, овощами, дарами моря уже раскладывали свой товар, смеялись и спорили, как хозяева города, над которым начинали подниматься нездоровые испарения, запах гнилья, грязных, давно не мытых тел и солнца. Еще несколько деревянных строений остались позади. Теперь дома стояли тесно прижавшись друг к другу, зияя разверстой пастью окон.
Вот и северная часть города, сердце Ваипе, узенький проход между двумя рядами домов, охраняемый несметным роем жужжащих мух. Неожиданно для себя он остановился и заглянул в ворота. Полуразвалившиеся лачуги вокруг маленькой площади, покрытой черной галькой и гравием, – заброшенный мир, отрезанный от моря и от солнца; нищенский мир, доставшийся от предков, которые за гроши продали такую дорогую теперь землю их города. За топоры, табак, мушкеты и ситец продали они ее купцам-папаланги (или даром отдали церкви). Паовале постарался побороть в себе горечь, после того как много лет назад принял – потому что не оставалось ничего другого – эту нищету, которую века невежества, алчности, обмана и лицемерия оставили ему в наследство.
Бог в конце концов восстановит справедливость, думал Паовале, продолжая свой путь. Злость на семью постепенно утихала, он шагал легко и свободно, опять становясь тем мистером Иосуа Паовале, о котором он (и большинство из тех, кто его знал) привык думать как о важном государственном чиновнике, свободно владеющем двумя языками, в доспехах из жесткого воротничка и черного кожаного портфеля с его именем, выгравированным золотыми буквами; как о гордом и преданном слуге колониальных властей, дети которого успешно учатся в лучшей государственной школе; добром и справедливом муже и отце и ревностном христианине. Человеке энергичном, со всем согласным и готовым до конца служить колониальным властям.
Он прошел между двумя рядами столов. Увидав его, машинистки и клерки, болтавшие в дальнем углу комнаты, умолкли и расселись за свои столы. Достав из кармана связку ключей, он отпер маленькое помещение, отгороженное стеклянной стенкой, – его кабинет – и вошел туда. Там он поставил портфель на стол, уселся на вращающийся стул и внимательно осмотрел оставшуюся за стеклом контору. Он видел спины машинисток и клерков, с преувеличенным энтузиазмом ушедших в работу. Столы, полки, жалюзи блестели в солнечных лучах. Все хромированное, полированное, ладно пригнанное. С удовлетворением убедившись, что все в порядке, он открыл портфель. Достал два карандаша, три шариковые ручки и один «паркер-51», аккуратно положил с правой стороны на покрытый бумагой стол. Потом поставил портфель на полку позади себя, выдвинул верхний ящик стола, скользнул рукой по стопке папок, отыскал нужные бумаги и тоже разложил перед собой. Вытер руки о лавалава, с громким хрустом подергал пальцы, взял «паркер-51», снял колпачок, внимательно осмотрел перо, удовлетворенно кивнул, открыл верхнюю папку, вздохнул и приступил к работе. Ни одного ненужного движения, каждое было частью ритуала, выверенного и усовершенствованного за многие годы, пока он не стал частью его самого и того высшего ритуала, коим была его жизнь.
Минул час. Денежные счета проверены, записаны и сбалансированы. Записаны и сбалансированы. Аккуратные маленькие цифры защищали его, ограждали от беспокойного мира за стенами его конторы. Прошел еще час. Раздался мягкий стук в дверь. Он, не оглядываясь, знал: это миссис Тина Мейер, старшая машинистка, ходячая хроника конторы, бездетная, чересчур болтливая женщина, с небольшой примесью немецкой крови; время от времени она с кем-нибудь ссорилась, но, в сущности, была совершенно безвредной. Такой же благоговейный страх, который она испытывала перед ним, ее подчиненные испытывали перед ней, и так далее, сверху донизу, по методично разработанной иерархической лестнице, которую он (и колониальные власти) создали здесь (и во всех прочих правительственных учреждениях). Он сделал ей знак войти.
– Доброе утро, – сказала она по-английски. (На работе он никому не разрешал говорить по-самоански.)
Из нижнего левого ящика он достал пачку писем и подал ей.
– Проверьте, чтобы они не наделали ошибок, грамматику и все прочее, – сказал он. (Он повторял это каждое утро.) Она кивнула и крепко прижала к себе письма, показывая тем самым, что намерена защищать их даже ценою жизни.
– Будут еще распоряжения? – спросила она.
Он поднял голову.
– Будут еще распоряжения, сэр? – поправилась она. Он благосклонно улыбнулся.
– Нет, – И она, пятясь, вышла из комнаты.
Паовале глянул на часы. Десять тридцать. Тогда он встал, собрал бумаги и положил их на одну из полок металлического шкафа рядом, потом коснулся оставшихся на столе бумаг и ручек, пригладил руками волосы, поправил галстук и, заложив руки за спину, вышел в контору.
При его появлении все тотчас затихли. Молча он переходил от стола к столу, заглядывал через плечи машинисток и клерков и то тут, то там с укоризной отмечал неправильно употребленное слово, грамматическую ошибку или пятно на бумаге; виновный мямлил «простите, сэр» и обещал тут же исправить.
Дойдя до двери-вертушки, за которой виднелся главный коридор, мистер Паовале повернулся и, будто король, обозревающий свои владения, благосклонным взглядом окинул клерков, машинисток, конторскую мебель, золотящиеся в солнечных лучах окна. Он был убежден, что такие добродетели, как строгая дисциплина, расторопность, опрятность и трудолюбие, уступают одной лишь набожности.
Прямо против двери, по другую сторону коридора, была лестница, выложенная красным кафелем. Она вела к просторным кабинетам директора и его заместителя, однако ни один служащий рангом ниже мистера Паовале не имел права по ней подняться. Услыхав шаги, эхом отозвавшиеся здесь, внизу, он выпрямился и с лучезарной улыбкой на лице повернулся к лестнице.
Заместитель директора, мистер Дэвид Траст, сойдя с последней ступеньки, по-военному четким шагом направился к Паовале. Огромные, начищенные до блеска коричневые кожаные туфли гулко стучали по бетонному полу, а сам он был воплощением самоуверенного собственничества, милостивого господства и отеческой власти над всем, что было вокруг него, в том числе и мистером Паовале. Оно и понятно, ведь Западное Самоа принадлежит Новой Зеландии, родине мистера Траста, и сюда он приехал как высокопоставленный новозеландский чиновник помочь местному населению приобщиться к цивилизации, стать достойным независимого статуса.
– Доброе утро, – обращаясь к Паовале, мистер Траст смотрел не на него, а на ряды столов.
– Доброе утро, сэр, – ответил Паовале. Он стоял вытянувшись, как солдат перед офицером.
– У вас все в порядке? Есть вопросы?
Мистер Траст был на диво долговязым, жилистым мужчиной с острыми чертами лица и почти незаметным под крючковатым носом узким ртом. На носу и на щеках у него сильно шелушилась кожа. Прямые черные волосы, припечатанные к маленькому черепу с помощью жидкого вазелинового масла, разделял справа пробор. В последний уик-энд он загорал и еще теперь распространял вокруг себя запах солнца. Для Паовале все, что имело отношение к мистеру Трасту, было замечательным, ведь он был настоящим папаланги.
– Нет, сэр, – ответил Паовале.
– Хорошо. Очень хорошо.
Мистер Траст всегда говорил кратко и решительно, чтобы не так был заметен его гнусавый новозеландский прононс, от которого он старался избавиться еще во время второй мировой войны, когда его, армейского писаря, судьба забросила в Италию. Но, разговаривая с Паовале, он мог не беспокоиться: тот восхищался его выговором и мечтал, что Малелуа будет когда-нибудь произносить английские слова точь-в-точь как мистер Траст.
Паовале крутанул дверь-вертушку, открывая для мистера Траста вход. Мистер Траст вошел и, прочесывая взглядом контору, остановился рядом с Паовале, который был ниже его на целую голову.
– Да, кстати. Сегодня в одиннадцать тридцать к вам придет девушка. Это наша новая машинистка. Мисс Анна Че… Впрочем, она сама назовет вам и имя, и фамилию. Она китаянка, молоденькая и, судя по школьному аттестату, весьма прилежная.
– Спасибо, сэр.
– Вот и договорились, – сказал мистер Траст и, по-военному чеканя шаг, обошел контору. Паовале следовал за ним на почтительном расстоянии.
Мистер Паовале (после ухода мистера Дэвида Траста он вновь стал мистером) вернулся к себе в кабинет к завтраку, съел два рассыпчатых бисквита с имбирем и выпил чашку чая без молока – именно так завтракал сам директор. (Все это миссис Мейер подала ему на рабочий стол.) Паовале, как мистер Траст и директор, завтракал один у себя в кабинете, остальные же сотрудники отдела – все вместе за столом курьера. На утренний чай отводилось пятнадцать минут, по истечении которых курьер, смуглый мужчина средних лет, одетый в накрахмаленную белую рубашку, шорты и гольфы, входил в его кабинет и собирал грязную посуду.
Одиннадцать тридцать. Паовале отложил бумаги и в ожидании новой машинистки что-то небрежно писал или чертил на промокашке.
Постучав, вошла миссис Мейер. Паовале, делая вид, что работает, продолжал сидеть в той же позе.
– Да? – спросил он, хотя знал, зачем она пришла.
– К вам девушка, сэр, – сказала миссис Мейер.
– Китаянка?
– Да, сэр. Китаянка.
– Позовите.
Он разорвал промокашку, скатал из нее шарик, бросил его в корзину и сделал вид, будто пишет нечто весьма важное на чистой странице.
Когда девушка вошла, он, не отрываясь от своего занятия, сказал:
– Садитесь.
Стул против него скрипнул, и он уловил нежный запах духов.
– Чем могу быть полезен? – все еще продолжая писать, спросил он.
Наступила пауза, потом испуганная девушка неуверенно пролепетала:
– Меня прислал мистер Траст.
– Вы наша новая машинистка?
– Да.
– В нашем учреждении, обращаясь к вышестоящему, мы говорим «сэр», – поправил он ее и в первый раз поднял голову.
– Извините, сэр, – проговорила она, не отрывая глаз от судорожно сжатых на коленях рук.
«Очень мила для китаянки. Скорее всего, наполовину самоанка», – подумал он.
– Ваше имя? – спросил он уже не так сурово.
– Анна Чан, сэр, – ответила она.
Он записал, про себя отметив, что лицо у нее настоящей папаланги. Слегка выступающие скулы, небольшой тонкий нос, чуть раскосые глаза, черные ресницы, волосы блестят от лосьона, прелестные, как у настоящей папаланги, губы, искусно подкрашенные, почти такие же прелестные, как у миссис Этель Траст.
– Сколько вам лет?
– Девятнадцать, сэр.
– Так, так, – проговорил он, записывая.
Дорогая белая блузка с кружевными оборками вокруг шеи и на рукавах, дорогая синяя юбка плотно сидит на бедрах и свободно вьется вокруг колен, дорогие серебряные часы и браслеты. Она так же прелестна, как миссис Этель Траст.
– Где вы учились?
– В мормонском колледже.
– У мормонов?
– Простите, сэр.
Она опять испугалась, и он проклял свою глупость.
– Ничего. Я не против мормонов. У меня много, даже очень много друзей мормонов. Люди как люди. Пока человек ходит в церковь, я ничего против него не имею. Я и сам…
Она улыбнулась, и Паовале почувствовал, как внутри у него потеплело от того, что он загладил ненужную резкость. Конечно, она китаянка, и к тому же из мормонов, но она очень похожа на миссис Траст, а миссис Траст была его идеалом женщины, жены и матери.
– А чем занимается ваш отец? – вдруг спросил он и, заметив, что она опять смутилась, пожалел о своем вопросе.
– У него бизнес.
По ее ответу он понял, что ей стыдно за отца, и проникся к ней симпатией. Еще бы, какая девочка захочет иметь отцом наемного рабочего, да еще китайца!
– Ничего. Мы за родителей не в ответе.
Она опять улыбнулась.
– У него несколько такси и ресторан.
– Как? Ваш отец тот самый мистер Чан?
– Да, сэр.
– Очень-очень рад. Я хорошо знаю вашего отца.
Мистер Чан был одним из самых богатых людей в стране. Когда-то он приехал на Самоа по найму работать на плантации за десять самоанских центов в день. А теперь, хотя он до сих пор не умеет ни читать, ни писать, ни сносно говорить по-английски или по-самоански, у него целая армада такси, процветающий ресторан, две плантации какао и современный двухэтажный магазин.
– Мы счастливы, что у нас будет работать дочь такого уважаемого человека. Вы можете приступить сейчас же, если угодно, мисс Чан.
– Спасибо, сэр, – ответила она.
Он подал знак, и в кабинет тотчас вошла миссис Мейер.
– Проводите мисс Чан, подберите ей стол получше, машинку и все прочее. Она приступает сегодня, – давал он указания миссис Мейер. Мисс Чан встала. – Да, еще: с сегодняшнего дня мою переписку отдавайте мисс Чан. Она самая опытная из наших молодых машинисток.
Лицо миссис Мейер исказила гримаса обиды, но он ничего не заметил.
– Спасибо, сэр, – сказала мисс Чан и последовала за миссис Мейер.
Отныне в его стеклянной конторе все будет иначе. Теперь в ней работает мисс Чан. Жажда жизни, красота и неискушенность юности, думал он. Заря, золотое кружево из теплого солнечного света на утренней глади моря. Мисс Чан, мисс Анна Чан, в ее имени почти столько же музыки, как в звонком и энергичном миссис Этель Траст. В этих звуках открывался ему мир папаланги – мечта всей его безрадостной жизни, в них была та прелесть юности, которой ему не попалась, – Нофоа даже в первое их свидание опалила и опьянила его жаром своей страсти.
До обеда он не поднимался из-за стола, рисовал что-то на промокашке и, перебирая в памяти каждое слово из беседы с мисс Чан, то и дело поглядывал на нее через стекло и вздыхал.
Прежде чем уйти домой, где его ждали вареные плоды хлебного дерева и баночная селедка, он постарался убедить себя в том, что для него, верного и преданного мужа, нет ничего греховного в идеализации мисс Чан и миссис Траст. Ничего плотского, ничего грязного.
Мистера Траста назвали Дэвидом Джоном по воле его деспотичной мамаши, которая после тридцати лет супружеской жизни развелась с его отцом, «фермером-неудачником», оказавшимся неспособным обеспечить ее домом с пятью спальнями, автомобилем, стиральной машиной, коврами – короче, всем тем, что вправе требовать разумная жена от разумного мужа. На Западном Самоа мистер Траст доживал четвертый год. После войны он вернулся на свое старое место – в Новозеландское государственное кредитное общество – и проработал там два года, прежде чем дал согласие переехать сюда, на что до него не соглашался ни один новозеландский чиновник.
Он был женат (уже почти пятнадцать лет) на женщине пятью годами его старше. До замужества Этель работала учительницей в захолустном городишке… Они познакомились в крошечном баре, когда он с приятелями по службе приехал в те места на оленью охоту, и после бурного веселья, которое началось сразу, стоило ему угостить ее рюмкой виски, он переспал с ней на диване у нее дома. (И навсегда сохранил досадное ощущение, что его обманули, потому что она не была девушкой.) Через месяц, обменявшись множеством, как им казалось, «любовных» писем, они сочетались браком в большой методистской церкви на окраине Окленда, «его города». Он женился на ней, потому что, как потом признавался самому себе, ни одна женщина за всю его жизнь не взглянула на него дважды, не говоря уж о том, чтоб спать с ним чаще одного-двух раз в неделю. В обществе (которое составляли новозеландцы из самоанской администрации) он говорил о ней не иначе, как «эта удивительная женщина», однако в узком кругу и, конечно же, в ее отсутствие, потому что она внушала ему ужас, он называл ее «сварливой холодной сукой». И каждый раз в канун Нового года, после почти трехсотшестидесятипятидневного совместного существования, он неизменно собирался просить у нее развода. У них было трое детей: два мальчика и девочка, с которыми у него не было общего языка. Этель хотела, чтобы первого ребенка они завели через три года после свадьбы, второго – еще через четыре года и третьего – через пять лет после второго. Он подчинился.








