
Текст книги "Тайна аптекаря и его кота"
Автор книги: Виталий Каплан
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 32 страниц)
Лист 5
Это случилось спустя три недели, как я в доме господина Алаглани появился. День, помню, выдался дождливый, натянуло ещё накануне облаков, отгремела ночью гроза. Что дожди пошли – это, конечно, меня порадовало, потому что меньше придётся поливать. До того ведь такая сушь стояла, что всем нам – и даже Дамилю, приходилось после ужина, как жара ослабнет, в огород вёдра таскать. Колодезь уже был близок к истощению. Но помиловал Творец, нагнал серые, обильные влагой тучи. И потому на душе у меня было светло. Теперь после ужина поливы отменились, можно было сидеть в людской и, пока совсем не стемнеет, играть в камешки.
Знаете, наверное, такую игру? Нет, почтенный брат, это не азартная игра и не подпадает под уложение Восьмых Врат. Значит, так, объясняю: играют четверо, у каждого по десять камней, пять чёрных, пять белых. Камни располагаются наискосок. Ходить чёрным камнем можно вперёд-назад, а белым – вправо-влево, но только на один палец. Чужие камни можно снимать, коли твой в него первым упрётся. Побеждает, кто больше своих камней доведёт до дальней черты. Первым ходит тот, кто с северной стороны сидит… В камешки у нас лучше всех Алай играет, и Халти тоже, а я старался больше проигрывать. На что играли, может, спросите? Иногда на щелбаны, а иногда и просто так – особенно, когда Алай с Халти были среди четвёрки игроков.
Ладно, я понял – это к делу не относится, про камешки больше не буду. В общем, сидели мы, играли, я для разнообразия совсем уж победить собрался – и тут приходит в людскую Дамиль и меня к господину кличет.
Ну, подумал я, началось! А куда деваться – встал и пошёл. Поднялся вслед за Дамилем по лестнице, тот постучался в кабинет: мол, тут он, Гилар, явился не запылился.
Сидел господин Алаглани, как и в первый день, за столом, а вот кот его – не на подоконнике, а в кресле для посетителей. Когда вошёл я с поклоном, поднял он, то есть кот, голову и внимательно так на меня посмотрел. Точно на мышь дохлую: то ли самому жрать, то ли хозяину принесть.
А вот что новое обнаружилось в кабинете – это два зеркала в медной оправе и на медных же подставках. На столе они стояли, на разных его концах. Зеркала немного странные – поверхность чуть вогнута, и оттого отражение кажется вытянутым и сплющенным с боков. Форма зеркал, спрашиваете? Овальные оба, в высоту примерно три королевские длани, в ширину – две.
В кабинете светло – хоть и затянуто небо облаками, но не закатилось ещё солнце и сквозь облака мутно просвечивает, вроде как желток яичный. Ну, и свечи в люстре зажжены. Господин Алаглани за столом сидит, смотрит на меня и краем губ улыбается. А я стою у двери дурак дураком.
– Ну что, Гилар, – спрашивает он, – как тебе служится?
– Хорошо, господин мой, – отвечаю.
– Это хорошо, что хорошо, – отвечает он и встаёт из-за стола. На нём всё тот же расшитый серебром халат, но на шее – та цепочка с изумрудом, что я в первый день у него видел.
Подошёл он к гостевому креслу, взял на руки кота – и мне рукой показывает: садись, мол.
А я что, я сел. Странно это, конечно, что господин слугу точно знатного посетителя принимает, но это ведь не первая странность в аптекарском доме. Большое кресло, двое таких, как я, поместятся.
А когда сел, то приметил, что зеркала на столе как раз в мою сторону смотрят. А между зеркалами, на краю стола – подсвечник, и три свечи горят. Уж непонятно зачем, и без них светло.
Ну вот представьте эту сцену – сижу я в кресле, спина как деревянная, правой рукой пальцы левой тискаю, а господин Алаглани стоит рядом с котом на руках, молчит и внимательно на меня смотрит. Потом говорит:
– А скажи-ка мне, Гилар, не болит ли у тебя по ночам голова?
Удивился я и ответил:
– Не болит, господин! Она у меня вообще никогда не болит… ну, если, конечно, по ней не стукнуть.
– А не болит ли сердце? Не просыпаешься ли по ночам от его биения?
– Я вообще по ночам не просыпаюсь, господин мой, – отвечаю я удивлённо. – Ну, разве что по нужде сходить.
– Видишь ли, Гилар, – отвечает господин Алаглани, – не все хвори, что у человека заводятся, ему самому заметны. Но поскольку я лекарь и поскольку ты у меня в услужении, то мой долг перед Творцом – за твоим здоровьем надзирать. А потому придётся мне проверить, всё ли в теле твоём в порядке и не грызёт ли недуг твою душу…
Ага! Если сейчас раздеваться велит, значит, верно то, чего я боялся. Хотя… может, и в самом деле дальше лекарского осмотра не пойдёт?
Но раздеваться он не велел. Зато велел на свечи смотреть – на те, которые на подсвечнике. Вернее, видел-то я аж девять свечей – из-за зеркал. И что ещё занятно – сами-то свечи обычные, сальные, огонёк жёлто-рыжий, как лисий хвост, а в зеркалах они почему-то зелёными отражались.
Ну, смотрю я на эти огоньки, а господин, по-прежнему кота с рук не спуская, за моей спиной встал. И молчит. Странный какой-то лекарский осмотр, не находите?
Потом вдруг заговорил он.
– Что душу твою грызёт, Гилар? Что ночами ранит и днём давит? Что ты хочешь забыть, да не можешь? Вспоминай! Вспоминай! Вспоминай!
И голос не такой, как всегда – на тон ниже, и тяжёлый. Такой голос, точно молоток, тут всякий себя гвоздём почует.
Но я, конечно, стал отвечать, коли спрашивает:
– Да всё грызёт! И пожар, и как повязали нас и на рудники повезли… Но пуще всего тот день проклятый, когда узнал я…
Задышал я часто-часто, и видно, наверное, по мне стало, что вот ещё миг – и зареву.
– Смотри на свечи, Гилар, – ответил мне господин. – Смотри на свечи!
А голова, между прочим, кружится, когда долго так смотришь. И глаза тяжестью наливаются, а в ушах начинает звенеть. Тонко-тонко, вроде как маленький голодный комарик. Перед глазами огоньки расплываются, уж и не поймёшь, сколько их всего и какого они цвета. Потому что не стоят они на месте, а пляшут, круги водят, и кажется мне, что это не огоньки близкие, а совсем даже далёкие звезды, и вокруг черным-черно, как в тёмном чулане. И не понять уже, где тут верх, а где низ, где право, а где лево. Какая-то огромная холодная пустота передо мной распахнулась, и затягивает меня туда, как водоворот случайную щепку.
А потом вроде развиднелось перед глазами, пришёл я малость в себя, и где же оказался? Знакомая какая комнатка! Маленькая, четыре локтя на шесть, бревенчатые стены, под потолком пучки сухих трав свисают, в окошко малюсенькое луна Гибар светит, и пол вроде как серебром залит. Хотя на самом деле понимаю я, что обычный дощатый пол, и даже не очень чистый. Но пол ладно – запах-то, запах! Какой тут тяжёлый дух стоит! Это от лежанки, откуда смотрит на меня, десятилетнего, матушка моя, Хаамайи.
Всего каких-то два месяца прошло – а высохла она, почернела. Губы сизые, точно ежевичных ягод поела, но не от ежевики такой цвет, а от серой немощи. И под глазами желтизна, скулы остро выпирают, а волосы стали серыми и ломкими. И голос такой же, подстать волосам.
– Ну, как у тебя день прошёл, Гилар? – спрашивает. Медленно слова из сизых опухших губ выползают, и каждое слово точно горячая капля воска – обжигают до слёз.
– Хорошо, матушка, – отвечаю, присаживаясь рядом и дотрагиваясь до шерстяного одеяла. – С ребятами на ручье играл, запруду ставили, навроде как у бобров. И ещё бегали наперегонки в ближнем перелесье, я обогнал Миухири и Тайилая, а меня Гирхаль обогнал…
Легко вылетают слова из моих губ, недаром же как только говорить научился, так и сказали про меня: язык без костей. И знал бы кто, как от каждого этого слова тошно! Знала бы матушка, чем на самом деле день мой был занят! Может, и хорошо, что ослабли её глаза, и в лунном свете не может она различить синяки на лице моём и на руках, по локоть голых. Не то непременно бы спросила…
Да она и так спросила:
– Не обижает тебя дядя Химарай?
И снова напрягаю я свой бескостный язык и чувствую, будто в нём, в языке, целый скелет вырос:
– Что ты, матушка! Он добрый, он меня учит, как блюда всякие посетителям готовить, как деньги считать!
Ага, учит! Конечно, учит. Новая картинка вылепилась из лунного воздуха: красное дядюшкино лицо, маленькие, словно рачьи, глазки, скрипучий голос:
– Я тебя, поганца, научу, как считать гроши!
Лицо его становится огромным, пышет от него жаром раскалённой докрасна печи, а плеть в его руке кажется клубком змей. Я лежу вниз лицом на широкой лавке, но всё равно почему-то вижу и ухмылку толстых губ, и отвислые щёки, и как ременные тонкие хвосты, злобно свистя, впиваются в голое тело. Боль пронизывает меня всего – от макушки до пяток, но боль от наказания плетью – вовсе не самое страшное. Дядюшка Химарай способен и на большее.
А ведь всего три месяца назад было не так. Была весна, распускались белые первоцветы в саду, и жив был мой батюшка, и бегал я с мальчишками запруду строить.
А потом тот день… повозка, запряжённая парой быков, и кто-то назойливо стучит в наши ворота, работники вынимают засов, и повозка неспешно вкатывается на двор, скрипят колёса по каменно-твёрдой, утоптанной земле, я выбегаю из дома, шмыгнув сопливым носом – малость простыл накануне, но как же не выбежать, когда привезли что-то интересное… и тут я вижу, что привезли, и воздух в моей груди становится горячим, словно пар над кипящим котлом…
От похорон остались только картинки обрывочные. Тёмно-бурые, почти чёрные комья земли, пронзительный запах сырости… и дождевой червяк, розовой загогулиной устроившийся на одном из комьев. Тело, завёрнутое в белый холст – словно мешок муки, глубокая яма, похожая на шрам – и белое медленно опускается в чёрное… Мамины пальцы стискивают мне плечи, а седенький брат Галааналь что-то нараспев читает… но я не разбираю слов, они сливаются в серую пыль, и кажется мне, что я лежу и смотрю в хмурое, набрякшее скорым дождём небо, а пыль эта ложится на меня, и с каждым мигом становится её всё больше и больше, и давит она на сердце, страшно давит, не даёт сделать вдох.
И снова красное, потное лицо дядюшки, младшего отцова брата. Слова вылетают из чёрной щели его рта как раздражённые осы. Нахлебник, захребетник, дармоед, свиное дерьмо, спиногрыз, оглоед, неблагодарная тварь, вонючий крысёныш… и после каждого слова – хлёсткий удар плетью. Эту плеть – с длинной бурой рукоятью, с пятью тонкими хвостами с узелками на концах – я ненавижу ещё сильнее, чем дядюшку Химарая. Мне она почему-то кажется живой. И не просто живой, а обладающей разумом и волей. Но это чёрный разум и чёрная воля. А дядюшка что… дядюшка – раб плети.
Сколько раз я мечтал, что в трактир наш – а по сути, уже не наш – ворвутся разбойники из предгорий Хагарабы, схватят потного, извивающегося дядюшку – и медленно отрежут ему голову. Но потом они напьются и обязательно подожгут трактир… и сумею ли я вытащить из задних комнат матушку? Хоть и скосила её серая немощь, но всё равно она ещё очень тяжёлая… а я ещё очень слабый, у меня болит перебитое и плохо сросшееся ребро, у меня болят пальцы на правой руке – спасибо дядюшкиному сапогу. Нет, лучше уж без разбойников. Лучше пусть бык взбесится и на рога дядюшку подымет, или Изначальный Творец молнией влепит… но если молнией, то лучше бы подальше от трактира, неровен час полыхнёт тут всё.
А началось всё со скорбных улыбок, сочувственных речей… «помогу уж на первых порах… по-родственному… Таалгаль же брат мне родной, меня, мальца, кашей кормил и гузно подтирал».
В лунном свете матушкино лицо расплывается, глаза мои всё никак не могут поймать её взгляд. Верит ли она моим словам? С каждым днём становится всё хуже, память покидает её – и я этим пользуюсь, мне не приходится всё время придумывать что-то новое, каждый день я рассказываю про запруду и про бег наперегонки. Верит ли она? Наши пальцы встречаются, и я чувствую поселившийся в её теле жар. Никакие смоченные холодной водой повязки на лоб не дают облегчения. Лекаря бы… Но дядюшка Химарай на лекаря скупится, называет матушкину болезнь «лёгким недомоганием, вызванным горестными событиями прошлого» и надеется на «скорейшее выздоровление естественным путём, буде на то всеблагая воля Изначального Творца». Впрочем, последние пару недель он уже и этого не говорит – просто более не заходит проведать матушку. И мне запрещает это делать днём. Днём – то есть с рассвета до того часа, когда засыпают, уронив головы на стол, припозднившиеся посетители – я кручусь без всякого роздыха. Мыть и таскать, таскать и мыть… и найдётся ли в трактире хоть один посетитель, который догадался бы, что грязный оборванный мальчишка, ползающий с мокрой тряпкой по полу – не раб и даже не наёмный слуга, а законный наследник всего заведения?
Лунный свет медленно уползает вправо, матушкино лицо уходит в тень, и я внезапно понимаю, что вот так же в вечную тень вскоре уйдёт и она сама. И ничего невозможно сделать, ничего! Холод прокатывается по спине, дерёт острыми крысиными коготками, и хочется кричать, но воздух замирает в лёгких, потому что нельзя тревожить матушкин сон – во сне ей куда легче, во сне нет никакой серой немощи, и жив батюшка, и кружатся они с ним в танце по изумрудному лугу, а под ногами у них распускаются белые и фиолетовые первоцветы… а мне боль раздирает грудь, потому что я-то знаю: этого уже никогда не будет, никогда!
И всё-таки не удаётся мне сдержать крик, разрывает он мои рёбра и выплёскивается крутым кипятком во внешнее пространство – отражается от книжных шкафов, достигает забранного фигурной решёткой окна, впитывается в ковёр, где дракон всё никак не может справиться с тигром.
Я снова был в гостевом кресле, только за окном уже сгущались мутные, грязно-синие сумерки, и три свечи на столе господина Алаглани почти догорели. В зеркалах было темно, а на спине у меня выступил пот и, должно быть, намочил рубаху. Отчего-то чуял я холод, хотя в доме стояла теплынь – один дождливый день не в силах изгнать накопившуюся за месяц жару.
Господин Алаглани нагнулся надо мной, щупал пульс на левой руке. Кот его уселся прямо на стол, поверх горки каких-то свитков, и топорщил шерсть – такой весь из себя рыжий колобок. Но глядел сурово, и в зелёных его глазах отражались свечи с люстры.
– Задремал ты, Гилар, – скучным голосом объяснил мне господин Алаглани. – Прямо во время осмотра и задремал. И с чего бы? Времени на сон я слугам не жалею. Бегаешь, что ли, куда ночью?
– Не, господин, – покрутил я отяжелевшей головой. – Никуда я не бегаю. Сморило просто.
– Бывает, – коротко кивнул он. – Ну что ж, ступай. Со здоровьем всё у тебя в порядке, на тебе пахать можно. – И помолчав, добавил: – Но не нужно.
Встал я с кресла, поклонился, как положено, и побрёл себе в людскую. Там ребята уже спать укладывались – стало слишком темно, чтобы в камешки играть, белого камня от чёрного не отличить. А жечь свечи господин нам в людской запретил – Тангиль говорил, пожара боится.
Молча вошёл я, молча разделся и молча лёг на свой тюфяк у двери. Свернулся калачиком и задышал, будто сплю. Не хотелось мне в тот час ни с кем говорить, да и голова всё ещё кружилась, и не было в ней никаких мыслей. Только стукалось о стенки черепа эхо того моего крика.
Кто-то подсел ко мне, за плечо тронул. Хоть и темно уже было, а признал я Алая.
– Ну что? – одними губами прошептал он. – Познал, как это бывает?
– Угу! – ответил я мрачно и лицом в тюфяк зарылся. Ни к чему слёзы показывать, пускай и не видно их во тьме.
Лист 6
Теперь о том, как я себе лазейку в город устроил. Тут вот что сказать надо: не то чтобы нам, слугам, явно запрещалось в город ходить, но как-то само собой понималось, что нет никаких причин там появляться, кроме как по делу. То есть по поручению. Письма по адресам разнести, или господина сопроводить – вот как Халти его сопровождает по лекарским делам. Ну, или припасы покупать. А другой надобности нет. Просто сбечь? А когда, спрошу я вас? Работа каждый день, с утра до вечера ты на виду. Как отлучиться, чтобы неприятностей избежать? Тоже вот, кстати, заметьте, ещё одна странность. Во всех домах у слуг выходные дни имеются, обычно в недельный день, а тут – ничего такого и в заводе. Семь дней в неделе, и все дни – рабочие. Свободное время только после ужина, да и то, как уже говорил я вам, если жара и сушь, то поливать приходилось.
И вот ещё что: никто по этому поводу особо и не роптал. Как-то свыклись, что не про нашу честь город с его базарами, ярмарками, смеющимися девчонками. Вроде и было на что потратить скудное наше жалованье – то есть можно было попросить господина выдать грош-другой на руки, под запись, а ребятам как-то в голову, что ли, это не приходило. Копили денежку – на будущую взрослую жизнь. Если хотите, можете считать это очередной странностью, но мне кажется, всё проще – господин наш лекарь себе не абы каких слуг подобрал, а таких, кому служба эта – спасение, кого отсюда ярмарочным калачом не сманишь. Временами казалось мне, что некоторые – Хайтару, Дамиль, и, само собой, безумица Хасинайи – попросту боялись выходить за ворота. Потом уж я сведал, почему.
Да, простите, что раньше про то не сказал: в храм никто в положенный седьмой день на службу не ходил. Не то чтобы запрещал господин Алаглани, но просто и разговоров про то не было. При Новом-то Порядке перестало это быть обязательным. А Колесо Спасения в доме висело, да. И в кабинете господском, и над парадной дверью. И перед трапезой мы благодарение читали – то есть Тангиль, как старшой, читал, а мы молчали. Молились ли слуги? Некоторые, по-моему, да. Уж точно Алай, и Хайтару, и старшой тоже порой круг ладонью обводил и тихо-тихо молитву малого испрошения произносил. Но вообще-то особых разговоров о вере не было. Знаете, всё-таки не зря говорят: Новый Порядок людям многое про себя открыл. Кому вера – вера, те остались, а кому только привычка… так на всякую привычку найдётся отвычка.
Молод, говорите, такие суждения иметь? А всё остальное делать – не молод? Ну вот то-то же. И, между прочим, ничего в моих суждениях нет такого, о чём бы в Посланиях не говорилось. И вообще это не сам я придумал, а от брата Аланара слышал. А уж в дому господина Алаглани лишний раз убедился, что так оно и есть.
Но к делу. То есть к тому, как я лазейку наружу проторил. Один только видел я способ – через поваров. И скажу: нелегко это было. Пришлось за братцами Амихи с Гайяном долго наблюдать. То воды на кухню притащить, то передать чего-то, то вызовусь помочь им котлы да миски к столу принести.
Ребята они, как уже сказал я, не шибко приветливые, но мало-помалу ко мне привыкли. Увидели, что не ради лишнего куска я услужить готов, и перестали дичиться. Так и вышло, что разнюхал я их маленькую тайну.
Оказалось, зажиливают они всё-таки денежку. Господин им на покупки деньгу выдаёт и строгого отчёта требует. Знает, где они всё покупают, у какого лавочника и какие у того цены. Всё до гроша сходиться должно.
Но и они хитрюги! Покупают всего по чуть-чуть меньше, чем полагается. Это-то господин не проверяет, покупки не перевешивает. Тем более, на глаз ничего и не заметно. Ежели пуд гречневой крупы закупишь, то где там увидеть, что фунта недостаёт? А поскольку на кормёжку господин не скупится, то и в наших мисках недостачи не видать.
Я об этом как догадался? Подглядел, как они пряники медовые грызут. Откуда у нас пряники? Нас таким не кормят! Ясно, с базара. А на какие, спрашивается, шиши? Как завидел я, что пока один к господину идёт по деньгам отчитываться, второй быстро купленное в подпол тащит и тут же за готовку принимается, так и понял. Ежели бы и взбрела господину такая мысль – глянуть, а что же накупили – так оно уже в работе, не перевесишь.
Короче, и мы на кормёжку не жалуемся, и господин видит, что сдачу ровно дают, и эти при наваре. Навар-то невелик, я прикинул, вряд ли больше пяти медяков в день выходит, да и не каждый ведь день они на базар таскаются. Однако деньги – такая штука, которой всегда не хватает. Поэтому и придумал, как к ним подклеиться.
Сперва момент улучил, после обеда, когда все по работам разошлись. Меня полоть горох поставили, и в таком месте, что рядом никого. Если отлучиться ненадолго, то и не заметят. Вот и шмыгнул я – вроде как в отхожее место. Для верности даже туда зашёл, дела малые сотворил, и тихонько так на кухню. Мол, Тангиль послал узнать, не надо ль подсобить чем. Сперва я, конечно, подождал чуток, в щёлку подглядывая. И как эти за пряники взялись, я и вхожу. Говорю – послали узнать, не нужно ль чем помочь. И тут делаю вид, будто только-только вкусность приметил.
Нет, что вы! Конечно, не стал ни о чём спрашивать. Просто глазами так повёл и жалостливым тоном кусочек попросил. Мол, ну, не поскупитесь, ребята, я сладостей больше года не ел, аж, почитай, с того пожару..
Ну и сами подумайте! Встаньте на их место! Вот прогонят они меня – а я обижусь и растреплю всем, что они втихаря пряники жрут. А уж откуда пряники, господин бы враз догадался. Но Амихи с Гайяном – ребятишки неглупые. Потому угостили они меня, и получилось так, будто я этим пряником с ними повязан. Если всплывёт, то меня с ними же и накажут – и не донёс, и тоже лакомился купленным на неправедные доходы. Так вот они и решили, будто обхитрили меня. А я, конечно, обхитрился. И с того раза иногда заходил к ним на прянички. Получилась у меня с ними общая маленькая тайна.
А как появилась у меня с поварами общая тайна, так и стал я у них исподволь интересоваться, откуда такое счастье? Ну и разговорил их. Они как решили – если не сказать правду, вдруг я подумаю, что пряники на базаре покрадены? А если меня так и так о пряниках расколют, то за кражу наказание всем сильнее будет, чем за умную экономию.
Ну ладно, поехали дальше. Как ребята мне про свои проделки поведали, так стал я у них подробно про всё допытываться. Где именно что покупают, по какой цене, сколько сберегают, насколько хорош товар. А когда выслушал, то и сказал: можно ведь проще и лучше всё делать! Господин же проверять не будет, где именно вы покупаете. Он знает, что в такой-то лавке. Ну иногда вы там и покупайте, и лавочник, если что, подтвердит, что бываете вы у него. Но чаще ходите не к нему, а на базар в Нижний Город – там, если умеешь торговаться, то же самое можно куда дешевле взять. Не пять медяков в день заимеете, а все восемь, а то и девять. Слушайте, говорю, меня, я ж купецкий сын, у меня жилка торговая, я сызмальства таким штукам обучен.
В общем, поманил я их огромными деньжищами, на которые и пряников сколь хочешь можно купить, и сберечь себе на будущее. Вот дополнительные три медяка в день… ну, пускай не каждый день на базар ходить… ну, пускай триста дней в году. Это ж в год девятьсот медяков! То есть девять полновесных серебряных огримов! Через три года господин вас отпустит, на каждого получится примерно четырнадцать огримов! На такие деньги можно корову купить, или пять овец! Думаете, господин сильно больше вам на обзаведение даст? И кстати, ребята, это ж я вам только дополнительный доход посчитал, а то, что уже имеете, и не трогал. Пряники – это, конечно, дело, но всё прожирать не след. Денежка – она сбережение любит.
Одна только получалась закавыка – они ж, Амихи с Гайяном, базара в Нижнем Городе не знают, торговаться тоже не особо умеют, понять, у кого дешёвый товар стоит брать, а у кого себе дороже выйдет – тоже они без навыка. А глазки-то уже разгорелись, уже прикинули оба, как четырнадцать огримов тратить станут…
Тут-то я им и предложил. Мол, а давайте к прежнему лавочнику вы будете ходить, а на базар в Нижний – я. У меня-то всё получится, это ж моё родовое призвание. Но не просто за так, конечно. Малую долю хочу – один медяк. То есть так оно и выйдет – им двоим три медяка сверх обычного, а мне один. Многого не требую, потому как они главные, без них, закупщиков наших, мои мысли умные так мыслями бы и оставались.
А дальше следовало решить, как само дело обстряпать. Чтобы всем понятно было, что я в полном праве за покупками идти. Не лазить же тайно через забор… раз сойдёт, два сойдёт, а на третьем разе и засыплешься. Да и кто за меня мой урок исполнять стал бы? И решил я вот как сделать. Кому-то из них приболеть стоит, и тогда оставшемуся помощник потребуется, одному ж всё не дотащить с базара. Вот пусть и попросят, чтобы меня. Потому что я и сильный, на меня навьючить как на осла можно, и по кухне уже маленько помогал, примелькался, словом. И постоянной работы у меня пока нет, от которой человека отрывать не следует. Так что Тангиля попросить за меня – и порядок. Сперва один раз, потом другой, а дальше уж все и привыкнут, что я за продуктами хожу.
Осталось понять, как бы приболеть кого из них. Просто соврать не выйдет, господин ведь наш – лекарь высшей пробы, уж здорового от больного отличит. А вот если не врать… вернее, в самом деле болезнь сотворить… лёгкую, конечно, неопасную. Животную боль, к примеру. С поносом да рвотой. Неприятно, само собой, но уж потерпеть разок-другой ради общего блага можно. А устроить животную боль несложно. Взять в сарае, где травы сушатся, рвотной травы, заварить и выпить. Её, травы, там много, никто и не заметит. А чтоб совсем уж верно, чтобы господин запах её не учуял – как пронесёт по первому разу, так побольше того душистого отвара нахлебаться, который мы тут пьём каждый день. Он ведь пахучий, всё лишнее отобьёт.
В общем, уговорил я ребят. Не сразу – думали они пару дней, совещались. Но я же правильно в них разглядел жадность. Это как огонёк малый, тлеет-тлеет – а после ка-ак полыхнёт! Да, почтенные братья, понимаю, что дело сотворил нечестивое, дело под стать врагу рода человеческого. Но ведь сами знаете, для чего. Сами знаете: нужда превыше чести.
И вот на третий день оно и случилось. Гайян рвотного отвара напился, из отхожего места не вылезает, стонет, бледный весь. Тангиль пошёл господину Алаглани доложить. Тот не побрезговал, явился в людскую – а дело как раз после завтрака было, присел возле Гайяна, пощупал ему пульс, осмотрел язык, заглянул под веки, кольцо золотое на ниточку подвесил и покачал возле левого его локтя. Отравление, сказал. Бывает, сказал. Ничего страшного, сказал. Велел ему дать капель зверь-травы и каждые два часа поить отваром ежелистника.
Так и сделали, а Амихи к Тангилю – отравление отравлением, а на рынок за припасами идти надо. Помощник нужен. Тангиль меня и отпустил. А что ему не пускать? Поведения я вроде благонравного и смирного, в доме уже полтора месяца, и никаких фортелей от меня ждать не приходится.
Так мы с Амихи и оказались за воротами. А там посовещались и решили, что порознь пойдём. Он – в лавку обычную, чтоб лавочник потом не удивлялся, куда постоянные покупатели делись, а я – на базар в Нижний. Условились, кто что и сколько покупает, поделили деньги господские. Договорились, когда и где встречаемся, чтобы к воротам уже вместе подойти. Ну и разбежались в разные стороны.
Вы, конечно, уже поняли, куда я первым делом направился. Да, осмотрелся тщательно, и при входе, и при выходе. Взял что оставлено, записку краткую написал, поскольку там и бумагу предусмотрели, и грифель. А уже оттуда – на базар в Нижний Город. Времени не шибко много было, потому я долго там не торговался, купил не сильно дешевле, чем у лавочника вышло бы. Но это теперь уж ничего не значило.
Встретились мы где положено с Амихи, показал я ему припас купленный – хороший припас, не гниль какая. Нарочно ведь лучшее брал. И сдачу отдал, и два медяка. Сказал, что кабы всё там покупали, то было бы их, медяков, четыре. А пока два. Но я свою долю пока не требую – она пойдёт, только когда четыре медяка получится выгадывать. Пока мне бы только пряничка…
В общем, как по маслу всё пошло. Гайян как медяки увидел, сразу на поправку пошёл. А Амихи Тангилю про меня в лучшем виде всё расписал – как хорошо помог. И что вообще неплохо бы меня всегда с ним или с Гайяном за покупками отправлять, а второй бы в то время на кухне прибирался. Тогда бы и с обедами задержек не случалось…
Так вот и добился я, что в город можно законно попадать. Не шибко часто, но уж раз в неделю точно выходило. Появилась, значит, у нас связь. Ну, что в той записке я написал, все вы знаете. Что жив, здоров, работаю и всегда готов, и что мне для дела потребно, а как появится что твёрдо установленное – тотчас дам знать.





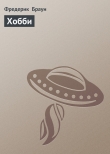

![Книга Тайна одноглазого кота. [Секрет одноглазого кота; Тайна горбатого кота] автора Уильям Арден](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-tayna-odnoglazogo-kota.-sekret-odnoglazogo-kota-tayna-gorbatogo-kota-3327.jpg)