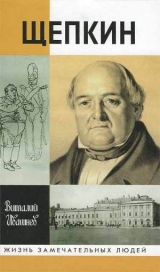
Текст книги "Щепкин"
Автор книги: Виталий Ивашнев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 20 страниц)
Пример этот действительно не прошел даром. «Обязанный всем» Щепкину, как писал театральный критик уже в пору расцвета таланта Прова Садовского, «он сделался лучшим представителем его школы». Став партнером Михаила Семеновича на сцене, обучаясь на живом примере его искусства, Пров Михайлович, стихийно тяготевший к естественной манере игры, становится теперь убежденным сторонником реалистического искусства, продолжив в этом направлении поиски своего учителя. Он заметно прибавил в своем мастерстве и был оценен критикой и зрителями. Современники восхищались необыкновенными дуэтами этих артистов в «Ревизоре» и «Женитьбе», в которых Щепкин играл, соответственно, Сквозник-Дмухановского и Кочкарева, а Садовский – Осипа и Подколесина. В эти мгновения сцена как бы исчезала, уступив место «существенной жизни». «Садовский весь отдан роли, – писал об исполнении роли Осипа А. А. Григорьев, – говорит ли, молчит ли, чистит ли сапоги, уносит ли с жадностью жалкие остатки супа, входит ли сказать барину, что городничий пришел. С первого монолога Осипа и до последней минуты, везде – сама истина… Чтобы так сказать о приходе городничего, так обрадоваться щам и каше и так подойти к Хлестакову, уговаривать его ехать – надобно совсем отрешиться от своей личности, влезть в натуру Осипа, даже, кажется, думать и чувствовать в эту минуту, как Осип или Осипы думают и чувствуют».
Иногда современники, сравнивая игру этих артистов и находя немало общего в ней, останавливались в нерешительности при определении, кому из них отдать предпочтение в той или другой сцене.
Не меньше обязан Щепкину и Сергей Васильевич Шуйский. При его содействии он дебютировал на сцене Малого театра и был опекаем им, «пока совсем не стал на ноги».
Воспитанница Театрального училища Любовь Косицкая была замечена Щепкиным в пьесе «Параша Сибирячка» Н. А. Полевого, где она играла главную роль. Ее одаренность, искренность, способность к раскрытию психологического рисунка роли пленили артиста, но он увидел и ее неопытность, отсутствие профессионализма. Ей надо было учиться и учиться. Зная о материальных трудностях девушки, бывшей крепостной, он предпринял усилия и собрал около тысячи рублей для того, чтобы нанять ей учителей. А чтобы повысить ее общеобразовательный уровень, ввел юную актрису в семейство известного профессора Московского университета Дмитрия Матвеевича Перевощикова. Да и сам не оставлял Любашу без своего внимания и заботы.
Большое участие Щепкин принял в творческой судьбе Ивана Васильевича Самарина. Сын крепостного, он, так же как и его учитель, вынужден был пробивать своим трудом путь к искусству. Обнаружив у юноши незаурядные способности, Михаил Семенович оказывал ученику училища всяческое содействие – приглашал в свой дом, подкармливал, давал дополнительные уроки. По его рекомендации юноша получил в Малом театре свою первую роль. Но он чуть было не потерял ее, так как у него не было средств, чтобы справить себе сценический костюм. Михаил Семенович помог молодому человеку, и в свои шестнадцать лет он дебютировал на сцене столичного театра. А в скором времени Самарин вырастет в большого артиста, затем и драматурга, станет преподавать в Театральном училище.
Самое горячее участие принял Щепкин в судьбе Михаила Лентовского. Тот с детства страстно мечтал о театре, живя в глубокой провинции. Прослышав о великом артисте, написал ему письмо в Москву, почти, как впоследствии Ванька у Чехова – без адреса, имени и отчества, просто – Щепкину. Письмо это своей искренностью и любовью к театру настолько подкупило и поразило семидесятичетырехлетнего артиста, что он не только немедленно ответил молодому человеку, но и уведомил его, что направляет ему на дорогу «80 р. серебром».
Ну а о том, как встретил Щепкин юношу, Лентовский вспоминал так: «… Господи, что это было за радушие! Что за встреча!.. Когда ему доложили, что меня привезли, тотчас же издали раздался крик: «Где он? Где он? Давай его сюда!» Выбежал он в своем коричневом с цветочками по полосам халате, бросился меня целовать, обнимать и немедленно потащил на свет к окну, стал меня разглядывать и вертеть. «Ничего, хорош! Годится!..» Тут же усадил за стол, а к вечеру был уже обут, одет во все новое и отвезен в Малый театр для показа «всем участвующим артистам и начальству». Паренек из Аткарска Саратовской губернии с легкой руки Щепкина вскоре станет одним из ведущих мастеров Малого театра, режиссером, антрепренером театров в Москве и Петербурге.
До наших дней дошло ничтожно мало документов и свидетельств, запечатлевших Щепкина как артиста и человека. Обидно и несправедливо! Но незримая в театральной жизни связь времен оказывается удивительно прочной и непреходящей. Получив непосредственно из рук великого артиста, из живого, каждодневного с ним общения уроки сценического мастерства, его отношения к искусству, уроки этики, усвоив заветы своего учителя, впитав их в себя, молодые актеры воплощали их в своем творчестве, в своей жизни, передавая всем последующим поколениям. Эта цепочка – от учителя к ученикам, от дней минувших к дням настоящим и будущим – неразрывна, в замечательных мастерах нынешнего дня щеп-кинские заветы живут и оказывают свое благотворное воздействие. Ничто не уходит в небытие, не теряется бесследно, если существует преемственность, если есть ученики и последователи, если заповеди учителей живут в делах их потомков.
Наставления Михаила Семеновича Щепкина господам актерам – это заповеди человека, познавшего многие тайны профессии, проникшего в самые ее глубины. Эти заповеди являются и его исповедью – перед днями настоящими для времен грядущих, для искусства и для жизни. Поэтому щепкинские заповеди едино суть, в них профессиональное неотделимо от нравственного начала. Мы постарались более или менее полно раскрыть их. Дополним их еще одним перечнем простых щепкинских истин:
Следи неусыпно за собой; пусть публика тобой довольна, но сам к себе будь строже ее… Возьми себя хорошенько в руки. Учись распоряжаться своими душевными и внешними средствами. Пополняй, облагораживай требования автора, а не унижай.
Не отвергай замечаний, а вникай в них глубже; и для проверки себя и советов всегда имей в виду натуру; влазь, так сказать, в кожу действующего лица, изучай хорошенько его особенные идеи, если они есть, и даже не упускай из виду общество его прошедшей жизни… Всматривайся во все слои общества без всякого предубеждения к тому или другому и увидишь, что везде есть и хорошее и дурное, и это даст возможность при игре каждому обществу отдать свое.
Не пренебрегай отделкой сценических положений и разных мелочей, подмеченных в жизни, но помни, чтоб это было вспомогательным средством, а не главным предметом: первое хорошо, когда уже изучено и понято совершенно второе.
Помни: лучше не доиграть, чем переиграть.
Более всего добросовестнее изучайте свое искусство. Право, оно стоит того… Строгое изучение сделает нас, грешных людей, нравственнее; это я узнал все из опыта жизни; только изучайте его глубоко, и вы найдете в душе… блаженство.
Гимназия и университет не отнимают дороги к драматическому искусству, а, напротив, только очищают.
Помни, любезный друг, что сцена не любит мертвечины – ей подавай живого человека, и живого не одним только телом, а чтоб он жил и головой и сердцем.
Делая шаг на сцену, оставь за порогом все твои личные заботы и попечения; забудь, что ты был, и помни только, что ты теперь.
Никогда не учи роли, не прочитав прежде внимательно всей пьесы. В действительной жизни если хотят хорошо узнать какого-нибудь человека, то расспрашивают на месте его жительства об его образе жизни и привычках, об его друзьях и знакомых, – точно так должно поступать и в нашем деле. Ты получил роль и, чтоб узнать, что это за птица, должен спросить у пьесы, и она непременно даст тебе удовлетворительный ответ.
Читая роль, всеми силами старайся заставить себя так думать и чувствовать, как думает и чувствует тот, кого ты должен представлять, старайся, так сказать, разжевать и проглотить всю роль, чтоб она вошла тебе в плоть и кровь. Достигнешь этого – и у тебя сами родятся и истинные звуки голоса и верные жесты, а без этого как ты ни фокусничай, каких пружин ни подводи, а все будет дело дрянь. Публики не надуешь: она сейчас увидит, что ты ее морочишь и совсем того не чувствуешь, что говоришь.
Ради бога, только… не думай смешить публику: ведь и смешное и серьезное вытекает все-таки из верного взгляда на предмет…
Любите… искусство, мало этого, уважайте его и занимайтесь им добросовестно. Помните, что в искусстве авось не существует, наука и наука…
И еще одна заповедь как бы итоговая:
Театр для актера храм. Это святилище! Твоя жизнь, твоя честь принадлежит бесповоротно сцене, которой ты отдал себя. Твоя судьба зависит от этих подмостков. Отнесись с уважением к этому храму и заставь уважать его других. Священнодействуй или убирайся вон.
Многие эти заповеди перекликаются с принципами системы Станиславского, с его известным призывом к актерам – любить искусство в себе, а не себя в искусстве.
ВЕЛИКОЕ СОЗВЕЗДИЕ
Все, что было лучшего в мыслящей России, не миновало общества и знакомства М. С. Щепкина.
А. Урусов
Редкое окружение
Девятнадцатый век в России оказался удивительно густо замешан талантами. Пушкин, Грибоедов, Лермонтов, Гоголь, Некрасов, Шевченко, Тургенев, Достоевский, Толстой, Белинский, Глинка, Мусоргский, Чайковский, Римский-Корсаков, Даргомыжский, Бородин, Балакирев, Брюллов, Кипренский, Репин, Суриков, Мочалов, Щепкин… Сколько еще достойнейших имен можно включить в этот список. Несть им числа! «Даровита земля русская; почва ее не оскудевает талантами… – писал Белинский. – Лишь только ожесточенное тяжелыми утратами или оскорбленное несбывшимися надеждами сердце наше готово увлечься порывом отчаяния, – как вдруг новое явление привлекает ваше внимание, возбуждает в вас робкую и трепетную надежду…»
Поселившись в Москве, Михаил Семенович Щепкин попал в желанную среду литераторов, художников, музыкантов, критиков, ученых и не затерялся среди именитых своих соотечественников, а очень скоро стал в ней своим человеком и душой общества. В Москве, как писал С. Т. Аксаков, Щепкин нашел «дружеский литературный круг, в который приняли его с радостью и где вполне оценили его талант, природный ум, любовь к искусству и жажду образования».
Эта «жажда образования», которая не оставляла его до конца дней своих, сблизила его с университетской средой – В. В. Григорьевым, К. Д. Кавелиным, Н. В. Станкевичем, Д. М. Перевощиковым, Н. И. Крыловым, Н. И. Надеждиным, С. П. Шевыревым и, конечно, с Т. Н. Грановским. Помог случай. Один из московских родственников Михаила Семеновича – троюродный брат Павел Степанович Щепкин ко времени переезда артиста в Москву был уже уважаемым профессором университета. Встретив в его доме радушный прием, он органично вошел в круг самых образованных людей. Человек искусства, он не замыкался его рамками, всегда проявляя широкий спектр своих интересов. Поэтому с ним «находили удовольствие беседовать» великие писатели от Пушкина до Толстого, ученые-просветители, сановные чиновники и политические изгнанники, студенты, артисты столичных и провинциальных театров, знатные вельможи и бедные люди. Ему все были интересны и необходимы, если он чувствовал искренность в их поведении и отношениях.
Щепкин был близко дружен с одним из ведущих профессоров университета Николаем Ивановичем Надеждиным. Ученый читал лекции по теории и истории изящных искусств, а Щепкин вел курс по драматическому искусству, и оба с удовольствием бывали друг у друга на занятиях. Надеждин увлекался драматическим искусством и даже пробовал свои силы на сцене, сыграв со Щепкиным эпизодическую роль в одной из пьес. Щепкин часто советовался с Николаем Ивановичем, специалистом по зарубежной литературе, по поводу пьес Шекспира, Мольера. При всей своей расположенности друг к другу друзья были строги в оценках работы каждого и никакой снисходительности не допускали. Еще более тесные дружеские узы связывали Щепкина с Грановским, не случайно Михаил Семенович завещал похоронить себя рядом с ним.
Щепкин стоял вровень с образованным обществом своего времени и сам был горячим поборником просвещения, вкладывая в это дело свои знания, способности и умения. Он и других неназойливо подталкивал на эту подвижническую просветительскую стезю. Благодаря его усилиям Малый театр становится вторым университетом. Много лет спустя, на двухсотлетии артиста будет сказано, что среди молодежи конца девятнадцатого и начала двадцатого века в ходу была примечательная фраза: «Посещал университет, обучался в Малом театре», хотя и «не сидел на скамьях студентов». Щепкин исполнил завет Гоголя, мечтавшего поднять театр на уровень университетской «кафедры, с которой можно много сказать миру добра». А сам, благодаря «неотразимой привлекательности… таланта и глубокому знанию людей, как и неиссякаемой тяге к узнаванию нового и прирожденному такту, расположенности к собеседникам», занял «в обществе такое положение, которое актер никогда не занимал в России».
Молодость его души, почти детская любознательность, тяга к новому и необыкновенная уважительность к людям всех рангов и слоев общества поражали современников. В любой круг он вносил, как о нем писали, «просвещение и очищение», необыкновенную ауру сердечности и взаимопонимания. В 1863 году Герцен напишет в посмертном слове об артисте: «Его появление вносило покой, его добродушный упрек останавливал злые споры, его кроткая улыбка любящего старика заставляла улыбаться, его безграничная способность извинять другого, находить облегчающие причины – была школой гуманности».
Никто не удивился его появлению в Английском клубе, оно было таким же естественным, как и закономерным. «Клуб этот, – писал бывший московский губернатор, автор ряда работ по истории Москвы Владимир Михайлович Голицын, – не был, подобно другим, местом, где можно было только поиграть в карты и приятно пообедать или поужинать, а это был своего рода социальный орган, игравший роль пульса, которого биение указывало то или иное общественное настроение». Конечно, Михаил Семенович не отказывал себе в удовольствии и отобедать и посидеть за карточным столом, хотя «выигрывать случалось ему реже, нежели проигрывать». Но не за этим он шел в клуб, он жаждал пообщаться с интересными людьми, потолковать и обсудить то, что особенно волновало общество. Больше всего его занимали судьбы реформы, связанной с раскрепощением крестьян, и когда этот исторический акт свершился, он радовался бесконечно и устроил даже обед в эту честь, собрав на него «пропасть» народу. «Главное слово сказано…» – приговаривал он, хотя и не знал еще, что шаг этот окажется половинчатым, не радикальным. Не за себя радовался, за народ, получивший право быть свободным.
Человеческое обаяние, бескорыстие в дружбе притягивали к нему всех, с кем сводила судьба. Всегда болезненно воспринимая расхождения во взглядах и просто размолвки меж друзьями, спешил примирить их, если дело не касалось принципиальных вопросов. И вечно в хлопотах по поводу чего-то или кого-то.
«Чудный человек! – делился Белинский с Аксаковым, находясь под впечатлением встречи со Щепкиным. – С четверть часа поговорил я с ним о том и о сем и еще более полюбил его. Как понимает он искусство, как горяча душа его – истинный художник, и художник нашего времени…»
Оказавшись в редкостном по художественному и интеллектуальному уровню окружении передовых людей эпохи, он умел находить общий язык и с западниками и славянофилами, но никогда не лавировал между ними. Как Пушкин и Гоголь, он стоял на высоте отношений, исключающих групповые пристрастия, интересы. Здесь уже были иные измерения, иные критерии. Любовь к народу своему, жизненная правда, высшие образцы искусства, художественные открытия, безграничная доброта и открытость всем – вот те принципы, те измерения, которыми руководствовался Щепкин в жизни, в искусстве, в отношениях между людьми, вот что и притягивало к нему, вот что объединяло за его столом Аксакова и Белинского, Погодина и Грановского, Шевырева и Кетчера, Хомякова и Корша, братьев Киреевских и Герцена.
Обладая острым взглядом, пытливым умом и феноменальной памятью, артист был хранителем множества жизненных фактов, бытовых зарисовок, человеческих историй, но не склонный к писательству, с радостью делился этими сокровищами с друзьями-литераторами и всякий раз был счастлив, если что-то из рассказанного им обретало художественную жизнь в чьих-то романах, повестях, рассказах. Устные рассказы Щепкина, в которых, по меткому замечанию Герцена, «запеклась кровь событий», были столь выразительны и доподлинно правдивы, что редкий сочинитель не воспользовался ими. Мы уже упоминали в этой связи имена Герцена, Лескова, Соллогуба. Назовем еще несколько примеров. У того же Соллогуба есть еще повесть «Воспитанница», также написанная по «устному рассказу Щепкина», о драматической судьбе бедной девушки, получившей хорошее образование в доме богатой графини. Пройдя через тяжелые испытания, бедность, унижения провинциальной актрисы, не видя никакого выхода в этой жизни, она решается наложить на себя руки. Эта история, как и многие другие, не выдумана, а взята Щепкиным из реальной жизни.
Когда Александр Васильевич Сухово-Кобылин писал пьесу «Дело», он включил в монолог героя – Ивана Сидорова историю, однажды услышанную от Михаила Семеновича. В напечатанном экземпляре пьесы автор отчеркнул этот монолог, пометив на полях: «Рассказ, переданный мне М. С. Щепкиным».
Опубликованный в 1849 году в «Современнике» рассказ Николая Алексеевича Некрасова «Психологическая задача. Давняя быль» также заканчивается признанием писателя: «Происшествие, рассказанное здесь, не выдумано. Вы услышите его в Малороссии от любого старожила. Оно рассказано автору известным актером московской сцены М. С. Щепкиным».
В двух своих произведениях «Неистовство» и «Петрусь» Михаил Петрович Погодин, особенно часто общавшийся со Щепкиным, пересказал забавные истории, услышанные от артиста.
А сколько замечательных историй, метких выражений, реплик и афоризмов Щепкина перекочевало в сочинения Гоголя! Помните про «одичалую кошку» в «Старосветских помещиках», которую Пульхерия Ивановна восприняла как предзнаменование приближения смерти? Это – щепкинское. По воспоминанию А. Н. Афанасьева, артист, прочитав повесть, «при встрече с автором, сказал шутя: «А кошка-то моя!» – «Зато коты мои!» – отвечал Гоголь, и в самом деле коты принадлежали его вымыслу». Крылатый афоризм из «Мертвых душ» – «полюбите нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит!..» – это тоже щепкинское. Генерал Бетрищев, Петр Петрович Петух, протоколист Котельников, о котором Герцен писал, что его имя «не должно изгладиться из истории бюрократии», тоже пришли в «Мертвые души» из устных щепкинских рассказов.
Не без участия Михаила Семеновича появились на свет и некоторые действующие лица гоголевской «Женитьбы». Еще в начале своей работы над пьесой Николай Васильевич зачитывал ему сцены из комедии, и более сведущий в театральных делах «Михаил Семенович советовал автору кое-что изменить и передал ему еще многое о купеческих обычаях при свадьбах».
И, наконец, читая в первый раз «Ревизора», а затем разучивая в нем роль Сквозник-Дмухановского, Щепкин не без удовольствия пересказывал, как когда-то самому автору комедии, историю об учителе истории, который из любви к науке не только стулья, жизнь свою готов был не пощадить.
Гоголь и Щепкин – это особая страница в истории русской культуры и об их взаимоотношениях и разговор должен быть особый, хотя мы в той или иной степени по ходу щепкинской биографии уже касались этих страниц.
Николай Васильевич Гоголь
Встреча этих титанов отечественной культуры была неизбежна, она продиктована самим временем. Первые драматические замыслы Гоголя совпали с общим подъемом театрального искусства в России, чему немало способствовал яркий талант Щепкина. А знакомство их состоялось теплым летним днем 1832 года в первый приезд Гоголя в Москву, когда слава Щепкина гремела на московских подмостках уже почти десять лет.
Молодой писатель появился в доме актера в самый разгар застолья. Это событие сын Михаила Семеновича Петр Михайлович зафиксировал следующей записью: «… Как-то на обед к отцу собралось человек двадцать пять – у нас всегда много собиралось; стол, по обыкновению, накрыт был в зале; дверь в переднюю, для удобства прислуги, отворена настежь. В середине обеда вошел в переднюю новый гость, совершенно нам незнакомый. Пока он медленно раздевался, все мы, в том числе и отец, оставались в недоумении. Гость остановился на пороге в залу и, окинув всех быстрым взглядом, проговорил слова всем известной малороссийской песни:
Ходит гарбуз по городу,
Пытается своего роду:
Ой, чи живы, чи здоровы,
Все родичи гарбузовы?
Для Щепкина, с детства слышавшего певучую украинскую речь, подолгу жившего в Харькове и Полтаве, шутливый куплет незнакомца прозвучал словно пароль. «Да это ж Гоголь… Николай Васильевич!» – воскликнул хозяин дома, заключив гостя в объятия…»
Михаил Семенович в это время жил в собственном доме, хотя и купленном под большие долги, по Большому Спасскому переулку. Пользуясь случаем, назовем еще два адреса проживания Щепкина в этом районе до переезда в собственный дом. Это важно сделать по той причине, что один из каменных домов под номером 10 по Первому Голутвинскому переулку сохранился и по сей день. Его после переселения Щепкиных приобрел у купца Алексея Гирякова более преуспевающий купец Михаил Рябушинский, основатель известной в России династии промышленников. Тем более стоит запомнить этот адрес, что других московских домов, обжитых Щепкиным, больше не сохранилось. Его последнее пристанище на исходе 80-х годов двадцатого столетия было поглощено Олимпийским комплексом, осталась лишь улица, названная его именем.
Но это небольшое отступление от темы исторической встречи Гоголя и Щепкина, которой суждено стать началом большой и плодотворной дружбы великих современников, длившейся около двадцати лет, до ранней смерти писателя. Когда перестанет биться сердце Николая Васильевича и настанет пора прощаться с ним, Михаил Семенович последним склонится над другом в скорбном молчании и закроет крышку гроба.
А в ту первую радостную их встречу после общего застолья писатель и актер уединились в дальнем углу сада и как старые добрые друзья после долгой разлуки не могли вдоволь наговориться. Уже сгустились сумерки, из глубины сада потянуло прохладой, а они все не могли расстаться, словно боясь потерять друг друга.
С тех пор Николай Васильевич стал постоянным гостем в доме Щепкиных, часто останавливался здесь на ночлег, и не было конца их долгим и задушевным беседам. Любили вспоминать прошлое, родные с детства места, обычаи, праздники, малороссийские песни, добрую кухню. «Прислушиваясь к их разговору, – писала Александра Владимировна Щепкина, – вы могли слышать под конец: вареники, голубцы, паляницы, – и лица их сияли улыбкою». И Гоголь, и Щепкин любили хорошо поесть и, как свидетельствовал А. Н. Афанасьев, нередко проводили время в рассказах «о разного рода малороссийских кушаньях, причем у обоих глаза бывали масляные и на губах слюньки». Лишь незадолго до кончины Николай Васильевич принял аскетический образ жизни, не позволяя себе никаких плотских желаний. Даже отказывался от лестных приглашений Щепкина заглянуть к нему на Масленицу и отведать дюжину блинов. Когда же Михаил Семенович лично заехал к нему, Гоголь просто «не сказался дома». Что же до Щепкина, то, по предположению их общих друзей, Петух, «представленный во 2 т. «Мертвых душ», списан с самого Михаила Семеновича, который любит поесть и поговорить о еде и который так же толст и на воде не тонет, как пузырь». Рассказывали, что одним из любимых аттракционов Щепкина на воде во время купания был трюк под названием «остров» – он весь погружался в воду и только живот возвышался на поверхности для всеобщего обозрения к удовольствию присутствующих.
Внешне молодой писатель «не показался» тогда щепкинским гостям, ставшим свидетелями первой встречи артиста и будущего автора «Ревизора». «Наружный вид Гоголя, – вспоминал Аксаков, присутствовавший на том памятном обеде, – был… невыгодный для него: хохол на голове, гладко постриженные височки, выбритые усы и подбородок… нам показалось, что в нем было что-то хохлацкое и плутовское».
Но как только он начинал говорить, лицо оживлялось, умные, проницательные глаза приковывали к себе внимание и весь вид его становился таким притягательным, что хотелось общаться с ним как можно дольше… Ну а когда Щепкин и Гоголь затягивали украинские песни, лица у всех теплели, преображались, споры умолкали, наступало умиротворение. Оба были влюблены в украинскую песню и не могли скрыть этого от слушателей, заражая их своей любовью.
Понимание и близость писателя и артиста установились сразу и навсегда. Щепкин находился в тот период в зените своей славы и мог оказать начинающему драматургу неоценимую помощь опытного театрального мастера. Совпадение их взглядов на роль отечественной драматургии в развитии театрального дела в России подтолкнуло писателя к написанию пьес, ставших подлинным явлением в культуре. В свою очередь, появление пьес Гоголя буквально вдохнуло в творческую жизнь актера новую живительную струю, преобразило его, поставило его актерское искусство на еще одну высоту. Придется повториться, чтобы напомнить читателю, что в это же время Щепкин задыхался от пустых и безликих пьес, не приносящих радости ни уму, ни сердцу. «Я приходил уже в какое-то не спящее, но дремлющее состояние», – писал он Сосницкому.
«Ревизор», «Женитьба», «Игроки» все изменили разом. Но до выхода этих шедевров на русскую сцену Щепкину пришлось приложить недюжинную силу и настойчивость, чтобы отстоять их право на свое существование и постановку. Неизвестно, захотел бы Гоголь продолжить свои драматургические опыты, если бы не Щепкин, который, по выражению писателя, не дал «упасть» в Москве «Ревизору». Эти хлопоты еще теснее сдружили их. О непростом пути «Ревизора» на русскую сцену мы уже рассказывали. Что же до «Женитьбы» и «Игроков», то их успех и сам вопрос постановки в Императорском Большом театре (а тогда спектакли шли равно как в Малом, так и Большом театрах) в значительной степени обязаны Щепкину, его авторитету. Он заявил их в свой бенефис, выбрав для себя роли соответственно Подколесина и Утешительного. Однако роль Подколесина плохо соотносилась с его актерскими данными и характером, ведь приходилось играть роль «вялого и нерешительного творения». Тогда Михаил Семенович вернулся к роли Кочкарева, которую он исполнил ранее на Александрийской сцене. «Только его игра в этой роли показала петербургской публике, что за пьеса «Женитьба»!.. В заслугу, и немаловажную, ставим мы Щепкину то, что он умел примирить александрийскую публику с пьесами Гоголя», – писал Белинский. «Доныне не могу себе представить Кочкарева в другом образе… Это была, казалось, сама ртуть на сцене», – отзывался уже другой критик о работе артиста на московской сцене.
А «Игрокам» артист не только дал сценическую жизнь, но и задал такой уровень драматургического действа, который стал эталонным. Эта пьеса впоследствии не так часто ставилась в театрах, ибо заданный уровень был исключительно высок, а постановка пьесы оказалась сложной да и главная роль исключительно трудной. С исполнения роли Утешительного любители театра по-настоящему оценили искусство актера «держать паузу», наполняя ее психологически, эмоционально, когда едва заметный жест, мимика, только взгляд говорят больше, чем слово.
В сцене обмана одного мошенника другим, при передаче денег Ихарева Утешительному, «Михаил Семенович молча обрезал гильотинкою сигару, брал со стола свечу и, подойдя к рампе, обратив лицо к зрителям, принимался закуривать. Театр дрожал от единодушного хохота. Да и нельзя было удержаться, не захохотать, взирая на это лицо сквозного мошенника с невиннейшею миною младенца, агнца», – описывал эту незабываемую картину один из зрителей. В авторских ремарках ничего этого не было. Эта «немая сцена» была сыграна как бы на два плана: на партнера, чтобы убедить его в своих искренних намерениях и не спугнуть сделку, и на зрителя, чтобы показать ему свое плутовское лицо и дать возможность насладиться блистательной актерской игрой.
Щепкин обращался и к прозаическим произведениям Гоголя, охотно читал их в кругу друзей, в клубах, в поездках по провинциям. Особенно любимы были им «Старосветские помещики», «Тарас Бульба», «Шинель». Слушатели были заворожены и его чтением, и его игрой, способностью ярко изобразить «характеры всех этих лиц», «проникнуться физиономиею каждого лица, идеею, вложенною в него автором, и вместе изучить все мелочные внешние оттенки».
О чтении «Тараса Бульбы» ходили легенды. «… Надобно слышать его, когда он примется за Тараса Бульбу, – читаем в «Москвитянине» за 1841 год, – надобно вглядеться в выражение его лица; надобно ловить звуки его голоса. Как он забавен в первой главе повести, и между тем как непреклонный характер его уже предвещает грядущие бедствия! Описание степей Запорожья так живо, как будто слышишь шелест травы и видишь приседающих лыцарей. Но как ужасен он в сцене сыноубийства, как тяжело слышать из уст его это громовое: «Что, сынку?!» Как больно смотреть на этого старца, плачущего по своем милом Остапе! Когда он рассказывал нам словами Гоголя все ужасы казни Остапа в присутствии миллиона народа и на вопль сына: «Слышишь ли, батько?» – ответил за Бульбу: «Слышу, сынку», я вздрогнул вместе с миллионом народа… Чем можно отблагодарить тебя, несравненный артист, за те прекрасные, истинно поэтические минуты, которые ты доставил!..» И какой автор не останется благодарен артисту за такое прочтение его произведений!
Гоголь был духовно близок и дорог Щепкину, он его понимал, как никто другой. Свою роль сыграла и схожесть их судеб и биографий. Как и у Щепкина, дальние предки Гоголя служили в церковных храмах: прадед – сельским иереем, дед пошел дальше – окончил Киевскую духовную академию, потом, правда, предпочел мирскую жизнь и стал государственным служащим. Так же как и Щепкин, Николай Васильевич появился на свет, когда родители оплакали одного за другим двух своих детей и дрожали за жизнь третьего, нареченного Никошей в честь спасителя Николая Чудотворца, к иконе которого не раз припадали в Диканьской церкви.








