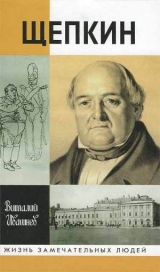
Текст книги "Щепкин"
Автор книги: Виталий Ивашнев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 20 страниц)
Роль Муромского была близка и интересна Щепкину возможностью показать живого человека со всеми его слабостями и достоинствами: простодушием и вместе с тем житейской осмотрительностью, наивностью и холодной расчетливостью, трезвостью взгляда, даже при неожиданных перипетиях событий и поворотах судьбы. Щепкинский герой за напускной строгостью, внешней демонстрацией твердости духа, характера упрямца скрывал человека мягкого, подвластного чужой воле, его легко обмануть, воспользоваться доверчивостью. Но пережитое испытание пробуждает в нем иные качества, его решительность. В финале спектакля, когда после разоблачения Кречинского царит общая растерянность, именно Муромский на роковой вопрос «Что же нам делать?» – твердо и уверенно отвечает: «Бежать, матушка, бежать! От срама бегут!» И эта заключительная фраза звучала так убедительно и сочно потому, что была органична в его устах, оправданна всем предыдущим существованием на сцене, всем его поведением. Артист показал невероятное богатство оттенков и полутонов в характере своего персонажа, сделав его настолько живым, близким, что он трогал всех своей достоверностью и вызывал искреннее сочувствие зрителей.
Ну а действительно «лебединой песней» Щепкина, исполненной на высокой ноте творческого вдохновения и концентрации всех его жизненных сил, стала роль старого Кузовкина в пьесе Ивана Сергеевича Тургенева «Нахлебник». Ее по предложению писателя и собственному намерению Михаил Семенович должен был сыграть еще в 1848 году. Однако путь пьесы на сцену оказался слишком долгим и трудным.
Посылая в октябре 1848 года из Франции первый акт «Нахлебника», Тургенев писал Щепкину: «Завтра отправляется в Россию наш соотечественник г-н Селиванов, любезный и почтенный Михайло Семенович; он вам доставит первый акт моей комедии «Нахлебник»; второй я не успел окончить переписыванием, но как только кончу, немедленно отправлю по почте, так что, может быть, вы получите его в одно время с первым. Прошу у вас извинения за долгое отлагательство; желаю, чтобы мой труд вам понравился. Если вы найдете достойным вашего таланта приняться за него – я другой награды не требую… Лишь бы мой «Нахлебник» вам понравился и вызвал бы вашу творческую деятельность!
Боюсь я – не опоздал ли я немного…»
Увы, последнее опасение оказалось более чем преждевременным. От первого сообщения Тургенева: «Работаю над комедией, предназначенной для одного московского актера», и до спектакля пройдет почти четырнадцать лет! Долгих лет цензурного запрета, борьбы за право поставить спектакль и опубликовать пьесу. Впрочем, в 1857 году «Современнику» удалось-таки издать пьесу в своем третьем номере под названием «Чужой хлеб». Свои надежды на сценическое воплощение писатель возлагал лишь на Щепкина: «Отдаю вам свое произведение в полное распоряжение: делайте из него что хотите…» (как тут не вспомнить Гоголя – «Посылаю вам «Ревизора»… Делайте что хотите с моею пиэсою..») На рукописи Иван Сергеевич написал: «Эта роль назначена Михайле Семеновичу, следовательно, мне прибавить нечего: он из нее сделает что захочет». И еще раз засвидетельствовал эту предназначенность в письме к А. А. Краевскому: «…Если вы напечатаете «Нахлебника», то велите поставить: «Посвящена Михайле Семеновичу Щепкину».
В том же 1857 году, вслед за «Современником» артист пытается заявить пьесу в свой бенефис, но, как и прежде, терпит фиаско. Цензурный комитет нашел комедию «совершенно безнравственною и наполненною выходками против русских дворян, представляемых в презрительном виде, и потому положил: запретить оную…». В следующем 1858 году Щепкин вновь обращается за разрешением комедии для своего бенефиса. И в который уже раз получает лаконичный ответ: «отказать». Но актер не сдается и не бездействует. Он уже не раз читал пьесу в обществе друзей и даже взялся за устройство спектакля собственными силами с помощью любителей театра, главным образом членов семейств Щепкиных, Аксаковых и Станкевичей. «У Станкевичей готовится домашний спектакль, – писал в 1849 году А. Н. Афанасьев, – хотят сыграть непропущенную в печать комедию Тургенева «Нахлебник». Старик Щепкин взялся сыграть самого Нахлебника (Кузовкина), другие роли разошлись между многочисленными его родственниками. Раза два уже были репетиции, идет недурно. Щепкин всех учит, всем советует, и суетится, и сердится. А как хорош сам он в своей роли…»
К сожалению, довести домашний спектакль до публичного исполнения так и не удалось…
Ни за одну роль так не хлопотал еще Шепкин и не отстаивал столь упорно, как за Нахлебника. Дошел, казалось, до самых верхов, до приближенных царского двора. Лично прочитал комедию князю, генерал-фельдмаршалу, министру императорского двора Петру Михайловичу Волконскому и заручился его поддержкой. А когда и этого было недостаточно, готов был добиваться аудиенции у членов царской семьи. В одном из писем П. В. Анненкову, обращаясь за содействием в «прохождении» пьесы, Щепкин сообщает, что «если… Вы не известите меня о счастливом результате, то я приеду сам в Питер и буду искать случая прочесть ее великому князю Константину Николаевичу, а если можно найти случай, то и дальше; что будет, то и будет… – И далее – пропуск «Нахлебника» я сочту наградою мне, старику, за пятидесятилетнюю добросовестную службу моему искусству… Пусть они порадуют меня, старика, и дадут мне сыграть хорошую роль, и может быть, уже и последнюю…»
Стариковские предчувствия нередко сбываются. Щепкину удалось сыграть на сцене Нахлебника, который действительно оказался его последней ролью…
Спектакль удалось пробить на последнем году жизни великого артиста. Время тогда для него было трудное, он мучился нездоровьем, силы слабели с каждым днем. Но «лишь только он вошел на сцену, – как писал рецензент после памятного спектакля, – то почувствовал в себе новую силу; огонь, согревавший его душу, поборол и старость и недуги, и когда робкий голос угнетенного, униженного нахлебника раздался перед зрителями, сердца их дрогнули. Артист одушевлялся и вырастал с каждою минутою, овладевал все более и более публикою. Он вызывал… ее восторги и слезы и, наконец, громовые рукоплескания, раздавшиеся со всех сторон, потрясли душу старика».
В тургеневских пьесах «Холостяк» и особенно «Нахлебник» Щепкин возвращается к главной теме своего творчества – теме маленького человека, униженного и оскорбленного, но с чувством собственного достоинства. Однако уровень литературного и художественного воплощения этого образа был неизмеримо и несопоставимо выше, а потому острее, глубже, обобщеннее.
Щепкин поднимался до заоблачных высот мастерства, когда показывал, как постепенно, от сцены к сцене у этого маленького человека, привыкшего молча сносить обиды, вдруг зреет внутренний протест, неминуемо влекущий к кульминации, взрыву, как только образованные и состоятельные хамы начинают вытаптывать его человеческое достоинство, покушаться на тех, кто не может защитить и отстоять себя. Так, старый холостяк Мошкин, сам беззащитный перед жизнью, вступается за честь своей воспитанницы, пытается уберечь ее от позора, оградить от бездушия сильных и богатых.
Кузовкин, дворянин по происхождению, вынужден из милости доживать свой век в богатом барском доме, безропотно сносить насмешки окружающих, оставаясь в глазах всех шутом-приживалом. Но сколько светлого и доброго таится в его чистой душе, как свято и дорого ему его собственное самоуважение. Он хочет оставаться человеком и иметь право на уважение. Он заслужил это своей жизнью и старостью. И когда господа грубо и беспардонно начинают пакостить в его душе, унижать до беспредела, он сначала задыхается от несправедливости: «За что вы меня топчете в грязь? Что я вам сделал? Помилуйте!.. За что?», – а потом восстает и с гневом бросает в лицо своему обидчику: «Эх, Павел Николаевич, стыдно, батюшка… А еще образованный человек, из Петербурга… Мало вам того, что я уезжаю; вы хотите, чтоб я замарался, вы хотите купить меня… Так нет, этого не будет!… Что это со мной делают, господи! – обращался он далее уже к публике, ища ее сочувствия и защиты. – Да этак лучше прямо в гроб живому лечь!.. Ведь со мной, как с собакой, говорили, ей-богу… Словно во мне и души нет!..»
Благодаря Щепкину тургеневская пьеса обрела невероятную социальную остроту и мощное нравственное звучание. Шуму вокруг этого спектакля было предостаточно… И автор комедии, и ее главный исполнитель, и, конечно же, публика были вполне вознаграждены за долгое ожидание и нелегкие мытарства, которые пришлось испытать пьесе и ее защитникам, пока она не увидела света рампы.
Щепкин ожил, он был счастлив, что его закатные дни озарились таким творческим вдохновением, он наслаждался этой радостью и уже близкий конец не казался таким безысходным и мрачным. Свою миссию на артистической стезе он выполнил с честью и до конца.
«Еще одна почтенная черта…»
Актерскую жизнь иногда можно представить в виде полотна, только раскраска его и рисунок слишком замысловаты и своеобычны. Напрасно искать здесь какую-то определенность и закономерность. Все перепутано, смешано и… необъяснимо. То густо рассыпаны серые и мрачные черные тона, то морем разливается сверкающая голубизна, то вспыхивают красные мажорные цвета…
У Щепкина театральная карьера, сложившаяся вполне благополучно уже на самом ее старте, казалось, переливалась одними розовыми и радужными тонами. Но это только внешне. Сколько он испытал превратностей судьбы, горьких разочарований, сколько невосполнимых лет пришлось затратить на мелкие, суетные роли, не доставлявшие радости ни уму, ни сердцу, сколько сил затратить, чтобы высечь из серого, маловыразительного драматургического материала какую-то свою божью искру, сколько бесценной творческой энергии положить на алтарь искусства, чтобы пробить на сцену стоящую роль и освятить ее своим талантом и мастерством!.. Много довелось ему испытать и пережить превратностей судьбы за пятьдесят с лишним лет служения театру, но все мелкое, все серые и черные полосы на его жизненном полотне искупались мгновениями истинного актерского счастья – во всей полноте познать благоговение и признательность растроганных зрителей, возможность взойти на вершину славы, пережить свой звездный час, принять самые высокие почести от самых великих его современников. Так случилось в его пятидесятилетний юбилей на театральной сцене, когда его друзья, поклонники таланта, ученики и просто любители театра устроили ему чествование, каких еще не бывало на российском театре.
Правда, вначале ничего такого грандиозного и не предполагалось. Все произошло как-то стихийно, по внутреннему побуждению его искренних устроителей. Никто и не догадывался о том эффекте, какой вызовет это чествование среди общественности и всех мыслящих людей России. В то время юбилейные торжества еще не были в почете, театральные власти смотрели на предстоящее торжество с некоторым раздражением, чем, по словам А. Н. Афанасьева, «аттестовали себя свински». «Выдумал какие-то пятьдесят!» – выговаривал юбиляру с неудовольствием директор императорских театров А. М. Гедеонов: какой уж тут после этого праздник! Но друзей и поклонников театра это только подзадорило. Организаторы торжеств, а среди них были отец и сын Аксаковы, Погодин, Грановский, учитывая вечные материальные затруднения Щепкина и не надеясь на казенную пенсию для артиста, решили организовать взносы в пользу юбиляра.
Только было начала разворачиваться эта деятельность, как непредвиденные события одно за другим парализовали ее. Сначала смерть венценосного Николая I отразилась тем, что были закрыты все театры и прекращены всякие увеселительные зрелища до снятия всенародного траура. Это вполне соответствовало логике его царствования, гонениям на литературу и искусство, на передовое и мыслящее. Уже само вступление монарха на престол ознаменовалось смертным приговором, а затем казнями декабристов. На эшафот были возведены петрашевцы, среди них с петлей на шее и мешком на голове стоял в ожидании царской воли Ф. М. Достоевский, ему приговор смягчен был каторгой. Тридцатилетнее правление Николая I, несмотря на все репрессии, казни и палочную систему, оставило Россию в тяжелом положении и привело к «краху всей его системы», что дало повод Ф. И. Тютчеву написать такие стихи:
Не богу ты служил и не России,
Служил лишь суете своей.
И все дела твои, и добрые и злые —
Все было ложь в тебе, все признаки пустые:
Ты был не царь, а лицедей.
Вот они метаморфозы жизни: царь, облаченный всей полнотой власти, обрел репутацию лицедея, а актера, преимущественно комических ролей, в прошлом крепостного, современники величали жрецом искусств, властелином, царствующим на сцене.
Другие печальные события ставили юбилей Щепкина под вопрос. Не до веселья было от все более печальных вестей, приходивших из Крыма, где русская армия несла крупные потери в войне с турками. И в довершение всего, когда дата юбилея была уже назначена и приблизилась вплотную, неожиданно скончался дорогой друг Михаила Семеновича Тимофей Николаевич Грановский, профессор Московского университета, о лекциях которого ходили легенды, а аудитории, когда он выступал, были переполнены до отказа студентами всех факультетов. Теперь они опустели, университет погрузился в траур.
Жизнь, однако, брала свое. Устроители юбилея, оправившись от потрясений, вдруг обнаружили, что дата неумолимо приближается, а ничего еще и не сделано. Вот как описывал эту ситуацию Михаил Никифорович Катков, издатель «Русского вестника», один из организаторов юбилея: «… Наступил ноябрь месяц, уж оставалась его одна неделя, а о приготовлении никто и не думал. Авось дело само собой сделается, – такова давняя привычка наша, увы, успокаивать свою леность, неповоротливость, беспечность и равнодушие. Наконец, русский человек опомнился: Что же, господа, готово? – Что готово? Мы не начинали. – Как не начинали, ведь осталось пять-шесть дней? – Ах, и в самом деле! Как же быть?.. И пошла писать! Объявления в газеты, телеграфические депеши в Петербург, кто к повару, кто к музыкантам, кто в театр… по щучьему повелению, по нашему прошению, все наконец начало улаживаться и к концу недели уладилось в идеальном отношении, а в материальном неурядица продолжалась до первого удара смычка: поутру, в субботу, неизвестно еще было число будущих участников, хоть объявлено было в газетах… Ничто не помогло. Даже за минуту перед обедом являлись охотники и требовали настоятельно допущений. «Помилуйте – нельзя». – «Отчего нельзя? Я хочу». – Вы должны были записаться прежде: ведь было напечатано в газетах». – «Да я не читаю газет». – «Стол накрыт на определенное количество приборов». – «Я сяду где-нибудь». – «Кушанье изготовлено по числу записавшихся». – «Один человек лишний ничего не значит». – «Да вот еще один, еще один». – «И полноте – пустите, пустите, пора!» И приходят новые гости, званые и незваные, и набирается всего около трехсот человек.
И все уселись, и все нашли себе место, и никто не был обнесен чаркой… Как же все это могло сделаться так хорошо? Подите – спрашивайте, как у русского человека дело делается, и извольте размерять его по европейскому правильному масштабу. Следует еще прибавить, что до самого дня праздника, и даже несколько дней после праздника, не истрачено было ни копейки. Виноторговец прислал вин по одной записке. Повар закупил все припасы на свои деньги. Садовник доставил цветы, не спрашивая ничего. И до последней минуты неизвестно было о количестве собранной суммы! Нарочно записываю все эти частности, чтобы наши внуки по описаниям не составили себе ложного понятия об образе ведения наших дел. Но, может быть, так бывает только в Москве? О нет, так ведутся у нас подобные дела везде… О русский человек! Неужели тебе на роду написано, чтобы ты всегда криво впряг, да поехал так».
Основные юбилейные хлопоты взял на себя Михаил Петрович Погодин. Он был главным дирижером и распорядителем на торжестве. Без шума и суеты, но споро, умело направлял весь его поток в нужном направлении.
Николай Алексеевич Некрасов занялся составлением приветственного адреса от литераторов, Иван Сергеевич Тургенев взял на себя труд собрать подписи под ним, впрочем, больших усилий не потребовалось. Все охотно ставили свои подписи под словами признательности и благодарности великому артисту. Двадцать семь замечательных современников дали автографы, среди них Ф. Тютчев, Иван Гончаров, Иван Тургенев, граф Алексей Толстой, Иван Панаев, граф Лев Толстой, А. Майков, Ник. Некрасов, граф В. Соллогуб (написание имен взято с подлинника).
День чествования юбиляра был назначен на 26 ноября 1855 года в зале Художественного класса (Училище живописи, ваяния и зодчества). Ну а тон и «смысл всему празднику» был задан речью, сочиненной С. Т. Аксаковым, сам Сергей Тимофеевич был нездоров и присутствовать не мог, поручив сыну зачитать свое приветствие. Торжественная речь оказалась краткой летописью полувековой сценической деятельности Щепкина, содержащей меткие характеристики творчества артиста и его личности, точные оценки его вклада в развитие отечественного театра. Вот ее финал: «Неблагосклонно мирному искусству настоящее грозное время; мрачен наш небосклон; строго испытание… но всегда время отдавать справедливость заслуге, благодарным быть всегда время. Если мы признаем за истину, что воспитание, усовершенствование в себе природного дара есть общественная заслуга, то не должны ли мы признать, что Щепкин оказал такую заслугу русскому обществу?.. Итак, благодарность ему за доставленное нам в продолжение стольких лет высоких наслаждений, сердечных и умственных! Благодарность за благотворные слезы и благодетельный смех!»
Эти слова утонули в рукоплесканиях и дружном «ура!!!». Как констатировал «Москвитянин» в своем отчете о торжествах, «прекрасная статья была прослушана с глубочайшим вниманием. Щепкин плакал, следя за годами своей жизни, пролетавшими один за другим в его воображении, начиная с первого дня, когда он, бедный мальчик, из суфлерской конурки явился на сцену». Все подняли бокалы за здоровье автора статьи, а сын в благодарном ответном слове впервые публично провозгласил тост «в честь общественного мнения». Все присутствовавшие поняли его с полуслова. Официально-чиновничьи власти проигнорировали это всенародное торжество, и «общественное мнение» очень точно и справедливо отвечало духу этого поистине исторического события. Общественное мнение как самое высокое понятие определяло почести и награды великому артисту, именно оно, а не казенный официоз, способно давать самые верные и точные оценки.
В своей «благодарственной» речи Щепкин обратил на это свое особое внимание: «Этот ничем не оценимый почет, которым вы удостаиваете старого представителя искусства, радостен для меня тем более, что я вижу в нем явное свидетельство того уважения, которое в последнее время развилось к искусству, так мною любимому.
Если не ошибаюсь, с самого основания русского театра едва ли я не первый почтен таким торжеством. Искренно сознавая, что не вполне заслуживаю чести, которую вы мне оказываете, могу только сказать, положа руку на сердце, что в продолжение всей моей пятидесятилетней деятельности я любил мое искусство и честно и добросовестно выполнял, по моему крайнему разумению, все, чего оно требует от артиста. Вот вся моя заслуга. Но эту любовь, эту добросовестность развивали и поддерживали во мне вы же сами, милостивые государи. Многие из присутствующих здесь были моими двигателями на сценическом поприще, а многих уже и нет…
Сегодняшний день, милостивые государи, имеет для меня великое значение. Да послужит он моим собратьям и товарищам по искусству блестящим свидетельством того, как почтен честный и добросовестный труд, как признает и ценит общество истинную любовь к искусству».
В тот день было много произнесено славных и добрых тостов, речей, экспромтов – от коллег по театру, литераторов, профессоров университета, любителей искусства в честь артиста, «за процветание театра». И в каждом из них звучало искреннее и неподдельное восхищение. П. А. Каратыгин свое поздравление закончил такими стихами:
… Хотя завиден твой почетный юбилей,
Но не найдешь ты в нас ни зависти, ни лести,
Вот общий голос всех твоих друзей:
Художник! Ты вполне достоин этой чести!
За праздничным столом было представлено действительно русское общество во всей своей сложности и противоречивости и своем единстве в главном – любви к отечеству, отечественной культуре. Рядом сидели западники и славянофилы, служители капиталу и служители культуре. «На этом празднике, – свидетельствовал один из его участников, – соединились представители противоположных лагерей… на его юбилее замолкла вражда, тут искренне соединились и западники и славянофилы: между другими подарками, поднесенными тогда Щепкину, был серебряный поднос, на котором стояли западнический бокал и славянофильский ковш; во время юбилейного обеда С. М. Соловьев и… С. П. Шевырев обходили столы с этим подносом, предлагая всем выпить вина и из бокала и из ковша – в знак общего единения на великом празднике искусства».
Но не только радостью светились лица собравшихся. Случалось, омрачались и печалью, когда мысли то одного, то другого из гостей да и самого юбиляра тоже возвращались к недавним горестным утратам тех, кто по праву должен был разделить это всеобщее торжество. К несчастью, смерть не щадит и редкие дарования. Наоборот, чаще выбирает именно их. Щепкин тяжело переживал смерть Белинского, Гоголя и вот… совсем свежа скорбь по Тимофею Николаевичу Грановскому. Михаил Семенович в своем ответном слове не мог не назвать его имени – слишком высоко ценил он его заслуги перед наукой, культурой, отечеством. «Беседы с Грановским поднимали меня нравственно, укрепляли во мне постоянно упорную и неутомимую любовь к труду и искусству».
Коллега Щепкина по театру, драматург-водевилист Дмитрий Тимофеевич Ленский, восхищаясь искусством своего собрата, счел важным привлечь внимание всех присутствующих к памяти другого великого артиста – Мочалова, прах которого семь лет покоится на Ваганьковском кладбище, но так и не удостоился памятника на своей могиле. Он взволнованно заговорил стихами:
В иссохшем лавровом венце,
С глубокой тоской на лице
Мочалов мне как-то приснился.
Покойник вздохнул, прослезился
И грустно сказал мне потом:
«Напрасно лавровым венком
Венчал меня Щепкин во гробе:
Давно уж в земной я утробе
Покоюсь по воле Христа, —
А нет надо мною креста!
Под снегом заглохла могила,
И трудно пройти до нея!..
Москва обо мне позабыла…
А я был любимец ея!..»
Итак, благородные гости,
Внемлите все просьбе моей:
Утешим Мочалова кости!
Поставим ему мавзолей!
Пусть каждый, кому что угодно,
Подпишет по силе своей —
И кончим тогда превосходно
Мы щепкинский наш юбилей!..
Стихи Ленского нашли горячую ответную реакцию, тотчас был составлен подписной лист и пущена по кругу шляпа, в которую «накидали много бумажек, и сам юбиляр, вторично расплакавшись, подписал 50 рублей». Скоро на «исторической могиле» Павла Степановича Мочалова был воздвигнут мраморный памятник. Так общественное мнение еще раз заявило о себе на этом торжестве и проявило свой гражданский долг перед памятью другого великого русского артиста. Способствовала этому и личность самого юбиляра, который всегда был готов помочь близкому и дальнему сотоварищу. В «Развязке» Гоголя, в которой Щепкин отказался играть, автор справедливо утверждал, обращаясь к артисту, что вряд ли найдется в театре хотя бы один человек, «который был бы… вами обижен» и что артист всегда проявляет о своих коллегах заботу.
Примеры на эту тему мы уже не раз приводили, но здесь мы отметим одну редкую черту артиста: он умел ценить и восторгаться искусством других мастеров и делал это искренно и бескорыстно. Увидев впервые на сцене петербургского артиста Александра Евстафьевича Мартынова, он, не скрывая своего восхищения, воскликнул в кругу других актеров: «Вот она, настоящая правда и простота! Нам до нее далеко!» И то, что это было сказано не в эмоциональном пылу, Щепкин подтвердит еще раз, когда во время гастрольных спектаклей Мартынов выступил его партнером. Щепкин тогда отозвался еще определеннее: «…в Мартынове больше таланта, нежели во всех современных русских актерах, не исключая и себя». Многие ли актеры могли так сказать о своих товарищах по цеху?!
Высоко отзывался Щепкин и о другом артисте Императорского петербургского театра, с кем его связывали долгие годы дружбы, – об Иване Ивановиче Сосницком. Ну а если вернуться к прошлым годам его работы в провинции, то вспомним имена Барсова, Угарова, Павлова, крепостной актрисы Кузьминой…








