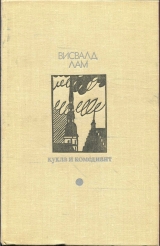
Текст книги "Кукла и комедиант (сборник)"
Автор книги: Висвалд Лам
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 24 страниц)
21
Улдис прав, признает Янис Смилтниек, грозное, прекрасное, беспощадное было то лето. Обжигаемые солнцем улицы Риги становились все безлюднее, по Гертрудинской улице словно мор прошел. Булыжник раскален, как печь в преисподней, и на восточном склоне небосвода сгущается гроза. Когда Янис последний раз получил возможность выбраться из города, он за один день прочистил легкие, наполнил кровь дыханием леса, полей, широкого неба. Лето в самой поре, жнецы вышли на нивы, еще пахнут поздние цветы, речные омуты манят теплой водой, белыми кувшинками. Но тень смерти нависла над всей этой красотой, давила грудь.
Янис Смилтниек встретил кое-каких знакомых, уже мобилизованных парней. Они вместе уходили в легион. Чувство страха, скрытого в подсознании, всплыло наверх, напомнило, что и его дальнейший путь может привести туда же. Скрежет подбитых гвоздями сапог по мостовой, широкие ремни с «Meine Ehre heißt Treue»[10]10
«Моя честь – верность» (нем.).
[Закрыть] на пряжке, зловещие черепа на фуражках, громыханье зеленых полированных котелков и касок, резкие голоса унтеров, черные погоны, железные пуговицы. Янис уже соображал, как побыстрее распрощаться и удрать, но тут пришел Эдгар – ротный командир, оберштурмфюрер, кавалер железного креста первой степени. Эдгар дружески пожал Янису руку и пригласил прийти поужинать вечером на ротный командный пункт. Как Янис заметил, здесь легионеры в присутствии ротного и унтера держались куда свободнее. Здесь царили иные отношения, чем в далеких тыловых казармах, обучающие старались вести себя по-дружески с новобранцами, лишнего цуканья не было: вдруг завтра уже зазвучит сигнал тревоги и всем вместе придется идти в бой.
Лаймдота: «Мой дорогой, единственный друг! Верь, пока ты со мной, никакая сила нас не разлучит. Мы будем жить!»
Мы будем жить! А на горизонте громыхала какая-то гигантская камнедробилка, перемалывающая жизни, цветение лета и любви. Чувство страха, злости, растерянности сжимало горло Яниса Смилтниека. Почему парням надо носить эту проклятую форму, чистить казенную винтовку, стрелять в макет человека, учиться убивать? Ведь каждый хочет жить, хочет любить! Но вот у него отбирают карточку НЗ, облачают его в серо-зеленую форму, безжалостная команда сует его вместе с другими в стальные челюсти машины, «катюша» играет погребальный хорал, а Лаймдоту целует и ласкает кто-то другой.
Учебные стрельбы: ближняя и дальняя цель, занятие правильной позиции, грозная коса смерти – скорострельный пулемет «МГ-42». Разобрать и собрать замок за одиннадцать секунд; переменить ствол за три секунды. Марш по поляне и песня: «Там клинками засверкала битвы яростной стена». Налетели советские самолеты, и легионеры рассредоточились по кустам. На бреющем полете двухмоторный бомбардировщик скользнул над ними, и его черная тень упала, как предостережение, что борьба будет без красивого сверкания клинков.
Вечером Янис Смилтниек не пошел в гости к командиру роты. В кузове старого газогенераторного грузовика он укатил обратно в Ригу, смятенно крича про себя: «Я не дамся! Нет, никогда! Ни в жизнь!»
Но гроза следовала по пятам, становясь все более угрожающей. Когда далекий гул стал слышен уже в преддверии Риги, настал черед Яниса. НЗ, незаменимый, – ругательство, которым бросались и загоняемые в легион и загоняющие, хотя сами считали работу этих незаменимых ценнее геройской смерти на фронте. Хватит этих отличий, во фронтовом городе незаменимых нет, все должны взяться за оружие.
«Мы не расстанемся, мы будем вместе», – твердили Янис с Лаймдотой друг другу. Большой город набряк ненавистью, каждая улица таила опасность, а их дом – хрупкая раковина – спрятал и уберег Яниса Смилтниека. Окно заброшенной мастерской заперто, дверь заперта, поперек нее большая железная накладка и висячий замок. Янис забился в небольшой, размером в шкаф, чуланчик. Снабжение его происходило через люк из погреба Карклиней. Свечной огарок, коробок спичек, кой-какая посуда, гнетущее одиночество и чувство беспомощности. Лаймдота появлялась раз в день, Янис понимал, что это ради него самого, чтобы никто ничего не заметил, но от этого ему не становилось легче. Его волю, самообладание размягчил какой-то прогрессивный паралич. Хоть бы все кончилось, неважно чем, долго этого не выдержать. Человек хочет жить как человек. Будь проклята нечеловеческая власть, которая погребает человека заживо! Тяжелые сапоги громыхали возле самой хрупкой раковины. Один неосторожный шаг, и все рассыплется в обломках. Янис всхлипнул, в темноте он не стыдился своей растерянности, своих слез. Сжавшись в комок, точно крохотное олицетворение горя, он прижался к теплой стене. Хорошая стена, милая стена… Там наверху, в райском этаже, у самой этой стены стоит кровать Лаймдоты. Милая, хорошая! Темнота вывалила черный насмешливый язык, передразнивая его смятение. Улица просыпалась, тяжело громыхала. Громыхало и сердце Яниса. Они идут, все открылось! Такое чувство, будто сам Гитлер вместо бежавшего комиссара Лозе и Дрехслера отдал приказ непременно сыскать Яниса Смилтниека и строго наказать в назидание остальным. «Мать-земля, спаси меня, укрой меня!» Шаги прогрохотали, шум стих, пока что еще он спасен…
«Мать-дубрава, мать-земля, спаси меня, укрой меня!» – молит герой в сказке, которую мать Яниса Смилтниека рассказывала своим детям. Те полгода, которые мать угасала на своей кровати, она говорила много. Доселе придавленная тяжестью непомерной работы, она наконец-то получила возможность полностью отдаться своим детишкам. Первую и последнюю возможность. Дети были маленькие, еще не понимали этого. Отец, румяный, с подкрученными усами, появлялся редко, всегда пахнущий вежеталем, помадой, вином, всегда улыбающийся, добродушный, занятой. Сестра за зимние месяцы научилась делать из всяких тряпок куклы. Янис одну и ту же, только «мужскую» куклу обряжал в разными шерстинками вышитые мундиры. То это был полицейский, то капрал, то генерал. Тряпичные лягушки, посмеивалась мать, она считала, что такие игры, годятся только для девчонок; отец пустил громкий смешок, но ничего не сказал. Мать стояла на своем – мальчишка должен строгать дерево. Нож у Яниса был, старый отцовский «косарь», только дерево мальчика нисколько не манило, скорее уж железо, но в сельской глуши разве что зубья от бороны попадаются да сломанные ключи, с которыми можно возиться, играя с капралом и генералом. А мать тихим голосом рассказывала еще никогда не слыханную сказку, она все больше уставала, все меньше двигалась. Близилась весна, дни стремительно становились светлыми, а мать медленно угасала. Она была уже такая слабая, что даже не радовалась принесенной Янисом свежей калужнице, боялась даже одна оставаться. «Мать-земля, укрой меня!» И остались только плачущая сестренка и три грустные «тряпичные лягушки».
Стена остыла, стена была сырая, тяжелая, холодная, как смерть. Тишина. Улица молчала, тишина была еще страшнее шума.
Янис Смилтниек против силы, ломающей миллионы. Смятение, упрямство, несгибаемая воля? Нет, только жажда жизни. И надежда – эта сила сгинет, не останется, а я останусь, я снова смогу выйти на белый свет.
Янис Смилтниек и понятие о честности, о послушании. Он преданно сидел у постели умирающей матери, был честный, послушный, он верил, что из небесных кущ, «где ангелы живут», сам бог смотрит и благословляет его и других детей, верил священнику, который над могилой матери обещал вечную жизнь. Тяжелый запах тления смешивался с запахом увядающих цветов, а там похожие на куриные перья облака застилали царство вечной добродетели.
Осенью, когда Яниса, как вареную картофелину, вмяли в длинную школьную парту, он часто повторял про себя последнее материно наставление: «Будь, сынок, усердным, честным, послушным, всегда говори правду, и сам господь бог тебе поможет». В то время он зубоскала вроде Улдиса счел бы слугой дьявола. Но его товарищи по школьной скамье отнюдь не были паиньками. Скамья была на восемь человек, старая, как и все школьное здание, где обретали знания за первые четыре класса ребята волостного захолустья. Янис попал в ряд самых настоящих головорезов, сидящие рядом только и думали, как бы отчубучить что-нибудь с девчонками или с самим учителем. Девчонки в возрасте время от времени давали шалопаям хорошую взбучку, их они не задевали, маленькие же пищали или бессильно злились. Учитель, высокий мужчина, с усыпанными перхотью волосами, был человек прямой и строгий, но его попытки судить и наказывать по справедливости терпели крах перед единым фронтом восьмерки. Янис был тише воды, никому ничего не выдавал, но, когда господин учитель спрашивал, отвечал по чистой совести, он просто не умел лгать. Вот так: Петер подстрекал к тому-то, Роберт делал то-то, а хлебную корку швырнул Майгонис. Так учила мать, которая теперь смотрела с небесной высоты, как он ведет себя в школе. Кара сыпалась справа и слева, ребята стояли в углу, довольные девчонки, язвительно смеясь, показывали им нос. Какое-то время Янис Смилтниек сидел посреди скамьи один, как король, рука учителя произвела вокруг него опустошение. Но вскоре Янис познакомился с иного рода пустотой вокруг него: девчонка, ябеда, маменькин сынок, подлиза. Все это сыпалось на него, точно камни. Друзья пропали, девчонки, те самые девчонки, которые страдали от наказанных сорванцов, они первые окрестили его позорным словом «предатель». За что? Ведь он, Янис Смилтниек, честно следовал заповедям и господа бога нашего и господина учителя. Мир несправедлив, приходил к выводу Янис в залитые слезами ночи, когда нехорошие мальчишки сладко спали, а он терзался, обиженный и покинутый.
Но в последний класс волостной полной школы он пришел уже совсем другим парнем и ушел всеми признанным. В начале лета шестиклассники выкинули номер, заведующий взъярился, учитель по военному воспитанию, командир айзсаргов, и священник, преподававший христианское учение, не менее того. Так уж получилось, что Янис в этом не принимал участия, но все знали, что он может выдать виновных. Яниса вызвали в кабинет заведующего, долго донимали. Айзсарг сверкал начищенными пуговицами, солдатской мужественной речью, заведующий – биографией народного вождя и цитатами. Янис онемел. Возвысил свой голос священнослужитель. Он бракосочетал мать Яниса, крестил самого Яниса во имя бога отца, бога сына, бога духа святаго, он смог дать последнее наставление умирающей, и вот она вкушает блаженный покой, а отец наш небесный взирает на сироту, зрит правду, которую Янис скрывает…
Янис дерзко посмотрел в глаза священнику и наконец-то раскрыл рот: «Если у вас такие знакомства с богом, так спросите его сами, кто виноват, а кто нет».
Из основной школы Янис ушел со свидетельством об окончании второго разряда, без права поступления в среднюю школу. Его ответ обошелся ему в лишнюю зиму учебы в рижской городской вечерней основной школе. Но зато можно было не слышать слова «предатель».
В Риге он поступил учеником к слесарных дел мастеру. Первые годы были невеселые. Отец мало чем мог помочь, мачеха старалась не допустить и этого малого, заработки были тощие. Помогли смекалка и тяга к избранному ремеслу. Работодатель, мастер Зауэр, был добропорядочный старикан – как только Янис проявил умение, так он еще до истечения срока учения стал платить ему, как подмастерью.
«Голова человеку дана, чтобы думать, – говаривал мастер, – а у кого она годна, только чтобы шапку носить, тот пусть не жалуется на тяжелую жизнь».
Всего у Зауэра было четыре подмастерья и четыре ученика. Янис – старший из них. Трое из подмастерьев хорошо ладили с Янисом, а вот четвертый – молодой, недавно вытянувшийся Артур, или, как его звали, Артис, – тот его невзлюбил. Так уж повелось, что Артис нещадно поносил Яниса: и что этот мальчишка лезет в подмастерья, пусть подождет, пока молоко на губах обсохнет, да подучится, сколько будет единожды один… Артис любил выпить, мастеру это не нравилось, и Янис от этого воздерживался. Остальные подмастерья были не святые, и Янис не отказывался сбегать, если посылали, за бутылкой. Но Артису заявил – нет!
«Ах ты, сопля с гонором!»
Гонор у Яниса действительно появился, он ответил: «Сам ты сопля!»
Артис кинулся на него, схватка была короткая и не в пользу Яниса. Дома он привел себя более или менее в порядок, но Зауэр что-то заметил.
«Кто это тебя так?»
Янис молчал, а Артис смеялся – он решил, что парень это от страха. Когда мастер ушел, Янис тут же заявил: «Я из тебя эту насмешку выбью!» Он так завелся, что уже не смотрел ни на что. Снова полетели тяжелые предметы, зазвенело оконное стекло, из разных углов по Янису били всякие железяки. «Дураки! Пошли на двор, без глаз останетесь!» – испуганно вопил старший подмастерье. А остальные орали: «Вложи ему! Подкинь еще штуку!.. Во, лихо! Еще отвали! Сунь в ноздрю!..»
Янис бил, бил, бил… Голоса куда-то пропали, закопченные стены мастерской как-то странно заиграли, высаженное окно раскрылось, как рот с ощерившимися зубами. Вой Артиса врезался в его сознание, стал пронзительнее, перешел в грохот и укатился…
Дома Янис весь исстонался и только потому не вызвал врача, что боялся больницы, расследования, полиции и протокола. Он провалялся два дня, словно через молотилку пропущенный, явился на работу и выслушал нотацию от Зауэра и угрозу от Артиса подать на него в суд за тяжелые телесные повреждения. Остальные заорали:
«Ты гляди, предатель! Мы тебя распотрошим!»
А Янис: «Давай еще раз чокнемся!»
Но тот «чокаться» отказался.
Честность и послушание. Янис Смилтниек не хотел быть хромым ягненком, покорно подставляющим горло под нож. Он был честный, послушный человек, но не предатель, он настаивал на своем праве жить. Ягненок настаивает?! Да будь он ничтожнее ягненка, самой микроскопической инфузорией, и тогда он не поддался бы темному потоку жизни. Он вырвался из вихря, укрылся в щель занесенной песком коряги и здесь отсидится. Раковина? Нет, прочная крепость – его воля, его решимость, несгибаемость. Пусть дерутся фюреры, пусть генералы лазают по окопной грязи, пусть ораторы заряжают фузеи, пусть вербовщики сами нюхают порох, да дери их всех дьявол! Янис Смилтниек останется здесь, он отразит приступ страха (как гудит улица!), выдержит мучительное неведение (а не допрашивают ли Лаймдоту, не пытают ли ее за пропавшего мужа?!), сломает тиски молчания (оно, точно смерть, стискивает все, все!), сохранит надежду, что его дом-раковина не хрустнет… Взрывы, взрывы, неужели в воздух летит весь город? Дрожат стены, дрожит земля.
И он дождался часа, когда теща с красными заплаканными глазами (Карклинь пропал без вести) вызвала его из этого садка. Он вышел, глубоко дыша, тихо радуясь, что жестокая гроза, почти до неузнаваемости развалившая город, наконец миновала, и тут же взглянул на окружающее деловито, взвесил положение, возможности. Вода из крана не идет, помыться нельзя; он стряхнул груз убежища и быстро подыскал место, дающее документ под названием «броня». Жизнь начиналась сначала…
22
Разрушенная изгнанными захватчиками красавица Рига.
Больно глядеть на следы увечий – изуродованные дома, изуродованных людей. Как дыры от выбитых зубов – пустоты и пепелища между строениями. Все еще в Риге скрещивались невидимые, но непримиримые линии фронтов. Одни брались за дело – восстанавливали заводы, взорванные мосты через Даугаву, зажигали электрические лампочки; другие с трепетной надеждой прислушивались, что там варится в Курляндском котле, ведь «еще не все потеряно»; третьи боялись даже своей собственной тени. Но жизнь поднималась, пробивалась, шла в рост, наливалась. Начала пробиваться молодая поросль. Утром эти ростки теснились в переполненных трамваях, а вечером, так же как их старшие братья и сестры, сидели за школьными партами или встречались у больших часов. Молодость не переживает горе, и Янис Смилтниек тянулся к радости, жил, работал, любил жену, свою Лаймдоту, в общем был всем доволен, хотя иной раз и поддакивал теще, которая ничем не была довольна. Каждодневно мадам Карклинь приносила известия, подслушанные в очередях или на Звиргзду-острове, где она по воскресеньям кое-что продавала: Лаймдота ждала сына от Яниса Смилтниека, ей необходимо питаться лучше, чем другим, которые готовы обойтись и сухим хлебом. Лаймдоту, в свою очередь, заботил Янис, а он был доволен тем, что есть. Он работал в трех-четырех местах, больше всего в ремонтных бригадах, и через вечер приносил домой груду червонцев. У него была раковина, теплая, милая, уютная. В квартире Карклиня-Смилтниека снова появились старые знакомые, разумеется, не все – все уже никогда не смогли бы собраться. Эдгар не вернется, это ясно, и Янис по нему не грустил. Да и многие другие не вернутся. Смуйдра появлялась часто, рассказывала, что Артур Берман окончательно пропал осенью 1943 года и с той поры не давал о себе знать. Но из-за этого она не отчаивалась, держалась стойко и воспитывала сына; раньше, когда Артур пропадал на несколько недель, она переживала куда больше. Янис предполагал, что это потому, что у Смуйдры нашелся кто-то другой, совсем же еще молодая и привлекательная женщина. Мадам Карклинь такое предположение рассматривала почти как личное оскорбление – нет, она воспитала порядочных детей.
Впервые теща рассердилась на зятя, но уже день спустя, волнуясь за него, лила горькие слезы. Янис получил повестку из органов государственной безопасности. Господи милосердный, что там еще может быть?! Янис старался делать спокойное лицо, хотя был взволнован не меньше, томило что-то нехорошее. Уж не распустила ли теща свой язык? Беда с нею.
Но Яниса приняли довольно дружелюбно. Необходима его помощь для выяснения личности одного человека. Ввели Артура Бермана, и Янис назвал его имя. А что еще было делать?! Бермана увели, но Янис понял, что свояк попался с чужими документами. Неприятное чувство. Янис вытер мокрый лоб. Теперь Артура будут судить за преступления, которые он совершил, неся службу в СД. Главный бандитфюрер (здесь чекисты нечаянно, а может быть, и умышленно обронили имя Осиса) при аресте оказал сопротивление и был убит. Янис смотрел на разложенные перед ним фотографии, в глазах у него ходили круги, он никого не узнавал. Подумать только, Артур служил в СД, форма ну никак не шла этому слюнтяю.
– Вот вы удивляетесь, – сказал следователь, – и нам иной раз приходится удивляться, потому мы и привыкли проверять каждого человека.
Карклини о происшедшем молчали так же, как Янис, и все же Смуйдра как-то вечером влетела в дом и устроила скандал: Янис шпион и подлый предатель. Только теперь мадам Карклинь узнала, как ловко ее дочка играла соломенную вдову. Все это время Артур прятался у Смуйдры, и она была счастлива, что неверный, но все же по-прежнему горячо любящий ее муж наконец-то в ее руках. Теперь Артура ожидала суровая кара.
– Спасибо за это Янису. Чека тебе хорошо заплатила! – вопила Смуйдра. – А я тебе в глаза плюну! Когда придут наши, они тебя вздернут!..
Янис не знал, что сказать, теща хотела внести мир, сгладить все, но Лаймдота, как оскорбленная жена, полностью стала на сторону Яниса. Пусть Смуйдра не очень здесь распинается за своего паршивого пьянчужку! Слово за слово, Смуйдра визжала, проклинала, – словом, бабья свалка. Но тут у Лаймдоты начались боли, и Янис помчался за «скорой помощью».
Давно это было. Сколько лет назад. Дети выросли, мы постарели, старики уже под холмиком. Жизнь никогда не повторяется. Невеселым было гощение Яниса в родных местах: друзья разбрелись, запропали, Придиса не довелось встретить. Когда Янис спросил про Улдиса, председатель волисполкома Густ скривил угрюмое лицо:
– А пес его знает, куда эта жердь завалилась!
Куда? Ревел мотор, машина петляла по пыльному шоссе. Из серой пелены вынырнула тонкая фигура Улдиса – зеленоватые бумажные штаны и гимнастерка, на ногах грубые ботинки, острижен наголо, на худом лице растерянность, радость, недоверие. Улдис возвращался по этой дороге, это была не Янисова дорога. Янис здесь гонял в кузове газогенератора, в «виллисе», в автобусе, знал здесь каждый поворот, каждую усадьбу при дороге, и все равно это была не Янисова дорога. Улдис шел по пыли, по густому мраку, по какой-то нереальной дороге. Это была его судьба, его мир, неведомый Янису. И все же Улдис возвращался, везде и всегда возвращался в жизнь Яниса Смилтниека…
23
Улдис:
– Да, я возвратился. Хорошо знакомая пыльная дорога. Мир синеющих лесов и клочковатых полей открывался передо мной. Позднее утро, я иду спокойным шагом, хотя дорога от станции до волостного центра немалая, а уж оттуда до «Клигисов» все ближе. В тени деревьев еще лежала серая роса. Я перепрыгнул через канаву и пошел по мягкому замшелому лугу, припал к жбану с росой. Пичуги распевали: «Чир-чир… фюит-фюит… тью-тью…» А березы вздыхали: «Приветствуем тебя!» Многохвостки солнечных лучей прогнали последнюю тень, последнюю горечь воспоминаний из моей груди, и серебристый кукушкин колокольчик пообещал долгие свободные годы. Доселе для меня было тайной, что счастье может быть тяжелым. Мать-земля, мать-дубрава, сними часть этой тяжести! Лицо у меня было мокрое от росы…
Снова клубилась дорожная пыль, щебенка хрустела под подошвами моих разбитых ботинок. Людей на полях было мало, сенокос еще не начинался, все работали дома, готовясь к тяжелой страде, которая начинается с первым валком сена и кончается с последней выкопанной картошкой. Лето, похоже, будет урожайное – травы в лугах по пояс, рожь густая-прегустая. Клевер усыпан красными головками, гудят шмели, бабочки так и пестрят.
Незаметно я дошагал до волостного центра. В тот день мне не суждено было добраться до «Клигисов»: когда я шел мимо волисполкома, оттуда выскочил и скатился со ступенек Придис. С минуту мы радостно вопили, потом друг повел меня в исполком.
– Теперь мы здесь хозяева, – заявил он с явным самодовольством. Поздоровался с председателем, парторгом и участковым уполномоченным – всех их я знал по нашему партизанскому отряду; все они держались со мной сдержанно вежливо, не то что Придис. Я понимал, что это значит, и почувствовал что-то вроде обиды, первой на родине, а предчувствие подсказывало, что это и не последняя. Сергей Васильич наверняка сказал бы: «Придется вернуть полное доверие товарищей. Сам виноват, что утратил его». Но я-то ясно понимал, что здесь меньше всего идет разговор о доверии или недоверии. Люди сторонились таких, как я, потому и вели себя настороженно.
Я почувствовал себя свободнее, когда Придис привел меня в свою комнатушку. И ему полагался «кабинет» в одном из закоулков исполкома. Заготовитель. И свои десять гектаров получил из земли одного бежавшего хозяина, дом хороший.
– Ты же не знаешь, какая у меня бедовая жена, Клигисова Мария.
Мне даже показалось, что течение жизни сделало вокруг меня поворот. Я стою в центре, и ничто не утрачено, никто не ушел, прошлое здесь же, давние события повторяются в настоящем. Я был молод, и было бы смешно назвать свою жизнь в «Клигисах» древней, но события последних лет оказались такими, что я чувствовал себя старцем, который колдовством сочетает старость с молодостью. Недоверчивый голос Марии: «Улдис, неужто так было, как ты рассказываешь, а ты не врешь?» Ильза смеется, Лелле злится: «Если ты не веришь, так не мешай другим слушать, иди отсюда!» Мария перешла в дом Придиса и стала хозяйкой – девочка, школьница, которая с беспредельной торжественностью, с забавной беспредельной серьезностью строила свою усадьбу из желтого песка, и хлев строила, и клеть. Весь двор украшала сломанными веточками сирени, втыкала щепочку – сторожевой пес, только заставь – и он «гав-гав!» Придис надевает калоши, достает старую косу и отбивает ее, Мария влезает в грубые башмаки и с навозными вилами бродит в хлеве подле Буренки. Мне тоже не хочется быть без дела, и я оглядываюсь в поисках его – все же обедом кормили. Придису дали десять гектаров, я не очень-то разбираюсь ни в гектарах, ни в пурвиетах, которыми мерили раньше, – наверное, это меньше, чем «Клигисы», но уж куда больше, чем городской садовый участок.

Как бы то ни было, настроение у меня было самое серьезное, если не торжественное, когда я очутился посреди Придисовой усадьбы. Глянь, вон и та школьница с «тугой головой». В простой юбке, босиком, в платке, она возилась у клети и на наше бодрое «Здравствуйте, хозяюшка!» ответила полной растерянностью. Как она выглядела? Выросла, но не окрепла, тоненькая, худенькая, с тонким личиком и плоской грудью. Не узнает или не хочет меня узнавать?
– Ой, господи! – вдруг воскликнула она и уткнулась лицом в платок. Не то засмущалась, не то растерялась от радости, хотя я совсем был не похож на знатного гостя, да и не так уж дорог ей был. Подав руку, она присела и бессвязно затвердила:
– А мы тут по дому возимся… Вот уж не думали, что гости пожалуют…
Придис добродушно посмеивался:
– Да что ты, мать! Чай, не бароны какие, и Улдис не граф. На одной ноге канадский ботинок латаный, на другой немецкий.
Послышалось звонкое:
– Улдис, Улдис! – и Лелле уже висела у меня на шее. Когда старшая сестра одернула ее, она сконфуженно отпрянула, смеясь и сверкая слезами в глазах. Даже Придис чуть не зашмыгал носом, хотел было что-то сказать, но лишь пробормотал нечто невразумительное.
– Ну вот мы и опять вместе, – сказала Мария. – Вот как Сергей Васильич помог. Я с самого начала говорила, что только ему одному это под силу…
– Да что там! – откликнулся Придис. – Все мы за нашего Улдиса стояли.
Мы дошли до жилого конца дома, где обитала семья моего друга. Мне все нравилось, в первую очередь полугодовалый крикун, о котором я убежденно заявил, что он весь «папин сын», хотя про себя подумал, что похож он единственно на себя самого. Но эта невинная ложь привела Придиса и Марию в восторг. Столь же лживо я подтвердил, что молодожены хорошо устроились, хотя всюду была видна голая нужда. Снова радостные улыбки. Радость жить и работать была главным богатством в этой половине дома, которую исполком сдал в пользование своему уполномоченному по заготовкам и новому земледельцу. В другой половине такая же голытьба. А наверху две комнаты. В одной из них я могу поселиться. Вторую занимает дорожный мастер. При упоминании этой личности в голосе Придиса каждый раз проявлялись почтительные нотки. Дорожный мастер – это мой будущий начальник.
Суп был уже готов и подан на стол, это была, как здесь называли, похлебка с убоиной. Крестьянское угощение, и я, схватив ложку, вступил в это землеройное сословие, как рыцарь с мечом и святитель с крестом вступают в свое. Наконец мне стало ясно, что я вернулся, все остальные чувства заглохли, и я с живым любопытством стал глядеть по сторонам, хлебал похлебку, услаждал и взор. Пол в кухне деревянный, не глинобитный, как в «Клигисах», плита с бетонной окантовкой, окна большие, светлые. Я знал, что эта усадьба была одной из самых зажиточных в волости. Стол, за которым мы сидели, тоже от старого хозяина, новыми были мы сами, а самой новой и молодой – Лелле. Она сидела против меня, ела как-то нехотя, выглядела радостно смятенной и, мне казалось, готова была попросить: «Улдис, расскажи что-нибудь», – если бы не опасалась, что старшая сестра одернет ее. Я позволил себе заметить, что хлеб чудесный. Это получилось само собой, потому что действительно со времени жизни в «Клигисах» ничего вкуснее не ел. И Мария пояснила, что пекла его Лелле. Тут и Придис похвалил ее:
– Аннеле у нас славный помощник. Уж и не знаю, как бы мы управились без нее, когда маленький появился.
И сама Лелле осмелилась тихо сказать, что хлебы печь научилась от бабушки. Ах, валльская аристократка, будничное прозябание в доме лесника таки гильотинировало ее благородство. Но «чистый, настоящий» немецкий язык бабушка не успела передать своей любимице, так как вскоре после моего исчезновения занемогла и отправилась на тот свет. За день до смерти она просила сына похоронить ее на Валльском кладбище с отцом и матерью. Сын пообещал, и, насколько я знаю Клигиса, обещание, данное им матери, было для него свято. Но старуха сама почувствовала себя несчастной, всю ночь проохала, проплакала и, словно беседуя с покойным мужем, громко воскликнула: «Я не жалею, так надо!» Заплакала и Лелле, не от страха, а от жалости. Под утро старая хозяйка снова позвала сына и изменила свое последнее решение. Нет, в Валле ее все же не везти, она хочет остаться на маленьком кладбище на берегу Виесите рядом с мужем. Сразу же после этого она успокоилась и легко отошла.
Ушла и теперь отдыхает. Оборвалась нить жизни, кончился старый любовный рассказ – графский лесник и красавица хозяйская дочь. Серебряные рубли закатились в небытие вместе с серебристыми и слезными днями и минутами, брусничник отцвел, спелые ягоды осыпались, остались только вечнозеленые ветки для венка. Полевица растет по валу вокруг кладбища, гряды облаков теснятся по небосводу, а внизу все так же виднеются замшелые крыши «Клигисов», гнутся на ветру вершины деревьев, зияют пустые окопы… Вот и первая мирная весна. Вооруженные люди ушли, оставив шелуху патронных гильз, неразорвавшиеся снаряды, ржавую колючую проволоку. Прошло первое мирное лето, пришли вторая мирная весна и второе лето. Все так же ветер трепал на кладбищенском валу метелки полевицы и облака орошали лес, поля, нивы… Пришло четвертое мирное лето, вот уже полных три года с той поры, когда отгромыхал победный салют и когда я получил бумажку, где говорилось, сколько мне дано лет. Могло ли быть еще большее чудо – вот опять я сижу против Лелле и вижу, как холмики ее наливающейся груди дерзко пробиваются под тонкой блузкой!
Придис с Марией поели и повеселели.
– Улдис, сегодня ты свои мечтанья брось! – заявила Мария. Мечтаньями они называли то состояние, в которое я погружался, глубоко задумавшись. Лелле убирала со стола и время от времени бросала на меня улыбчивый взгляд.
На лестнице послышались шаги, и в наше веселье вторгся молодой парень. Он старался делать серьезное взрослое лицо, но на нем помимо желания пробивалась улыбка, в которой тонула вся эта деланная серьезность.
– Наш дорожный мастер – представил его Придис таким голосом, как в старину произнес бы: «Господин лесничий».
– Ояр, – назвался молодой парень, и твердо пожал мою руку.
Я ответил с неожиданной для себя теплотой. Ояр мне понравился, более того, я почувствовал к нему какую-то родственную тягу. Он был примерно моего роста, года на два, на три моложе, а потому и с более взъерошенными настроениями и мнениями. Но этого хватало и у меня. Когда я разговаривал с ним, мне порой просто казалось, что я смотрюсь в зеркало, что он отражает меня; это не значит, что мы были двойниками. Внешнего сходства у нас было мало, зато внутренне мы порою просто дублировали друг друга. Разумеется, я не имел намерения углубляться во всякие душевные тонкости, но то, в чем мы сошлись, заставило нас довериться друг другу и в конце концов достигло невиданной остроты. Это было нечто вроде двойного выражения одного характера. Наверное, поэтому я никогда не придавал значения его наружности, даже не обращал внимания, потому что мы или понимали друг друга без малейшего старания проникнуть друг в друга, или нещадно ссорились.








