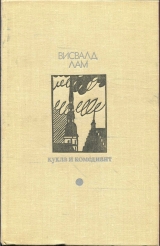
Текст книги "Кукла и комедиант (сборник)"
Автор книги: Висвалд Лам
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 24 страниц)
38
Улдис:
– Сегодня наша бригада всего только маленькую крышу просмолила, у ребят свирепая жажда; судьба бригады зависит полностью от меня, а я за всех работать не хочу. Это мое дневное задание, когда бригаду представляю только я. Другие появляются вечером, все они рижане и работают в каком-то строительном управлении. Сам начальник – маленький черный человечек, по-русски он говорит с жутким акцентом; как-то я произнес французскую фразу, которую помнил еще с гимназических лет, он радостно откликнулся, видно, что его французский куда лучше моего. Как-то на улице мне показалось, что я заметил отца, я поспешил к нему, но это был не он. А если бы был он?
Ах, в жизни каждая человеческая личность сталкивается со многими неизвестными. Ты, человек, никогда не можешь быть уверен, что тебя не переедет пьяный шофер. Недели две назад я шел мимо вокзала, меня задержали два милиционера и третий в штатском. «Предъяви документы!» – потребовал лейтенант. Я достал паспорт, лейтенант поизучал фотографию, уставился на мое лицо, штатский был неподвижной маской. Они перелистали все странички. «Как давно в Риге?» – спросил милиционер. Волнение сковало мне язык, они решили, что я плохо понимаю по-русски, штатский переспросил по-латышски. Я сказал, что сегодня приехал, и сообразил, что выгляжу я не таким. Им некогда было долго со мной возиться, отдали паспорт – иди. Опомнился я только перед дверью своей квартиры. Я приготовил ужин, но так и не поел, завалился на кровать и все курил.
Ночь. Вокруг меня тьма. Нормы больше нет со мной, остались только воспоминания о ней и ее страхе.
Утром звонок, железное дребезжанье будильника. На работу, получай свою пайку.
Человек хочет жить, в этом его сила и его слабость. Но чтобы начать новое, подведем черту под старым, приговор прошлому пусть будет пропуском в будущее.
Пусть! И я созываю всех людей, которые были со мной последний год. Идите как судьи, или как свидетели, или как обвинители, а может, просто как хорошие товарищи. Один не может жить, один человек не может работать, один человек не может и оценить жизнь. И они появляются на мой призыв; я снова вижу спокойное выражение лица того молчаливого партизана. Он не говорит – у человека, который давал показания своей жизнью, все права не повторяться. Я говорю:
– Товарищ, я помянул тебя в День Победы; Сергей Васильича я не мог поздравить в этот день, потому что находился в таком месте, где меня не особенно-то хотели выслушивать. Слова я передал, и я был с другими, Сергей Васильич вручил мне твой автомат. Слева на его прикладе были три зарубки, Сергей Васильич сказал, что я должен вырезать не меньше справа. И впрямь, с полным правом я мог бы сделать еще больше зарубок, я просто этого не делал. В одинаковых обстоятельствах люди поступают одинаково, да вот не совсем.
Идет Сергей Васильич. Он суров.
– Улдис, ты все не перестанешь дурить! Я говорю открыто, если ты еще раз влезешь в историю, я тебя выручу, как только могу, но потом надаю по шее, прямо кулаком вколочу в твою упрямую башку правильные установки. Что это за философия! Человек – кукла в руках судьбы, может быть, даже в руках бога?! Смех один… Сам ты был куклой, попадавшей сломя голову из истории в историю.
Но я возражу ему:
– Во-первых, философия куклы и комедианта не моя, ее придумал не то Тоцис, не то Коцис, не помню, как точно звали это баптистское ботало. Я нередко дурачил этой философией, вы же знаете, что у меня такой нрав, только бы подразнить других. Куклой была она – Норма. Ояр видел, как она в последний момент напоминала смятую куклу. Я шутник и комедиант, таким меня звали многие, если не ошибаюсь, и вы тоже. А если я часто поминал судьбу, то потому – и этого никто не оспорит, – что в жизни многое от нашей воли не зависит. Например? Рождение человека определяется не его волей и желанием так же как в большинстве случаев и его смерть. Я мог бы назвать болезни, против которых мы полностью бессильны, и явления природы, и пульсацию всей вселенной. И я никогда не бывал куклой в те минуты, когда дело зависело от моей воли. То, что я передал вам слова, было не игрой судьбы, а сознательным решением; я сознательно взял и оружие партизана, а ведь Зента обещала прятать меня до конца войны, я бы легко укрылся. Я шутник и комедиант, поэтому меня не любила святая, ограниченная простота, я часто просто дразнил ее своей волей, хотя это и было опасно. В своей жизни я допускал немало оплошностей, не всегда мне все было ясно и сейчас не все ясно, но зато я видел, как этот всемудрый философ и проповедник теории куклы и комедианта Тоцис, для которого не было ничего неясного, для которого все вещицы были разложены по своим местам и полочкам, остался в дураках. Сергей Васильич, вы слышали, что Сократ сказал: «Я знаю только то, что ничего не знаю».
Да, Сергей Васильич никогда не поддавался обстоятельствам, а хотел преображать обстоятельства на основе правильных идей. Я это признаю без насмешки; в бою он был смел, в поединке с нежеланием Придиса вступать в колхоз неотступен, и он победил по всем линиям. Придис впоследствии признавался: «А чем мне плохо в бригадирах? И Марите больше не надо надрываться, растит сына, нянчит девочку. Дуролом я был, за свои гужи держался». В жизни есть своя логика. Но знал ли Придис значение ученого слова «логика»? Это мне неясно.
С Ояром мы поссорились, мы знали, что каждый думает о другом, поэтому держались на приличном расстоянии. Но если бы произошло неожиданное – в жизни бывают всякие сюрпризы, – пришли бы представители закона и юстиции и официально спросили:
– Подсудимый Улдис Осис, вам инкриминируется соучастие в убийстве комсорга. Вы отпустили убийцу, когда он был в ваших руках. Отвечайте по совести всю правду: правдив ли тот вариант событий, который вы изложили свидетелю Янису Смилтниеку, будто совершили это сознательно, или вариант номер два, изложенный свидетелю Ояру Виганту, что убийца от вас сбежал?
– А какая разница? Только в первом случае мне грозила статья, а во втором общественное порицание. Но ведь, уважаемые судьи, вы спрашиваете о фактах. Комсорга убили не после, а до моей последней встречи с Талисом, так что…
– Итак, вы встретили его после убийства и не задержали его?
– Но я же не знал, что он до этого убил…
– Итак, который из вариантов? Это следствие, а не шутки.
– К сожалению, я люблю шутки, хотя они не всегда мне удаются. – Я вспоминаю, что для Клигисовой бабушки божий храм это было такое место, где царит священная серьезность, я же такого места еще не нашел. Мой отец говорил: «У каждого своя природа, и против нее не попрешь». Отсюда упрямые глаза и усмешливая морда. Но пусть он исчезнет, во мне нет ужаса, только большая тяжесть, когда вспоминается отец. – Видите ли, судьи, оба эти варианта справедливы, потому что, по сути дела, это один вариант: я не довел дело до конца, потому что просто не продумал все до конца.
А в жизни надо думать вперед. Хорошее слово «вперед», его пишут на плакатах и в стенгазетах, в призывах и воззваниях, его без устали твердят положительные герои на подмостках и громкие репродукторы на углах… И все же солнце каждый день всходит, и жизнь движется вперед, и, как люди ни стараются, не могут затаскать и замызгать великий смысл этого слова. И я повторяю: «Человек хочет жить, в этом его сила и его слабость». В эти чертовски тяжелые дни я отрубил от себя все прошлое. Репродуктор кончил бубнить, послышалась музыка, мелодичная, немного щемящая. А раз щемит, – значит, это жизнь, мертвому, тому безразлично. И вдруг я почувствовал, как дыхание наполняет мои легкие, как сердечная мышца гонит кровь. Я живу, и мой дальнейший путь проходит по этой жизни, какая она есть, и это и есть вперед. На перекрестке громыхает трамвай, гудит автомашина, щемит эта странная музыка, на дворе визжат дети, и где-то в пыльной путанице улиц девичья улыбка. Как все просто, как все удивительно сложно. Что мы упрощаем, что мы усложняем? Скажи мне ты, тогда я скажу тебе! Я сознаю, что стою накануне тех дней, которые начну заново, – веди меня дальше, я хочу жить! Что это значит? Я хочу еще многое узнать, я хочу учиться… Это в каком же вузе, уважаемый гражданин, а документы какие представите? Хватит тебе зубоскалить. Придет время, и узнаем! Хочу работать, что-то сделать… На творческой или на руководящей работе? А рекомендации, а какую анкету и автобиографию представите? А я тебе еще раз говорю, хватит зубы скалить! Комедиант-то я, а не ты! Я шутник! Я хочу вобрать полной грудью этот мой город с его дымами, я люблю его, люблю и то неведомое, что несет будущее и на которое у меня такие же права, как у любого. Человеческая жизнь – это движение от прошлого к будущему. Но двигаться – это не значит двигаться любым образом. Ползком я не пробирался никогда и в лимузине никогда не поеду. А почему никогда? Такси стоит рубль с полтиной километр. А во что ценишь то, что повезешь с собой как неотвязный багаж? Э, его я брошу на первой развилке, так тому и быть. Так хочется жить, когда тебе всего четверть века! И постигать хочется уже не конструкции, а жизнь в целом. Отрезать прошлое, пробить брешь в давящей стене и уйти в толчею жизни.
И вдруг Улдис в упор взглянул на Яниса Смилтниека:
– Ну, дружище! Стало быть, ты на прежнем месте? Крепко держишься! И создал себе жизнь по своему желанию. Ты хотел не воевать, а наслаждаться уютом, в лоне семьи. И преуспел: в пороховом дыму тебе не пришлось закоптиться, комфорт у тебя, положение, любящая жена. И, значит, ты не кукла в руках судьбы?! Ха! Ну, не кривись, будто вместо моего лица личина комедианта…
Лелле проводила меня до машины. Это был не рейсовый автобус, а просто обтянутый брезентом грузовик. Она уже не была светлой, не была звонкоголосой. Утро было светлым, утро было звонким, утро как будто издевалось над нами.
– Ты вернешься, Улдис. Ты должен вернуться!
– Не знаю, – сказал я. Конечно же, я не знал, смогу ли когда-нибудь вернуться, а еще меньше знал, желаю ли вообще вернуться. Лелле, видимо, поняла это.
Тихо, но решительно она сказала:
– Я буду ждать тебя. Долго…
Она не обещала ждать меня вечно. Она будет ждать только долго, пока жизнь не превратит ее в другого человека, наполнив новым содержанием. Я это понимаю, все мы становимся не такими, меняемся; это происходит незаметно, зато неотвратимо. Откуда у нее это понимание, кто ее этому научил? Наверное, страдание, которое я невольно внес на заре девичьей жизни. И все же туча, хоть и черная, не смогла затмить солнце. Это ее утро. А мое?
Вперед, к будущему! Долгоиграющая пластинка, вечно крутящаяся пластинка, остановки нет, заднего хода тоже нет. А впереди? Тоже новое утро? Кладбищенская яма?
Я уезжал от Лелле. Сел в этот закрытый кузов, мотор взревел, зафыркал, машину затрясло на ухабах. «Не смотри назад, тебе надо смотреть, куда едешь», – приказал я себе и припал лицом к прорези в брезенте. Так получилось, что взгляд мой упал на зеркальце сбоку от кабины водителя. В нем были придорожные деревья, они хранили воспоминания о Норме, о моем отце, Придисе, Марии; там были мои исхоженные шаги, моя дорога, Лелле под хлещущим лицо ветром. Я стремился к ней, к будущему, но оно убегало. Это было ужасно – машина увлекала меня вперед, но то, к чему я стремился, отступало все быстрее. Лелле поглотило облако пыли…
Улдис уехал по шоссе, хорошо знакомому Янису Смилтниеку. Но это была не Янисова дорога. Клубилась дорожная пыль, грохотала трудовая жизнь, как молот по огромной наковальне, где куют и перековывают все: мысли, взгляды, оценки, самих людей. Улдис обретался где-то в том же самом городе, делал свое дело, думал свои мысли, но к Янису Смилтниеку больше не возвращался, словно его никогда не было, словно он даже отпечатка следа не оставил после себя. Время все смывает, сглаживает, как морская вода стирает каждую надпись на прибрежном песке. Был, и больше нет.
Глубокая ночь. Снаружи темнота, суровое дыхание ветра, и снова тишина, тишина – до самой бесконечности, до вселенских глубин.
«Все течет», – сказал эллинский философ. Куда, почему? Из-за той высокой звезды, которая сияет в чернейшей ночи на небе?
Янис лег на кровать, закинув руки за голову. Ночь стояла на страже возле него, и думы шли беспокойной чередой…
1970
… и все равно – вперед…
повесть

Было промозглое, туманное утро. Над мшарником тянулся косяк журавлей. Резкие голоса… как в мучительном сне, наполненном страхом. Ничуть не похоже на далеко разносящиеся клики, как бывало раньше осенью, – так казалось Янису Цабулису, который, устремив в небо посиневший от холода нос, следил за птицами. Журавли скрылись. Цабулис потер кончик носа тыльной стороной ладони и вжался в воротник. Весь он был волглый и прозябший. Ладно еще, что ночью не было заморозка, что есть спички, есть полкаравая хлеба и немного курева. Голодный пост по сравнению с теми давними временами, когда, послушав журавлиные клики, Цабулис возвращался в теплую кухню, впивался зубами в обильно намазанный жирным творогом ломоть и, отхлебнув дымящегося кофе, торжественно провозглашал: «Журавли улетели – и день на полдник короче».
От приятного воспоминания рот наполнился пресной слюной. Он сплюнул и той же тыльной стороной ладони вытер рот.
Все время державшись с усталым упрямством, Цабулис вдруг почувствовал, что сдает. Оборванные жалобные клики журавлей почему-то привели его в отчаяние. Птицы выглядели всполошенными беглецами из того мира, где все отчетливее слышалось артиллерийское громыханье. Все время устремлявшийся туда, Цабулис уже не верил, что в этом есть смысл. А вдруг неизменно являющаяся ему в снах родная сторона уже вся в развалинах! Он горестно вздохнул…
В минуты отчаяния человек отрешается от окружающего. Раненая душа страдает в одиночестве – все равно, устремлены ли на тебя сочувствующие или равнодушные взгляды. Цабулис забыл о примостившихся на соседних кочках товарищах, с которыми проделал долгий путь от подножья Альп. Они ухитрились пройти всю Германию, переплыли Вислу, потом еще какие-то реки, три дня назад перебрались через Неман, и теперь вот, когда уже достигли границ Латвии, ноги Цабулиса отказывались шагать. Он словно увяз в эту мокрую землю.
Молчание нарушил резкий, но с хрипотцой голос:
– Только по куску.
Двое повернулись, протянули руки. Цабулис сидел все так же, вжав голову в плечи. А тот, кто произнес эти слова, раскрыл нож и откромсал четыре более или менее одинаковых ломтя хлеба. Он положил их на заплечный мешок и выждал, когда останется кусок, который никому не приглянулся. Так уж оно повелось в течение всего пути, и именно потому остальные доверяли этому человеку. По внешности он не казался сильнее прочих. Фамилия – Гринис, а имени товарищи и не знали. Самый суровый и жилистый, он постепенно взял на себя самое тяжелое. Слова его слушались, наверное, потому, что он никогда не говорил попусту. Двое, схвативших, как им казалось, кусок побольше, были из другой глины. Модрис – и его имени никто не знал – был высокий парень с пышными кудрявыми волосами. В общем-то неотесанный, но красивый. Пацан еще – пренебрежительно аттестовал его Альфонс Клуцис, который хоть и был немногим старше, но от чрезмерной приверженности к самогону рано обрюзг. Клуцису не нравилась ни забота Модриса о своей внешности, ни постоянное охорашивание волос – одна эта красота теперь и осталась, – ни хвастовство успехами у девиц. Хотя скитания по лесам и замызгали Модрисову форму, все же она выглядела куда чище одежки Клуциса – остатки шуцманского величия и тюремные штатские обноски. Цабулис с Гринисом были в куртках и штанах из самотканого сукна. Жизнь по кустам, роса и речная вода изгваздали их почти одинаково. И что этот Модрис вечно охорашивается – будто петух на столбе свиного загона!

Клуцис был вечно зол, этот крупнокостный и крупнотелый трус. Может быть, ему было еще труднее, чем Цабулису, но злость делала его сильнее. Обильная желчь заменяла ему кровь. Одна беда, Клуцис не знал толком, на что ему злиться, кто виновен в его невезении. Именно поэтому он и не ладил ни с кем, а больше всего схватывался с Модрисом, потому что это был самый мягкий кусок для его ядовитых зубов.
Но пока что и Клуцисовы и Модрисовы зубы были заняты хлебом. Еще два ломтя лежали на мешке: Цабулис все еще плутал где-то в чаще своего отчаяния, а Гринис спокойно ждал. Нельзя сказать, чтобы взгляду Гриниса была присуща особая сила, глаза у него были спокойные и самого обычного цвета – что-то среднее между синим и серым, необычными были лишь густые, кустистые брови, нависающие над веками. От дорожных тягот и вечной голодовки глаза запали еще глубже. Гринис смотрел и молчал. Щуплое тело Цабулиса время от времени вздрагивало. Модрис с Клуцисом жадно ели. Клуцис вдруг покосился на нетронутый хлеб… а вдруг… Проглотив пережеванный кусок, он проворчал:
– Ишь, неженка!
Модрис ухмыльнулся. Гринис продолжал смотреть на Цабулиса. Самый сильный и самый слабый, самый молчаливый и самый болтливый. А ведь еще совсем недавно Цабулис выглядел и самым расторопным и кое-где доказал это на деле, тогда он был заводилой, а не болтливым нытиком. И Гринис был благодушнее: во время опасного следования из Мюнхена в Бреслау безмятежно болтал в вагоне с жандармами и спас всех от провала. Гринис здорово лопочет по-немецки и по-польски соображает, так что он и был главным переводчиком. Вначале он много рассуждал, что будут делать, когда дойдут до Латвии. Вот тут-то и возник холодок между ним и товарищами. Остальные не очень ломали себе голову, рассуждения Гриниса казались им умствованиями. Они просто хотели укрыться и спастись. У Альфонса Клуциса весь Чиекуркалн – сплошные дружки-собутыльники, уж кто-нибудь да спрячет у себя на чердаке, где можно переждать, пока прокатится военная гроза. «Да хоть в конюшне у моего прежнего хозяина, там я на самого черта-дьявола плевал», – заключал он свои соображения. Модрис уверял, что уж ему-то насчет убежища меньше всего придется заботиться. Да если дзегужкалнские девицы узнают про его возвращение, они друг дружке юбки обдерут за право его опекать.
– Чего ж ты тогда дал себя упечь в строительную часть? – спросил сердито Гринис.
– На мир поглядеть была охота, – глупо ухмыльнулся Модрис. Нагляделся теперь, вот и по дому стосковался. Цабулис слово «дом» только и твердил, но для него «дом» был нечто иное, чем для Модриса или Альфонса, которому лишь бы укрыться в конюшне и пить самогонку. Но как бы ни были различны их желания, что-то все же единило их, это «что-то» и охладило Гриниса. Он замкнулся, уже не участвовал в разговорах, становился все угрюмее и молчаливее. В мыслях у него было только одно – как бы побыстрее сказать «Ну, дай бог не свидеться» – и повернуть в свою сторону. Но то, что Цабулис сник, как-то взволновало его. Переждав еще минуту, Гринис наклонился вперед и положил руку на вздрагивающее, покатое плечо:
– Тебе нехорошо?
Цабулис облизал губы. Какое-то время растерянно смотрел на Гриниса, потом заметил хлеб и, не выбирая, взял кусок.
Клуцис со своим уже управился.
– Нечего мыслями заноситься, того и гляди уведут твой кусок. – Чувствовалось, что слова эти были не только шуткой. И это заставило Гриниса отломить от своего ломтя и добавить Цабулису.
– Что ты… – даже смутился тот. – Ну, если уступаешь, тогда…
– Не хочется мне, – прервал его Гринис. Поймав взгляд Модриса, он без промедления переломил и остаток. Этот не стал особенно ломаться, буркнул: «…сибо!» – и жадно впился в корку. Гринис, точно оправдываясь, добавил: – Еще по такому есть. Но я думаю, надо приберечь на ужин, чтобы были силы для перехода.
– Найти бы какого-нибудь литовца и выпросить у него «айн кляйн бисхен дуонас», – хмыкнул Клуцис.
– А как нарвешься на фрицев и схватишь айн кляйн бисхен свинцового гороха? – бросил Модрис и взъерошил свою роскошную шевелюру.
Цабулис ел без всякой охоты. Гринис молчал. Что зря пустое молоть. Им это нравится, а его уже мутит. Какой прок тарахтеть о поисках хлеба, когда вся округа забита солдатами, и в эту поросшую кустами болотину они забились на рассвете, после тяжелого ночного перехода, не найдя более надежного места. Фронт уже близко, поэтому идти здесь куда опаснее, чем по лесам западной Польши или Восточной Пруссии, где можно смело шагать среди бела дня. В Литве лесов не так много, как в Латвии, но, может быть, они уже достигли границ Курземе? Пышные брови Гриниса сдвинулись и еще ниже опустились на глаза. Ну и что, если они действительно уже в Латвии? Там, в Австрии, или, как гитлеровцы называли ее, в Остмарке, далекая родина казалась им прибранной комнатой с накрытым праздничным столом, а Литва только порогом, который можно переступить в один шаг. Но последний день показал, что «порог» довольно широкий, да и на каждом шагу угроза – солдаты. А родина – она встречала пугающим гулом. Как там найти – не праздничный стол, а хоть бы почву под ногами? Эти… Модрис спрячется за юбку, Клуцис нырнет в бутылку, Цабулев Янис, опасливо дрожа, схоронится в кустах подле своей семьи. А может быть, все же поступят по-иному? Странно, как плохо мы знаем своих ближайших товарищей, хотя и пройдешь с ними сотни километров и всякого натерпишься.
Клуцис произнес:
– Закурить бы…
И здесь опять пришлось действовать Гринису. Ни слова не сказав, он достал жестянку с табаком и бумагу. Должность «хранителя табака» Гринис получил так же незаметно, как и «хранителя хлебных запасов», – так сказать, с ходом событий. Сначала у каждого припасы были свои, кто чем разжился. Гринис был даже беднее всех. Клуцис с Модрисом никакой экономии не признавали и дымили беспрестанно. У Цабулиса имелись сигареты, он был из «куряк по воскресным дням», которые охотно угощают других. Так и выкурили его «Königin von Saba»[13]13
«Царица Савская» (нем.).
[Закрыть], «Schwarze Staffa»[14]14
«Черная принцесса» (нем.).
[Закрыть], потом принялись за трубочный табак, потом за толстые сигары… Вскрывая последнюю пачку, Альфонс Клуцис таким похоронным голосом, будто читал некролог по любимому другу, произнес рекламный текст «Юно»: «Warum «Juno» ist rund? Auf dem guten Grund «Juno» ist rund…»[15]15
«Почему сигареты «Юно» круглы? Потому что у них хорошая основа» (двусмысленность: «Юно» – богиня Юнона).
[Закрыть] Гринис курил гораздо реже. Бывали моменты, когда он чувствовал, как словно крысы скребутся возле сердца, и сознавал, что табачный дым – вредная штука. А разве война, тюрьма, грозящий смертью побег – это что-то здоровое? И каким бы тяжелым ни было время, проведенное в неволе, он все еще крепкий человек, будто кремневый. Внутрь залезть никто не может, а снаружи ничего не заметишь. От этого бережного курения его небольшие запасы не очень убывали, а остальные свои уже извели. Тогда Гринис безо всяких стал по-братски делиться с товарищами по несчастью. Оделял он их скупо, но и себе брал не больше. Так и на этот раз. Каждому протянул по бумажке, – Цабулис отрицательно покачал головой, это уже не первый раз, но впервые этот пустобрех перешел на язык жестов, – и каждому насыпал по щепотке. Дух у немецкого табака был хороший, и клубы дыма вокруг голов курильщиков на миг создали настроение какого-то даже уюта…
Четверка пристроилась на самом сухом месте мшарника. Вокруг чавкала вода, и набухшие кочки выглядели чисто гадючьими гнездами. Здесь хоть вздулся небольшой желвак – песчаный взгорок с тремя сосенками. Можно хотя бы сидеть на сухом. Ноги у всех промокли, и все, кроме Цабулиса, поспешили переобуться. Ночной переход был тяжелый, но заснуть в этой сырости никто не мог. Может быть, потом туман разойдется и пригреет солнце. Костер зажигать опасно… того и гляди, появятся вооруженные люди. Любой куст, любой шум – опасность.
Утро светлело и наполнялось звуками. Болото было такое же тихое, но вокруг, за кустами, кипела жизнь. Донеслась петушиная песня, явно недалеко усадьба; еще ближе где-то брехал пес. Со стороны шоссе доносился гул моторов, с противоположной стороны взревел локомотив и лязгнул состав. Как в окружении.
Клуцис кончил переобуваться. Досасывая окурок, поглядел на отставшего от него Модриса и спросил:
– Где это ты такие шикарные носки отхватил?
Тот самодовольно усмехнулся:
– Хе-хе! И у немцев в сундуках хорошие вещички хранятся. – Гордо вздернув обтянутую тонкой шерстью ногу, Модрис ударился в воспоминания: – Уже не молодая, правда, солидная такая дама, какого-то вахмистра жена. Муж, понятное дело, на фронте. А тут я подвернулся, сам понимаешь. Домик у ней… Зазвала меня, сам понимаешь, обедать, яичницу с грудинкой на стол поставила, у фрицев это дорогая штука считается, сам понимаешь. А сама все уговаривает – ешь, дескать. На стол этак навалилась, а верхние пуговки расстегнуты. Сам понимаешь, еще тот вид! Ну, я ведь не больной какой, сам понимаешь. Подзаправился той грудинкой как надо и, сам понимаешь, на кровать!..
– Все на кровать!.. – Клуцис сплюнул. – Вот же телок, бес его задери! О чем ни заговори, как ни заговори, а Модрис тебе обратно на баб свернет – и на кровать. И долдонит, и долдонит, уши вянут. Хвастун – мочи нет. И вот такие девкам нравятся – бараны кучерявые.
Пока они плели свое, Гринис все наблюдал за Цабулисом. Неладно с ним. Нельзя давать ему сломиться именно сейчас, когда дальний путь уже за спиной, а опасности, которые требуют собрать все силы, еще впереди. Море переплыли, а теперь только переправиться через реку с горящим по ней маслом. На это нужны силы. Гринис еще раз встряхнул Цабулиса:
– Переобуться надо!
– Ох… бог с ним… – закряхтел Цабулис. – Потом… – будто спросонья от мухи отмахнулся.
– Что значит потом? Ноги сопреют, – Гринис принялся помогать ему, расшнуровал и стащил ботинки, нашел сухие портянки – перепеленал ноги, как младенцев. Модрис глядел и ухмылялся обычной дурацкой ухмылкой. Клуцис презрительно скривился, но промолчал. Над Гринисом не позубоскалишь, а Цабулис сейчас под его опекой.
Быстро приведя в порядок снулого Цабулиса, Гринис раскурил свою потухшую самокрутку и сунул ему в рот.
– Затянись! Бывает, что и помогает.
Цабулис вяло почмокал и проскрипел:
– Голова кружится.
– Лежи.
Чтобы уберечь Цабулиса от холодной сырости, Гринис прислонил его обмякшее тело к корявой сосне. Сам пристроился рядом, поднял ворот и вобрал голову в плечи. Глаза закрыты, а сон не идет. По спине пробегали мурашки – солнце хоть и поднялось выше, но нисколько не грело.
Те двое опять завели разговор. На сей раз говорил Клуцис, а Модрис слушал.
– Как мы ее жрали! К обеду полбанки – это уж законно, а иной раз и пивца пару бутылочек примешь. Немецкая эта водчонка, ею только нутро полоскать. Раз поймали одного спекулянта с бидоном самогона. Я его добром предупреждаю: не мути. Говори, сколько у тебя там, и я тебе скажу, сколько нам причитается. А тот хреновину порет. Дураком прикидывается! Думает, на таковских напал. Я и говорю: «Раз так – конфискуем весь бидон за твое вранье. А еще будешь мошенничать, все добро отнимем и протокол составим. Учти, и дальше по-честному орудуй!» Тот только белеет, пот утирает. А уж нам было что пожрать. Как купорос крепкая и горит, будто бензин! У кого нутро слабое – не принимает…
Клуцис даже облизнулся от полноты чувств. Гринис почувствовал, как в нем все переворачивается от злости. Еще тогда, во время отчаянного побега, Клуцис показался ему не особенно симпатичным. Никого близко не зная, он и не возражал, что делать – случай свел. Времени не было, приходилось полагаться только на доверие к человеку, на то, что все-таки это соотечественник. Уже в дороге Гринис узнал, что Клуцис служил шуцманом, хотя только, как он сам поспешил объяснить, всего лишь спекулянтов на Рижском вокзале ловил. «Помогал фрицам народ голодом морить», – зло отрезал Гринис. Клуцис продолжал оправдываться, что он всех отпускал, «попугав», только пустяковую пошлину взимал. Дружок его туда затянул, рассказав, что водки там хоть залейся. А в возчиках ходить уже никакого расчета не было. Клуцис до пятнадцати лет проторчал в четырехлетней школе, потом ограничился этим образовательным цензом, уйдя в ломовики. Вот была житуха – заработок десять латов в день, каждый вечер выпиваешь самое малое поллитровку. И по сей день бы еще честно правил своим овсяным мотором, не начнись эта «заваруха». Прельстившись шуцманской должностью с возможностью нить водку, «вляпался, как телок в дерьмо». Спустя год немцы его и еще таких же, повинных в подрыве экономики, посадили. Может быть, Клуцис и впрямь был не таким уж строгим «грозой спекулянтов». Из тюрьмы его отправили на работы в Германию, где он встретился с Цабулисом, который и привел его потом к Гринису. Нельзя сказать, чтобы проштрафившийся шуцман был злой человек, но порой в нем проступала явная подловатость. Немцев он ненавидел, но и о советской власти был не лучшего мнения. Вообще задушевным тоном он говорил только о довоенной водочной бутылке и папиросах «Спорт». В начале побега оружие было у одного Гриниса – сумел разжиться парабеллумом. В Польше наткнулись на немецкий караул. Одного солдата Гринис застрелил, другому Клуцис размозжил голову. Происшествие это укрепило их в сознании, что попадаться гитлеровцам они не смеют, но никак не уменьшило неприязни Гриниса к Клуцису. Захваченное оружие распределили так, что Клуцис завладел автоматом, тогда как Модрис с явной неохотой закинул за плечо винтовку. Волоки этакую железяку! Цабулис остался без оружия. Но он по нему и не тосковал. «Какой уж я воитель!..»
«Самому-то себя дай бог до дому дотащить, без фузеи», – подумал Гринис. И тут снова в ушах его загудели голоса собеседников.
Клуцис:
– Эта дурость никогда добром не кончается. Ребята говорили – все к дьяволу идет, и нам туда же дорога. Зато хоть погуляем. Один начисто сгорел. Говорю тебе, дым изо рта, из носа пошел, весь синий сделался и дух вон. Смотреть муторно было, будто говяжьи легкие…
Модрис тянул свое:
– И девок можно по вагонам щупать.
Клуцис презрительно:
– Которые так в мыле даже ходили. Меня на это бабье с самого начала не больно тянуло. Ну их к бесу. Я уж два года в ломовиках проработал, водку пил и курил не хуже других взрослых, а с бабами еще не знался. Только начни за юбку хвататься, оглянешься – уже жена на шее и поганец орет всю ночь. А старшие дружки все меня обхохатывают: «Дитеночек ты еще, да как тебя за мужика считать, если ты еще ни с одной не спал». Ну, коли такое дело, надо сделать все как положено. Пошли как-то вечером с дружком Густом, он вдвое старше меня был, закатились на Кузнечную. Подцепили двух. Одна старуха, другая смазливая. Я говорю, заплачу, сколько надо, но чтобы молоденькая была моя. Густ молчит, у него карман тощий, жена все выскребает. Купили по бутылке и айда в заезжий двор. Взяли комнату. Для начала, понятно, дернуть надо. Ну и дернули, так что все туманом подернулось. Такой туман, ничего не соображаю. Наутро голова болит, мутит. Весь день езжу и думаю: «Ну, правильный я теперь мужик или еще нет?» Ничего вспомнить не могу, что было, как было. Целую неделю голову ломал, а потом как начало резать! Побежал к доктору. Тот и запел: «Да как тебе не стыдно, такой молодой и уже такую болезнь схватил!» Тут я и понял, что, стало быть, уже не невинный, если больной. Старики меня хвалить, молодец, малый, говорят! Густу завидно стало, он смеется – подпоил меня, говорит, и подсунул старую ведьму, а сам за мои денежки с молоденькой. Уж и хороша, говорит, была. Ну, думаю, такое дело, надо одному распробовать, в трезвом виде. Вылечился, пошел и в точности такую же молоденькую сговорил.








