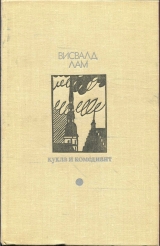
Текст книги "Кукла и комедиант (сборник)"
Автор книги: Висвалд Лам
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 24 страниц)
– Ну, и как эта понравилась? – жадно спросил Модрис.
Клуцис понес похабщину.
Гринису хотелось заорать: «Да заткнись ты, боров!» Но он молчал, столько уж пакости навидался. Но свет ведь и в глубокой тьме пробивается, и человек, он нечто выше какого-то жалкого насекомого. Какие необъяснимые противоречия сплетаются в ходе жизни! Будто клубок разматывается день за днем, глядишь – в привычной серой пряже вдруг яркий гарус сверкает. Глаза обращены к солнцу, а ноги часто по топкой грязи бредут. А если человек совсем увязает, если душа его уже не взыскует света? Аристотель вон считал, что чувство прекрасного главное, что отличает человека от животного. Неужели в этом словесном потоке, в этом извержении нечистот, можно различить хоть крупицу прекрасного? А еще был философ, француз Блез Паскаль, так тот сказал, что человек немыслим без мысли – иначе это уже камень или скот. А может быть, все же в этих разговорах пробивается какая-то мысль – крошечная, чуть заметная, хоть вонючая, но мыслишка? Тогда они все же не камни, не животные, а люди.
Он вздохнул. В сердце что-то встрепенулось. Слух уловил и донес до сознания какие-то слова Клуциса:
– Ну, тут мы поддали…
Где-то поблизости замычала корова.
– Ух ты! – прервал свой треп Клуцис. – Если тут пастухи… так они на нас могут выйти!

Никто ему не ответил. Клуцису уже не хотелось громко балабонить, да и Модрис побелел от страха. Цабулис пребывал все в той же полудреме, полубеспамятстве, тогда как Гринис блуждал где-то в своих мыслях. Дни, годы, смена времен, идет к закату человеческая жизнь. И он когда-то видел рогатое стадо на краю болота, слушал, как журавли уносят и приносят полдник. Дни и годы – вёсны, лета, осени. Сияющим цветком расцветало солнце на тусклом сером небе, и с сырых лугов навстречу ему сияло золото калужниц. Одуванчики лезли из земли, наливались белым соком, задорно обнажали свою золотистую головку, седели и рассевали по ветру пушистые семена. Они летели высоко над полем и заносили жизнь далеко-далеко. Куковала кукушка, и пахло навозом. Как счастлив он был, когда ему доверили воз. Из хлева выехал так осторожно, что ступица телеги ни за что не задела, доехал до поля, а возвращаясь, пустил коня рысью, стоя в телеге. Так здорово, так лихо, будто пребывал на ристалище в древнеримском цирке, даже смех разбирал, когда взрослые кричали: «Эй, парнишка, упадешь под колеса!» Ах эти дни! Запах хлева, ноги вечно в цыпках, мыканье стада, и как трудно вставать рано утром! Любая мелочь казалась целым событием, любая песенка заполняла весь мир. Было нелегко, но было много солнца, много смеха и веселья почти из-за ничего. Маленький рижанин у большого хозяина. Первые тяжелые послевоенные годы, а в деревне уже белели стропила в усадьбах новохозяев. Старый Гринис был железнодорожным машинистом, зарабатывал прилично, но милее всего была ему бутылочка. Сначала пил, оплакивая жену, потом тоскуя, что сын не ухожен как надо бы, потом от обиды, получив от какой-то красавицы отказ, не захотела стать мачехой его наследнику, а под конец – по любому поводу; маленький Гринис рос сам по себе, а там пошла школа, а там пастушить. Определили его к настоящему серому барону. Человек это был богатый, но без часто встречающегося в деревне порока: владелец усадьбы «Малые Камуры» не был скупым. Кормил хорошо, но и работать заставлял. Масло всегда стояло на столе, по субботам пекли пшеничный хлеб. Парное молоко Гринис мог пить сколько влезет. Хозяйка была строгая, но спокойная, зря не бранилась. Сам хозяин разговаривал только со взрослыми работниками. Грузный, самоуважительный, резкий в разговоре. Маленький Гринис трепетал перед ним! Это был не просто страх, а нечто большее – хозяин казался воплощением мудрости, всезнания и всеведения, что он сказал, то было неоспоримо. Посреди своего двора он стоял во всем величии, как Цезарь в центре своей империи, это он был солью земли.
Одно-единственное горе угнетало этого почти совершенного человека – с детьми было плохо. Бренного богатства хватало, можно хоть полдюжины пустить по свету не с голой задницей гулять, а седьмому, который лучше всех себя в хозяйстве проявит, усадьбу оставить. Земли было с триста пурвиет, и земля-то какая, будто сало. Женился хозяин на своей двоюродной сестре с другого конца волости, тоже единственной наследнице большого хозяйства, и смог ее приданое обменять на хорошую землю подле себя. Так что у него было что-то вроде целого имения. С большой радостью ждали первенца. Вроде как появления престолонаследника, ведь со временем ему предстояло владеть просторами «Малых Камуров». Соседи из усадьбы на взгорье были голодранцы. «Большие Камуры»? Одно название, что большие. Владелец «Малых Камуров» переплюнуть мог через их владения. Потому-то в округе и перешептывались злорадно, что у гордеца с сынишкой не все ладно. «Не задался, умом тронутый». Хозяин знал, что люди болтают, хотя в глаза ему сказать этого никто бы не осмелился. Он ждал второго сына. У того была «водянка в голове», и врачи ничем не могли помочь. Хозяин привез доктора из дальних мест, – этот был широко известен, на язык и поступки несдержанный, но врач толковый. Вдруг поможет, хоть совет даст, чтобы с третьим все ладно получилось. И вот с этим доктором хозяин на своей половине жуть как повздорил. Гринис в саду яблоки собирал и слышал, как выскочивший на веранду врач еще обернулся и крикнул: «Скоты, выродки чертовы! Ради богатства кровосмесительствуете, а потом удивляетесь, что вместо детей крокодилы родятся!» Гринису показалось, что в этих Докторовых словах прозвучало что-то такое неприличное, что только рижские уличные мальчишки себе позволяли, но слова эти запомнились. Хозяйская половина показалась ему вдруг покойницкой, откуда в самый жаркий полдень веет холодом смерти и тлением. Он старался держаться от нее как можно дальше. До самого отъезда в Ригу спал в клети, хотя все уже перебрались в теплое помещение. Как-то в молотьбу, повозившись со снопами, он увидел ночью во сне, что из хозяйской половины вылезает страшный крокодил и хочет сожрать его. Вопя дурным голосом, Гринис вскочил и в страхе не знал, куда ему кинуться. Хозяин не утратил своей величественной выдержки, но на доктора подал в суд. Что это еще за слова! Он, владелец «Малых Камуров», не прелюбодействует, а живет в законном браке, священником венчанный. А если врач не большой умелец, чтобы вылечить несчастного ребенка, то и не смеет честить его крокодилом. Что там с этим судом было, Гринис не узнал, уехал в Ригу. Но он уже сумел заглянуть в самые темные глубины жизни – и получил отвращение к тому, что там таится…
Солнце уже било в лицо. Гринис встряхнулся. Стало теплее. Болтуны угомонились и задремали. Спокойно дышал и Цабулис, хотя время от времени постанывал. И Клуцис покряхтывал… знать, дорвался во сне до желанной бутылки. А Модрис блаженно улыбался. Странно, во сне с него как будто спадало все пакостное, лицо обретало дурашливое выражение – просто добродушный парнишка. На губе его пристроилась какая-то букашка. Модрис заморгал и вытянул пухлые губы, будто собираясь послать воздушный поцелуй. Гринис вздохнул. Что ему сейчас снится? Может быть, вновь переживает томление первой любви, бурный трепет молодого сердца? А у него сердце щемит. Но это не было болезненным. Бодрящий осенний воздух легко вливался в грудь, и мысли снова улетели куда-то далеко. Душа стала легкой, отрешенной, сладкая усталость охватила все суставы, но уснуть он так и не смог…
В такой вот полудреме Гринис пробыл несколько часов, пока не погрузился в глубокий сон и не проснулся от вечерней прохлады. Кусты уже отбрасывали длинные тени. Скоро закат, впереди новый тяжелый переход. Гринис принялся расталкивать товарищей. Те просыпались, дрожа от холода, злые. По-настоящему не отдохнули ни Модрис, ни Клуцис, но торчать в этом болоте радости мало, и они с готовностью стали собираться. Цабулис все был какой-то странный. Вот он скрючился и закряхтел, как это делают пожилые люди, когда надсядутся от тяжелой работы. Гринис стал делить хлеб, Модрис внимательно глядел на его руки, сразу видно, есть парню охота. Клуцис, позевывая, потянулся всем своим громадным телом.
– Ух, как кости затекли! Сейчас бы косушку и краковской колбаски кружок. – Потом повернулся к Гринису: – Что ты крошками да щепотками, будто в аптеке снадобье готовишь? Хлеб лучше в брюхе нести, чем на спине.
– А что завтра есть?
– Да тут и есть нечего! Ночью на какую-нибудь усадьбу выйдем, разживемся, уж будто литовец корки пожалеет. А может, мы уже и в Латвии. Сейчас подзаправимся – и порядок. – Клуцис снял с пояса флягу. – Вместо водки придется водой запить.
Заметив радостное выражение лица, с которым Модрис воспринял предложение Клуциса, Гринис решил, что на сей раз надо высказаться решительнее.
– Не знаю, где мы находимся, но ясно, что вокруг армейские части. Может быть, фрицы отступают, и мы угодили в самую мешанину, неделя пройдет, пока выкарабкаемся. Если будет что в рот положить, то перебьемся. А если голод заставит побираться, то под самый занавес петлю на шею заработаем.
Клуцис запыхтел. Он даже не вник в смысл сказанного, уцепился лишь за то, что не понравилось.
– Ну и трус же ты! Через Германию, через Польшу прошли… а теперь…
– Сейчас опасности больше, чем раньше.
– Ерунда!
– А вот и не ерунда, – твердо отрезал Гринис и старательно разделил хлеб.
– Коли так, думай о себе одном. А мне мою долю подай всю!
Это было первое возражение против добровольно взятой Гринисом на себя обязанности провиантмейстера. От неожиданности у него даже руки замерли, пришлось помедлить с ответом.
– Нет!
Это единственное слово резко щелкнуло и еще больше подхлестнуло самолюбие Клуциса.
– Как это нет, мать твою так?! А если я того требую? И ночью сам разживусь харчем – во!
– Сам попадешься и нас погубишь, – возразил Гринис. – Что остальные думают? – Он повернулся к Модрису и Цабулису.
Парня явно соблазняло предложение Клуциса, но он уже привык считаться с Гринисом. Во всяком случае, память у него была не такая короткая, помнил и то, как Гринис совсем недавно разделил с ним свой завтрак, и пережитые опасности, когда именно он находил выход. Модрис несмело произнес:
– Да вроде поберечь бы надо.
– Мне все одно неохота есть, – прохрипел Цабулис.
Клуцис стоял на своем:
– А какое мне дело до остальных? Берегите, пока с голоду не сдохнете. Я свое требую!
– А мы не можем так делить: свое, мое.
– Ишь что выдумал!
– А потому, что ты сейчас сожрешь все, ночью ничего не достанешь, фрицы тебе хлеба не дадут. А завтра будешь глядеть, как мы едим. А мы не свиньи, которые…
– А кто это тут свинья, мать твою..? – угрожающе осведомился Клуцис. – Уж не я ли?
Гринис отрезал все тем же тоном:
– Ты не свинья. Ты прожорливый боров.
Дальше идти было уже некуда. Теперь или решиться на что-то, или идти на попятный. Клуцис крутил кулаком и взирал на Гриниса, как роющий землю бык. Посмотрел, посмотрел и… сник. Из-под кустистых, нависающих бровей на него было направлено что-то колючее, что-то сильнее его ярости – нет, не злость, не тупая ненависть, а сила. У Клуциса были дюжие ручищи, огромное тело и тяжелый кулак, он мог лить в глотку водку, как воду, кусищами глотать мясо, ворочать тяжелые ящики и мешки, но ему недоставало той силы, которая проявляется во взгляде, в воле, в выдержке… силы, которая у настоящего мужчины в сердце, а не в кулаке. По сути дела, Клуцис был труслив.
– Вот, стало быть, как, – буркнул он, отвернулся от Гриниса и уставился на кончики своих сапог.
– Возьми хлеб и заткни свою паршивую глотку, – окликнул его Гринис, и тот послушался.
– И вы тоже!
Модрис схватил так же жадно, как Клуцис, зато Цабулис даже не шелохнулся. Нет, дело явно неладно. Заболел? На отсутствие аппетита до сих пор никто еще не жаловался.
– Берн и ешь. А то не выдержишь.
– Не знаю, смогу ли идти.
– Да что с тобой?
– Не знаю.
В разговор вмешался Клуцис, но не с тем, чтобы подбодрить сникшего Цабулиса, а лишь бы выплеснуть часть своего раздражения:
– Придется тебя в какую-нибудь мочажину окунуть, чтобы взбодрить!
– Возьми себя в руки, поешь! – повторил Гринис.
То ли от Клуцисовой угрозы, то ли от сильного голоса Гриниса, Цабулис немного ожил и довольно быстро съел свой хлеб. Запили водой, свернули по самокрутке. Уже смеркалось, пора собирать нехитрый груз, а там и в дорогу. Обычно во время этих сборов шла немолчная болтовня. На сей раз молчали – на всех подействовали неожиданная стычка и недомогание Цабулиса. Было такое ощущение, что все до сих пор пережитое – чистый пустяк, что теперь только и начинаются настоящие трудности, что впереди уже зловеще глядится несчастье. Ночь сулила быть чернее черного; и уже темнее становились лица, и темно делалось на сердце. Только Гринис держался крепко.
– Моросить начинает. Промокнем, – зарычал Клуцис.
– Легче пробраться, – бросил Гринис.
Модрис встряхнулся и произнес:
– Сейчас бы да под теплое одеяло, да к теплой девке!
Он уже настроился на треп и думал, что Клуцис подхватит, но тот все еще исходил злостью:
– А ну тебя… Может, ночную рубашку еще тебе?
Разговор сник. Пора в дорогу. Цабулис с усилием приподнялся с насиженного места.
– С чего бы это, ноги будто затекли, не чую больше, – пожаловался он.
– Разойдешься, – подбодрил его Гринис.
Чавкающие шаги наполнили темноту и исчезли в ней.
Хотя ночь и приостановила движение войск, но шоссе было не совсем пустынным. Время от времени проносился грузовик, тарахтели запоздалые повозки. Здесь легко было наткнуться на что-нибудь нежелательное. К тому же Гринис считал, что надо забирать влево – к северу, так быстрее можно войти в Курземе. Артиллерийская канонада слышалась восточнее. Лучше не пытаться перейти фронт, а найти надежное укрытие, фронт же прокатится через него. Немцы долго не устоят, а уж как покатятся, так быстро уйдут.
Это поддержали остальные, потому и свернули с шоссе в лес. Там идти хоть и труднее, зато надежнее. Литовские леса довольно жиденькие, часто встречаются обжитые места, и как будто везде натыкано войско. Гринис совсем не хотел рисковать, да и Клуцис больше не заикался насчет того, чтобы где-то выпросить съестного. На протест его толкнул голод, но так же как трусость заставила его подчиниться воле Гриниса, эта же трусость не позволяла предпринять что-то на свой страх и риск. Предосторожность вещь хорошая, но она не помогает понять, где же они находятся. Звезд не видно, компаса нет, и выдерживать определенное направление почти невозможно. Порой казалось, что гул близкого фронта остается чуть ли не за спиной. Иди они по дороге, так там хоть деревянное распятие на обочине даст понять, что они еще в Литве, а здесь только сырые кусты хлещут по лицу, и ничего по ним не определишь. Дождь становился все сильнее. Порой начинало казаться, что они, будто их нечистый водит, топчутся на одном месте. Идти было тяжело. Верхняя одежда мокла от влаги с неба, а нижняя рубаха – от пота. Обломанные сучья, густая трава, сама земля, казалось, цеплялась за сапоги; ноги становились все тяжелее, груз не было мочи нести, усталость нарастала, и все внутри стервенело. Обычно Модрис во время этих переходов напевал какую-нибудь песенку, но нынче молчал. Клуцис то и дело оступался, и каждый раз из него, точно вонючий ком, шмякался сгусток похабщины. Цабулис поминутно приглушенно постанывал. И все же именно Модрис первый открыто выказал слабость – подобрался поближе к Гринису и сказал:
– А может, бросить эту заразу? Тяжелая, – он имел в виду винтовку. – Все равно, случись что, проку от нее немного.
– Давай я понесу, – и Гринис повесил на шею добавочный груз, хотя уже был занят Цабулисом. Тот все чаще спотыкался, не в силах держаться на ногах. Гринис тут же спешил его поднять и поддержать. На момент Цабулис собирался с силами и отстранялся от Гринисовой руки, но через несколько шагов снова падал.
«Да, влопались мы, положеньице не из приятных. Холод, дождь, вокруг опасность, голодно… – думал Гринис. – Но именно поэтому и нельзя бросать оружие, терять смелость, сжирать оставшийся хлеб и грызться друг с другом. Наоборот, взбодриться надо от сознания, что сейчас через нас перекатывается сокрушительная армия Гитлера. Что дальше будет – и представить нельзя, во всяком случае будет светлее, веселее… ведь мы же изо всех сил стремимся туда, откуда долетает гул пушек, на родину, куда уже вошли советские части». Гринис вновь прислушался к оханью Цабулиса, гнусной ругани Клуциса и не мог понять, почему они стали уставать, почти сдавать. Выносливости маловато?
Наверное, плохо все же, что он держался наособицу и не сумел понять, что скрывается в глубинной сущности его товарищей… Хотя что касается Клуциса, то сомнительно, чтобы там была какая-то глубина.
В темноте, пропитанной дождем, они вышли к какому-то перекрестку. Еще издалека слышен был шум повозок и голоса ездовых. Это что же, немецкие тылы всю ночь мотаются? Передвижение войск в широком масштабе? Они поспешно юркнули в чащу леса. Направление было уже совсем потеряно. Надо подумать, стоит ли вообще дальше идти. Начался сосняк. Это пробудило надежду, что вот и Курземе, хотя такой лес мог быть и в Литве, а в теперешнем положении все равно, туда они прошли несколько километров или сюда. И все же сердце твердило – не все равно, нет!
Точку поставил Цабулис. Они уже дошли до старой вырубки, где теперь грудилась молодая поросль, и замялись, не желая нырять в эту набухшую хвою, когда Цабулис опустился на пень и надломленно сказал:
– Больше не могу.
Точно команду услышав, Модрис тут же отыскал другой пень. Гринис снял с плеча винтовку и привалился к стволу сосны. Клуцис остался стоять. В темноте казалось, что его огромная фигура призрачно расплывается. Он сердито буркнул:
– Что еще за «не могу», идти надо!
– Куда теперь? – осведомился Гринис. – В ту чащу? Вымокнем там, как в речке. Направо? Или налево?
– А пес его знает куда!
– А раз не знаешь, значит, до утра переждем. Дождь тем временем перестанет. Округу надо узнать.
– И с голоду помирать!
– Перекурим.
Все сбились теснее и, прикрывая огонек, закурили. Надо быть осторожным, возможно, что они приблизились к какой-нибудь части, вставшей в лесу. И совсем не сказано, что через десяток метров в ту или другую сторону лес не обрывается. А на опушке могут быть дома. В такой темноте легко наступить на мозоль немецкому часовому.
Клуцис сплюнул:
– Тьфу! На пустое брюхо и дым противный.
Гринис не ответил. А это означало, что, по его разумению, еще не настало время выдавать очередной голодный паек. Цабулис отказался от предложения сделать затяжку.
– С сердцем худо.
Гринис попытался найти у него пульс. Он еле прощупывался, порой казалось, что совсем пропадает. Что бы это с Цабулисом? Говорят, что скрипучая осина долго стоит. Скрипел Цабулис, скрипел, а вот и сломился. За прошлый переход. Интересно, как медицина объясняет такой душевный и физический надлом, когда трудно установить определенную причину? Сердечная слабость или какой-нибудь скрытый недуг? Гринис, как и Клуцис, средней школы не кончил, зато много читал и посещал Народный университет. Кое-что знал о философии и искусстве, о строении человека, о чудесных возможностях йоги и о том, что многие процессы в организме еще темное дело для медицины. Поди знай, помог ли бы врач Цабулису, как и птице, у которой крыло не сломано, а желания лететь нет. Тут нужен иной вид помощи, но единственное, что Гринис мог сделать, – это дать лишний кусок хлеба или сказать теплое слово.
– Слушай, Янис, – впервые назвал он Цабулиса по имени. – А может, вместо табаку хлебца ломоть?
– Нет, неохота, – вздохнул Цабулис и чуть слышно добавил: – Молочка бы холодного… хоть кружечку.
Гринис понял, что ему нужно хоть что-нибудь из прежней жизни, что-нибудь такое, что исходило от его усадьбы, от жены, от детей, от того, что связано с конским ржанием, запахом хлева и теплом домашнего очага. Даже у него самого, хотя он всегда был довольно одинок и на родине его не ждала ни одна женщина, это все равно вызывало волнение в душе. А может быть, он держался с товарищами слишком отчужденно… ведь у него довольно неприятный характер, только бы уколоть кого. Нередко приходилось это слышать. Вот он видит дурные стороны своих товарищей. А каким сам выглядит в их глазах? Наверное, несправедливым и черствым. Да, себя знать легко, вот судить трудно, и наоборот – трудно узнать и легко судить других, что-то в этом роде сказал Рейнис Каудзит, этот философ в мужицкой одежде…
Размышления его прервало ворчание Клуциса:
– Видали! Чего захотел! Может, тебе заодно и соску подать, а может, на закорках понести? – Просто он разозлился на Гриниса из-за того, что тот «своему дружку» и хлеба готов дать и все прочее, а на других плюет – пусть лапу сосут.
Цабулис дышал тяжело, точно вздымающийся и опадающий от ветра бор.
– Я уж… не ходок больше. Так сердце жмет, так жмет… видать, судьба здесь остаться.
Гринис, щупавший в это время лоб Цабулиса, почувствовал, как отсырело его лицо. Плохо. И лоб весь в липком лихорадочном поту. Что бы это значило: руки ледяные, пульса почти нет, лоб горячий и упадок духа? Врач, может быть, и разобрался бы, а вот он не может.
В темноте ничего нельзя было различить, но будь и яркий дневной свет, Клуцис продолжал бы свое – душа его была слепа:
– Коль тебе так распрекрасно, устраивайся здесь на вечное житье. Я утречком дальше двину.
– Один? – угрюмо спросил Гринис.
– На руках никого не понесу.
– У нас не только хлеб и табак общие, но и судьба. Все.
– Хе. Русские еще далеко, а ты уж коммуну ладишь. Чего же тогда ему одному хлеб суешь? А мы что, «товарищи» похуже сортом?
– Все мы одинаковые, – холодно отрезал Гринис. – И потому каждому надо давать то, что ему сейчас нужнее всего. У кого силы кончаются, тому надо хлеба дать, а кто сволочь – тому по морде.
Клуцис унялся, продолжая бурчать под нос, что последнее больше полагается тому, кто очень к чужой морде тянется. Опять он уступил силе Гриниса, но внутри истекал желчью. Староста нашелся! Сидит на хлебе, будто только он ему хозяин! А втихомолку небось давится им. И хоть протестовал внутренний голос, что неправда это, что Гринис человек справедливый и о себе заботится меньше всего, но злость приглушила его. Доведись только поймать его на этом деле, уж тогда-то он ему врежет!
А Гринис еще добавил:
– И нечего на коммунистов собак вешать, коли идем к ним. Если тебе коричневый цвет милей красного, то вовремя заворачивай назад и по той же дороге дуй отсюда.
– Я не к коммунистам иду, а в Ригу, – буркнул Клуцис. – И не собираюсь у них разрешения просить. Будто уж ты от них что хорошего ждешь?
– Мы же народ рабочий, – коротко ответил Гринис.
– Вот-вот. Коммуну не рабочие придумали, а бумагомараки. Будто при Ульманисе ломовики не жили? И еще как! Это конторские всякие сморчки нос воротили – ломовик, грязная работа. Да ты меня хоть золотарем зови, только плати десять латов в день! Им, телигентишкам этим, потому и на свете все неправильно, что в заднице легковаты! Ну так привяжи к ней кирпич, а не мути про кысплутацию, – в иностранных словах Клуцис был не силен. – Одни прохиндеи и подняли шум, когда русские пришли. Мне вот тоже, – зло хохотнул он, – одна такая кабыздошка затеяла лекцию читать. Да почему я газеты не читаю, да чего я в политкружок не хожу, да чего образование не продолжаю? А когда мне водку пить? Она голос повышает: да понимаю ли я смысл жизни, да зачем и почему я на свете живу? А я говорю, знаю, знаю – потому что папаня мой тогда пьяный был. Так и захлопнулась.
– Что ж, – зло усмехнулся Гринис, – хоть один раз верно про себя сказал. А теперь прикрыли рты до света, пока не разузнаем, что вокруг. Не то накличем беду.
– Хорошо, что ветер поднимается. Прояснится – и увидим, где солнце встает, – неожиданно вставил Модрис.
Потом все замолкли и настроились на долгое ожидание. Осторожности ради костер развести не осмелились. Сырость все глубже впитывалась в одежду. Всех знобило, но идти же все равно нельзя. Фронт приблизился, к тому же потерян последний ориентир. Ветер время от времени усиливался, и тогда бор глухо гудел. Так же тяжело гудел Цабулис – только по этому звуку и можно было понять, что в нем еще держится жизнь. Ночь была бескрайняя, как бездна вечности…
Долгожданное утро явилось в виде серой дымки. Оно вливалось между стволами сосен, ложилось на промокшие от дождя плечи и липло к коже. Всех колотил озноб, только Цабулис лежал как замороженный. Гринис нагнулся и внимательно вгляделся в его лицо. Последний раз они брились позавчера – из экономии, берегли мыло, и только у Клуциса в ранце еще хранилось несколько использованных лезвий. У Цабулиса борода росла быстро, и выглядел он сейчас щетинистым и серым, как это утро. Все лицо в морщинах. А ведь еще к четвертому десятку не подступил. Глазные яблоки желто-красные. С минуту твердый взгляд Гриниса тревожил мертвенный покой поблекших зрачков. Цабулис попытался поднять голову, но тут же беспомощно припал к стволу.
Модрис придвинулся ближе и робко смотрел то на Цабулиса, то на Гриниса.
– Он что, заболел? Ну и что теперь?
Гринис перевел взгляд на парня. В глазах того округлился страх, подбородок в длинном, редком пуху. Есть ли еще в Модрисе резервы мужественности, или все уже истрепалось и измызгалось, как казенный мундир? Гринису понравилось, что тот все еще заботится о своих пышных волосах. Стало быть, не хочет совсем опускаться.
– Первым делом пойдем на разведку. Узнаем, что тут за место, а там видно будет.
– Это можно, – сказал Клуцис. В голосе его было: сейчас-то я с тобой согласен, а свое всегда при мне.
– Вы меня не кинете? – тихо произнес Цабулис. Взгляд Гриниса заставил его поежиться.
– Как ты можешь такое говорить!
За полчаса главное было установлено. Бор уходит довольно далеко, его пересекает узкая речонка и извилистая дорога, через несколько километров начинается низина и смешанный лес. Невозможно определить, куда же они угодили. Гринис попытался установить стороны света по природным данным, но тогда выходило, что гул фронта слышится на юге… вот и пойми. Какая-то уверенность все же есть – вот только было бы чем набить урчащие животы.
Когда все собрались вместе, Гринис как-то странно спросил Клуциса:
– Ну, что теперь?
Тот озадаченно заерзал. А ведь верно, прав-то оказался Гринис, больше всех ломавший голову, пока они мололи всякую плешь про свое прошлое житье. Клуцис больше привык зло фыркать, а не думать. Разумеется, признаться в этом он не мог, но чувствовал себя так, будто его взяли за горло.
– Э-э… я… Да что тут будешь делать, когда совсем жрать нечего.
– Как это понять? – не отступался Гринис. – Вообще ничего делать не будем?
– Разведем костер! – быстро предложил Модрис.
– Да, да, – обалдело подхватил Клуцис.
Гринис согласно кивнул:
– Хорошо, просушимся, сварим горячего, побреемся и обсудим дальнейшее.
Работа отогнала дурное настроение, даже притупила чувство голода. Скоро все чувствовали себя довольно уютно, почти безмятежно. Гринис, правда, то и дело предостерегал не доверяться кажущейся надежности укрытия.
– Лес небольшой, и нас легко заметить. Так что будем готовы ко всему.
– Да кому тут искать, – возразил Клуцис, но автомат пристроил поближе.
Одежда начала просыхать, вода вскипела, можно было побриться и погреть нутро. Гринис извлек оставшуюся краюху, взвесил ее, покрутил и сказал:
– А может быть, только по маленькому кусочку?
– Да уж и сейчас еле ноги тащим! – воскликнул Клуцис.
Гринис внимательно посмотрел на него:
– Тяжело быть вечно голодным. Но если голод и вовсе глотку перехватит, тогда и шагать не сможем.
– Съедим столько же, сколько вчера, – возразил и Модрис.
– С тем, что у нас есть, все равно до Риги не дотянем. Рано или поздно придется заходить в какую-то усадьбу. Лучше это сделать сегодня вечером, чем тянуть еще день-два и вовсе из сил выбиться, – на сей раз Клуцис постарался обойтись без резкостей.
Так и решили, что сегодня ночью пойдут на «провиантские заготовки». Может быть, это действительно лучше, чем переть наугад и терпеть голод. В конце концов, риск есть во всем. Гринис хоть и считал, что в забитой немцами округе они вместо хлеба скорее найдут смерть, но все же уступил. Может быть, потому, что ум его занимали сказанные Клуцисом слова: «дотянуть до Риги». Почему именно до Риги? Ну да, это Модрису и Клуцису. Цабулис хотел пробираться дальше, в Видземе, а он, Гринис? Кто его там, в Риге, ждет, и вообще кто его ждет где бы то ни было? Уже два с половиной года прошло с той поры, как он «смазал по личности» немецкого офицера и сначала валялся по тюрьмам, а потом по чистой случайности, да еще потому, что хороший металлист, вместо концлагеря попал на оружейный завод. Может быть, надо было найти таких друзей, товарищей, которые не бегут от гитлеровских солдат, а сами ищут их, чтобы разговаривать языком оружия? Но весной 1942 года и на Даугаве, и на Гауе, и на Венте царил железный оккупационный порядок. А что сегодня? Двинуться прямо туда, где гудит фронт? А сможет ли он его пройти? К тому же сегодня канонада как будто заглохла. Может быть, лихорадочное движение войск означает не отступление, а подтягивание сил, контрнаступление и удаление фронта. Вполне возможно, что, блуждая наугад, они сами отдаляются от фронта. И бросить беспомощного Цабулиса? Да, нелегко на что-то решиться в таких условиях: голодный, плохо вооружен, потерял верное направление и связь с окружающим миром. Верный путь? Все пути ведут к опасности, но ведь настоящие люди всегда идут только вперед.
Ледяные пальцы Цабулиса прикоснулись к его руке:
– У меня руки дрожат, тяжело бриться. Не поможешь?
Такая мольба в глазах, что и не откажешь. Гринис кивнул:
– Выскоблю получше, чем в любой цирюльне.
Первым делом он разделил хлеб. Умяли его, запивая брусничным наваром, и пошли дымить, так что туча повисла. После выпитого кипятку, побритый Гринисом, Цабулис уже не выглядел таким изможденным. Начал заговаривать и вскоре согласился с требованием Клуциса – через два-три часа пойти дальше.
– На опушке присмотрим какую-нибудь усадьбу, и будь там даже немцы, я один в темноте слазаю и все обделаю, – похвалился Клуцис. – А с полным брюхом мы до рассвета уже далеко уйдем, туда, где понадежнее.
Гринис согласился, что примерно в этом роде что-то надо сделать, только на Клуцисову храбрость он полагался меньше всего. Язык-то у него долгий, да дела короткие. В стычке в Польше не бог весть какое геройство было двинуть по голове того, кто руки поднял. И сокровенные свои мысли Клуцис выразил уже в следующей фразе:








