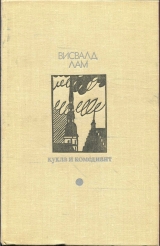
Текст книги "Кукла и комедиант (сборник)"
Автор книги: Висвалд Лам
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 24 страниц)
Одну лишь каплю даруй, источник
повесть

Человеку, за долгие годы привыкшему слышать слово «долговязый», странно вспоминать себя малышом, который был ниже своих сверстников.
Не поручусь, что все было именно так, а не иначе; может быть, я иной раз совру невольно, а может быть, умышленно давая волю воображению, скажу что-нибудь и правдивое. Знаю, что Гауя там текла точно так же, как и ныне. Были поперек Гауи заколы для ловли миноги и лосося, поэтому обжарочную и селение вокруг нее именовали Закольем. Были люди, многие из них уже умерли, другие еще живут – там же или где-то в иных местах. Были дома, дороги, мосты, теперь их настроено куда больше, и во все ускоряющемся темпе строят еще и еще. Было…
Воспоминание уводит меня к парку вокруг имения: там пасутся гуси, и семилетняя девочка с шестилетним мальчиком надзирают за этим крылатым стадом – гусь взмывает в воздух и исчезает. Сколько волнения и слез! Что еще? Колючая изгородь: кучка простолюдинов с любопытством разглядывает скопление лимузинов. Генерал торжественно выдает замуж свою дочь – настоящий генерал в полной форме, с орденской лентой через плечо, с аксельбантами, витыми золотыми погонами, с оправленным в золото козырьком фуражки. К тому же генерал этот военный министр. На дворе имения пестрят розы, яркие наряды дам, шапочки корпорантов…
Алмазная гора вечности – у подножия ее струится источник мудрости; мне бы хоть каплю, одну-единственную, волшебной влаги этого источника.
«Ты увидишь все, узнаешь все, ты поймешь прошедшее, настоящее, будущее!»
Значит, стать подобным великим бессмертным умам? Я человек, я не хочу дремать под сенью вечности и время от времени освежаться напитком богов, я хочу жить, испытывая неутолимую жажду стремиться, думать, осознавать и преодолевать. Одну каплю из источника, одну-единственную!
Я сную под небом, по которому в белой пуховой ладье колышется солнце и ниспосылает теплый привет; сную среди развалин замка, я испачкал все лицо, ободрал коленки, поранил пятку и нашел необычный черепок – а вдруг драгоценный? Труба сгоревшего здания упрямо вонзается в небо, облако цепляется за нее и отбрасывает зловещую тень на полузаваленный вход в погреба под замком. Там держали и мучили людей, утверждает моя мать. Я испуганно улепетываю оттуда…
Прошли годы, я далеко от берегов Гауи. Перед тем как заснуть, думаю о намытой весенним разливом песчаной косе, о зарослях ольхи, о кувшинках, о розовой колюшке, аромате черемухи – и цветов ее и ягод, от которых вяжет рот. Хотя бы во сне вернуться туда! И я возвращаюсь: я играю в развалинах замка, вдруг открывается засыпанный вход, застенок, черная, жадная пасть, какая-то сила увлекает меня туда, там ждет что-то страшное – неведомое, непостижимое, страх, который будет леденить до самой смерти… Я сопротивляюсь, кричу, кричу… Просыпаюсь, товарищи спрашивают: «Что с тобой?» – а я какой-то одурелый от стыда, боли, страха…
Мать сказала: «Никакой этот черепок не драгоценный, обломок изразца. Стены им выкладывали».
Дочери «дышлера» – столяра при имении – в барские хоромы вход был заказан, мать говорила про стены коридора или кухни. Но и эти помещения слепили глаза обитателей батрацкой усадьбы Тамажа. Стройная, высокомерная, шествовала супруга владельца замка барона фон Пандера; все сгибались перед нею, те, кто поближе, целовали край платья, какой-то простоватый мужик приложился губами к ее пальцам – баронесса резко повернулась и протянула руку своей камеристке: «Вымой, Мария! Этот мужик слюнавить мой рука!»
Замок лежал в развалинах. Имение уже не принадлежало Гёгингеру – остзейскому немцу, без матрикула и без «фона» – он купил его у перепуганного событиями 1905 года фон Пандера; аграрная реформа оставила небольшую усадьбу семье прежнего владельца. Гёгингеры – в особенности молодое поколение – отлично говорили по-латышски, но все равно не жаловали этот народ с трудолюбивыми крестьянами, смутьянистыми рабочими и смелыми солдатами…
Замок превратился в развалины. Имение разделили бывшие работники, бывшие владельцы назвали это грабежом. В центре его, кроме развалин, оказалось двухэтажное здание, где раньше жили работники при имении, – Белый дом, парк, фруктовый сад, амбары и конюшенный дом. В Белом доме утвердился заместитель инспектора артиллерии – полковник, вскорости ставший генералом, а потом и военным министром. Странно было бы, если бы простой рабочий человек получил такие же права и владения, как полковники и генералы.
Министр натянул изгородь из колючей проволоки, все устраивал и перестраивал Белый дом, разбил клумбы с розами, усыпал гравием дорожки, отпраздновал свадьбу дочери. Уцепившись за руку супруга, вся в белом, вылезла она из лимузина; ее худобу, непривлекательность, чахоточную бледность прикрывали аршины белого атласа, приданое, положение отца, корпорантские цвета, зависть бедных. Естественное явление: вместо изгнанной аристократии вылупилась новая, из своей же среды – хоть и без сословной узости, зато с широтой размаха по части бражничества. И пришло время, когда царникавцы, говоря о Белом доме, называли его имение, хотя правительство Ульманиса начало изгонять это слово с карт, из книг и разговорной речи. Вместе с грибком, который без устали разъедал стены нового имения, так что все время надо было ремонтировать и латать, забота о декоративности истощала генеральский карман. Работников он уже не держал, землю распродал, большой каменный амбар сделался собственностью благотворительного общества, оно соорудило там роскошное помещение с залом и сценой. Конюшенный дом и часть фруктового сада перешли в руки лавочницы-еврейки. Точно в прорву уходили генеральская пенсия, министерское жалованье, ежемесячные дивиденды из рыболовецкого общества.
До положения герцога латвийскому генералу подняться не удалось, зато было имение, балюстрада, гравиевые дорожки, аксельбанты, лимузины и высокопоставленные гости – была изгородь, которая отделяла от низших…
Гауя. Царникава. Люди.
Большая комната с низким, закопченным потолком. Я забился в угол, сейчас для детей места у стола нет, там восседают труженики мужчины. Керосиновая лампа стоит на глиняном горшке, красноватый огонек отражается на длинных горлышках пивных бутылок, на водочных поллитровках; хлеб, масло, минога. Пиво пенится, вылезает из стаканов, заливает пробки, хлебные крошки, миножьи головы. Окошко о шести стеклах полощет мелкий дождик. Мужчины затягивают:
Возьму я в руки струны,
Настрою и спою —
И хоть однажды в жизни
Всю душу изолью.
Дядя моей матери, дядя Рейнгольд: высокий, шея длинная, маленькая головка с пышными усами, в глазах влага и что-то болезненное. Паромщик Паюп – маленький, худой. Второй дядя матери, Давис, – такой же музыкальный, как все Киршфельды. Лица, лица: со следами суровой жизни, с человеческой тягой к красоте, добру, возвышенному, ко всему, чему не дает сбыться будничная действительность. Старая, грустная песня, точно спугнутая птица бьется под закопченным потолком:
Ах, жизнь с ее биеньем,
безумством, суетой.
А там уже забвенье
струится надо мной.
Птица падает с потолка – все напрасно, крылья сломаны, даже крупицу копоти не смогла сбить со стен темницы. Такая тишина, что слышен только свист осеннего ветра. Хлопает пивная пробка. Дождь хлещет все сильнее, на дворе кромешная тьма, единственный свет в мире, кажется, пробивается только здесь. Рейнгольд вытирает пену с пышных усов и затягивает новую песню: «Пей, пей, братец, жизни насмешку заглушим, скроются беды и горести, сразу станет светло».
Вся комната поет, словно вспыхнул свет, может быть и призрачный, рождается какое-то чувство широты. Простой стеклянный стакан становится источником радости, точно солнечный луч пробился сквозь монотонный, угрюмый ход дней. Замызганный стол этот всего лишь остановка в пути к яме на прицерковном холме. Один за другим они покидают свою трудовую стезю, навсегда выпускают кельню, пастуший рожок, рубанок, весла; натруженные пальцы теряют способность ловко двигаться по струнам скрипки, разве что иногда потренькивают на мандолине или цитре, пока старость окончательно не приглушит такой тонкий когда-то слух, а потому: «Пей, пей, братец…»
Мужчины выпрямляются, как положено мужчинам, говорят, как пристало мужчинам, голоса звучат вперебой. Каждому надо сказать свое слово о всем сущем и не сущем в этом мире, о большой политике, каждый критикует депутата и депутатов, хвалит и поносит министра и министров, оценивает генерала, генеральшу и вообще всех генералов огулом, выкладывает все как есть про президентов и царей. Даже сам всевышний не чувствует себя надежно. Каждый из них – глыба, каждый на своем месте, эвон что наворочали в молодости, еще сейчас можем! Растроганно, со слезами вспоминают первую любовь, говорят о войне, которую им пришлось протрубить, о повседневном труде; некогда были они парни что надо, и теперь-то еще голыми руками их не возьмешь, еще и теперь земля может гордиться, что носит таких мужиков. Только о будущем ни один не заикается: что там строить какие-то большие планы, и мечтать нечего о том, чтобы выбиться из этой колеи; будущее – это тяжелый труд, все более грузные шаги, клонящаяся голова, прицерковный холм…
Я смотрю на мужчин, и непонятная жалость перехватывает мне горло. Точно вспышка молнии озаряет комнату и вырывает из тьмы нечто невиданное, нечто незабываемое. Я ничего не понимаю – что там может понять ребячий умишко – и все же что-то вижу, что-то ощущаю. Прозябание и отчаянное стремление к чему-то большому, ночь и забвение. Зловещая темнота за окошком, но я вырвусь, убегу в безбрежный мир. Светлое небо распахивает там бесконечность, морской простор вздымает серо-синие волны, высятся скалы – бурые, в белых снежных шапках, украшенные вечнозелеными растениями. Точно играя в какую-то игру, я шепчу: Пикардия, Лангедок, Килиманджаро, Занзибар, Мозамбик, Аконкагуа, Попокатепетль… Чудесная игра, никто помешать не может. А еще Таити, Фиджи, Самоа, Гонолулу… Передо мной открываются необычайные дали; и невиданные растения – кипарисы, магнолии, пинии, секвойи, эвкалипты; и невиданные звери – носороги, гиппопотамы, кенгуру, бизоны, жирафы; и гигантские реки – Ла-Плата, Миссисипи-Миссури, Саксачеван, Хуанхэ, Янцзы, Енисей. Я поселился у подножия Попокатепетля, сложил из кедровых бревен хижину и вновь недоволен: и здесь солнце всходило утром и заходило вечером, и здесь был закатным человеческий век. Теперь вот Царникава стала дальней далью. И душу во мне щемят воспоминания об ивах на песчаной косе, и безразличным стал кедровый лес и ослепительный полет колибри. Я думаю о кувшинках, о церковном благовесте ясным летним утром и о неповторимом запахе обжарочной, о стружках вокруг дедушкиного верстака и пестром коте Жулике, который, мурлыча, спал в стружках и с шипением уносился, когда дед очень уж его пинал. В крови просыпается беспокойство, зовущее домой. Где же дом для бродяги? Где центр мира у человека?
Мне было восемь или девять лет, я даже спрашивать не умел, не то что отвечать, да и не у кого было Спросить. Я начал что-то соображать, когда довелось читать про древние Афины и Римскую империю. Греки высекали из мрамора изумительные творения, измерили на чаше весов своего пытливого ума почти весь мир, они уже вгрызались в суть вещей, а римский гражданин, где бы ни странствовал, везде встречал римский мир и римское рабство – узость и угнетение не оставляли его. Величие жизни, широта, масштабность не географические или государственные, а человеческие понятия. Повсюду мир бесконечен, в любом месте он возвышает человека – если тот сам свободен, обладает зрением, силой духа, живет неудержимой мечтой. Источники жизни бурлят глубоко, они вечны, а человек не вечен.
Ты испытываешь только желание ухватить что-то от мнимого величия и множества?
Мне бы только одну каплю из источника вечности.
И человек, войдя из темноты в закопченную комнату, освещенную лишь красным глазом керосиновой лампы, с трепетом цепляется за каждую минуту, прежде чем снова исчезнуть в темноте.
Вместо комнаты может быть заложенное-перезаложенное имение с роскошным вестибюлем, накрытыми столами и ослепительными люстрами – навечно остаться невозможно ни здесь, ни там.
Я встретился с Книгой. Она сама вышла из чердачной темноты Конюшенного дома и коварно предложила:
– Загляни в меня!
Я тогда еще не ходил в школу, ничего не знал о грамматике, о женском роде, жизнь не научила меня тому, какой вес имеет женский род, а книга женского рода – я позволил увлечь себя этому коварству, хотя книга была облачена в потрепанный переплет и изъяснялась по сложной старой орфографии. Я пристроился на балке там, где проломанная крыша пропускала сноп света, и погиб – погиб на всю жизнь. В промежутках я ем, пью, сплю, работаю слесарем, землекопом, в районном мостодорожном строительном управлении – начальником (а если без хвастовства – то всего лишь исполняющим обязанности), каменщиком четвертого разряда, техником, стекольщиком и бетонщиком, шофером и лаборантом в вузе, делаю еще многое другое, воюю, учусь, пашу землю, пилю в лесу деревья, плаваю в океане, летаю в самолете, совершаю кое-какие прегрешения, но всегда остаюсь верным книге. Свою судьбу я понял тогда же, на сумрачном чердаке Конюшенного дома, – печатное слово уводило меня от приключения к приключению, давало представление о том, как широк мир, как причудлива и сложна жизнь.
Потревожила меня мать – что я там застрял? Она полистала книжку и сказала, что Андрей Пумпур – знаменитый поэт. Тут и я взглянул на обложку – «От Даугавы до Дуная». Книга находилась в тесной связи с автором и названием, это мне было ясно. Ясно было и то, что есть такой народ сербы (про турок и русских я знал уже раньше), есть такая река Дунай…
Дунай – название звучало гулко, широко. Да, у меня же где-то есть «Географический атлас для начальной школы». Я полез под кровать, вытащил ящик со своим имуществом и «ушел» в карту. Моря я сразу же увидел – синие поля, которые бороздит ветер, режут кили кораблей; когда собираешь ягоды в лесу у дюн, то слышны пугающие завывания даугавгривских ревущих бакенов; тонкие голубые жилки питают большую синеву, это понятно. Которая же из этих жилок Ду-най?
Я пропутешествовал по страницам атласа «Латвия и соседние государства» – но Дунай так и не нашел, а путешествовать понравилось. Точно ведя самолет, я плыл над обширными полями, перемахивал горные хребты, видел лес высоких труб – совсем как на рекламе «Глез унд Флентье», – залетел в красивый город Гельсингфорс, который я уже видел на почтовой открытке; откуда-то взялась огнедышащая гора с ярким пламенем на фоне такого же яркого неба – в этой стране жили людоеды и обезьяны. Дуная не нашел. Взгляд мой наткнулся на название в нижнем углу: По-до-лия. Как это звучит! Подолия, Подолия… Я снова задвинул свое имущество под кровать, встал, вооружился винтовкой, сел в автомашину и поехал в Подолию: красивая страна – даже смородина растет по южную сторону густого ивняка. Я ел ягоды и убил несколько львов.
Книгу я уже стал искать. На чердаке нашлись еще. Одна называлась «Черные алмазы», у другой была оторвана обложка и самое начало – эта была про войну, а стало быть, можно обойтись и без начала. Воевали русские с французами, Наполеон занял Москву, но в конце концов вынужден был бежать. Русский офицер Рославлев отыскал свою неверную невесту в Данциге; я отыскал Данциг в атласе и был горд этим, только не перед кем было гордиться.

Я сказал Жанису:
– Я читал про французского императора Наполеона.
Жанис был работник при имении – ветреный парень лет шестнадцати. У него был пробочный пугач, поэтому он высоко стоял в моих глазах. Он ответил:
– А у меня есть книжка про французского короля Людовика, я тебе ее дам.
Жанис был скупой и нескупой: он угощал меня яблоками, но не давал хоть на минутку подержать пугач – еще застрелюсь, а что он тогда матери скажет. Книжку он все же принес.
«Квентин Дорвард» Вальтера Скотта. Ух, какие там были чудеса! Почему я не встречал ни одного закованного в железо рыцаря? Видно, они живут и сражаются только в Бургундии и во Фландрии. Только что я видел запряженного в водовозную бочку мерина Ансиса – в мире книг лошадей облачали в доспехи, седлали, приучали к сражениям. А мне что-то больше нравятся автомашины…
Я завел машину – и снова поехал в Подолию, напевая часто слышанную от матери песню: «Уехал латыш далеко на чужбину». С винтовкой за плечами я постучал в железные ворота. Они открылись, оттуда вышел Подольский принц.
– Что угодно чужеземному рыцарю?
– Ваше величество, – сказал я учтиво, как учил Квентин Дорвард, – я явился, чтобы посетить ваше царство. Я бы прилетел самолетом, но не знаю, найдется ли подходящее место для посадки.
– Ага! – высказал догадку принц. – Вы хотите мне служить?
– Я свободный человек и никому не служу.
Такой ответ чужеземному принцу не понравился, и он нахмурился.
– Тогда что же вам нужно?
– Я хочу повидать прекрасную принцессу Изабеллу…
Не успел я произнести имя принцессы, как принц страшно рассердился.
– Как ты, бродяга, осмелился! Сюда, слуги, отведите его в застенок, уложите на раскаленную решетку, пусть извивается, как минога!
Подбежали слуги: черные, как черти, хвостатые, рогатые. Но я не стоял раскрыв рот, я выстрелил, и эти подручные повалились вокруг меня. Принц ухитрился куда-то спрятаться; я знал, что если у холопов душа безжалостная, то у знати трусливая. Горделивой поступью победителя я шествовал по широким залам дворца. И вот я возликовал: принцесса, точно водяная лилия, расцвела среди зеленых листьев. Белая-белая, с золотистой улыбкой в глазах. Но как до нее добраться, если в этом месте этакая топь? Я не мог отступить, раз уж одолел целую рать, геройски подвернул свои штанцы и забрел в тину. Вскорости я был уже по пояс в воде, а от лилии меня отделял целый метр. Я подтянул ее к себе ружьем, уже хотел было сорвать, но передумал. Я знал, как быстро вянут сорванные цветы, пусть она колышется на воде и цветет для меня одного. С чувством гордости и с мокрыми штанами я пошел к берегу, но вдруг отчаянно завопил – в ногу мне воткнулось что-то острое. Одним прыжком я вымахнул на берег – в пятке зияла глубокая рана, из которой текла кровь. Ага, понял я, это трусливый принц нанес подлый удар мечом. От такого всего можно ожидать. В другой раз я приеду сюда на танке и разнесу весь этот дворец из пушки.
Я поковылял домой – перевязать рану и выслушать от матери нотацию…
Суровый дед-ноябрь дохнул ночью на берега Гауи – будто дверь ледника распахнулась. А я и представлял, что там, на севере, есть огромные-преогромные завалы льда, – спустя несколько лет прочитав книгу о Северном полюсе и Ледовитом океане, я был в восторге, что сам «сообразил», как оно на самом деле. Ну и холод! Белая трава свалялась под беспощадным холодным солнцем, голые деревья съежились, песок смерзся в корочку и на берегу протоки подернулся льдистой пленкой. Никакого желания выходить на улицу, а надо. Под присмотром матери одеваемся потеплее – насколько нужда позволяет, обуваемся в прорезиненные башмачки и отправляемся на картофельное поле.
Работник Казимир ходит с мерином Ансисом, запряженным в пружинную борону – то и дело из-под нее выкатывается картофелина и тут же переселяется в наши корзины. Зимой пригодится. Старшая сестра Мирдза привезла меру свежей салаки для засола; сама она уже лежит в Детской больнице в Риге. У нас есть несколько борозд картошки, небольшой огородик и вот это право проходить потом еще раз по всему полю. Свой урожай был небогатый, мы больше рассчитываем на собранное за эти дни. Пригодится, пригодится, пригодится зимой… Я твердил это как молитву. Препаршивое занятие – пальцы на ногах мерзнут, а ты все кружишь и кружишь по истоптанному полю. Казимиру хорошо, у него кожаные сапоги, а мои прорезиненные ботиночки так и липнут к бумажным чулкам – липнут и обжигают. Картофелина – одна, другая, третья. Зимой с салакой… Как-то там Мирдзе в больнице? Наверное, не так холодно, как мне здесь, все белое, чистое, врачи, сестры, вежливые сиделки, палаты белые, еда вкусная. Меня чуть не зависть берет. Будь бы еще хоть сапоги, как у Казимира! Казимир мне друг. Прошлой осенью, когда он колол большие чурки, я крутился, помогал находить клин, давал умные советы, надувал щеки, когда он бил – «бах, бах». Мать выбранила меня: что я путаюсь у человека под ногами, но Казимир заступился – это я ему работать помогаю. А как же другу не помочь!
Я следую за другом, ему некогда мною заниматься, разве что порой бросит ласковый взгляд через плечо. Казимиру тепло. Ансису тоже. Казимир из далекой Латгалии, пришел к местным «господам» заработать, потому что сам стал новохозяином; к сожалению, надел он получил без белых барских строений и яблоневого сада, без генеральской пенсии, без паев в рыболовецком обществе, но и без расточительной супруги. Да, нет на свете равноправия – у меня мерзнут ноги, у Ансиса нет, у Казимира нет. У генерала расточительная супруга – от этого и Казимиру худо: никогда в срок не получает заработанное. А как же человеку разжиться инвентарем и начать хозяйствовать самому?
Ужасно мерзнут ноги.
Казимир вскрикивает, останавливает Ансиса, кнутовищем ковыряет в земле, бьет, снова роется. Что это там?
– Крот! – отвечает Казимир.
Это еще что за зверь? Впервые слышу, ни разу не видел.
Казимир бьет кнутовищем. Забыв о мерзнущих ногах, я подлетаю чуть ли не под кнут. Айна держится в сторонке. В земле что-то блестяще-черное, юркое-юркое. Казимир бьет по нему, это черное покрывается кровью; охваченный страхом и отвращением, я отступаю. Когда любопытство вновь притягивает меня, Казимир уже обдирает крота. Хоть и противно, но не настолько, чтобы нельзя было смотреть. Чудесная шуба, только почему ее надо сдирать? Казимир объясняет, что он хочет сшить шубу себе. Ух ты, из такой маленькой?! А он наберет побольше, кроты, они вредные, их уничтожать надо.
Может быть, все может быть.
И опять Ансис тащит борону, опять выкатываются редкие картофелины, и у меня так зябнут ноги. Айна уговаривает потерпеть; но сколько же можно терпеть, хоть бы костер развести. Но не из чего, да и кто будет разводить. Казимир только погоняет Ансиса.
У меня кривятся губы. «Я пойду», – с какой-то угрозой говорю я Айне, которая на год старше меня и потому здесь, на поле, замещает мать. «Я на тебя пожалуюсь!» – говорит сестра, наверное думает, что я притворяюсь, что хочу бросить ее одну. Ну и жалуйся… Но все же не ухожу. Подошвы будто заледенели, совсем не чувствую их. Увидев мои слезы, Айна сжалилась и заторопилась домой.
Мать растерла мне ноги, натянула две пары носков, дала горячего чаю и уложила в постель. Я заснул и видел страшные сны. Казимир распилил на чурбаны и переколол на толстые поленья весь барский парк – всё до последнего дерева. И вот он принялся всю эту уйму дров и сучьев сжигать; я заблудился где-то в середине парка, никак не выбраться. Вокруг шипит пламя, мне жарко, ужасно жарко; я прыгаю со ствола на ствол, они горят и обжигают подошвы. Я кричу, бегу, перекатываюсь через угли и пламя… Очнувшись, жалуюсь матери.
– Это у тебя горячка, пройдет, – успокаивает она.
Горячка прошла, это правда. Но на пальцах ног и на подошвах вздулись черные пузыри, вроде чирьев; они набухали, лопались, нарывали, ужасно зудели, наконец покрывались струпьями, но появились новые в другом месте, и жизни мне от них не было.
И так весь ноябрь, декабрь, январь… Только в феврале, в Карлинин день, я впервые обулся в новенькие ботинки со шнуровкой и вышел во двор. Дорога вела в Заколье – мы с Айной спешили поздравить бабушку с именинами. Бабушка работает у обжарочных печей, сейчас, как говорят царникавцы, самая «рыбная пора», но нас принимают радушно, мы, главным образом, сидим дома, едим сладости и играем. Я чувствую себя отъевшимся зайчонком в занесенном мягким снегом лесу.
В ту зиму, мучаясь с отмороженными ногами, я начал читать газеты.
Во время немецкой оккупации один человек на набережной Даугавы вопил от радости: «Ура! Война кончилась! Радуйтесь, люди!»
Собрались все пешеходы, подлетели шуцманы и стали спрашивать, откуда такие сведения. Человек достал из-за пазухи груду газетных вырезок: «Прочитайте, прикиньте, сосчитайте! Общий довоенный тоннаж во всем мире был такой-то, мощность верфей такая-то, по сводкам немецкого главного командования каждый день утоплено столько-то… Вчера отправлен на дно последний корабль, даже десяток сверх того – и война кончилась. Германия победила!..»
Улыбался рассказчик анекдота, хохотали слушатели. Я не смеялся – и не смеялся потому, что уже давно, еще с детства, знал лживую природу газет. Если книга казалась воплощением мудрости, то газета – жуликоватой девчонкой, которая всегда готова заморочить тебе голову. Достаточно было почитать, что об одном и том же событии сообщали в «Яунакас зиняс» английское агентство Рейтер, французское Гавас, итальянское Стефани… Факт признавали (от Жаниса я узнал, что факт – это что-то вроде как кулаком в глаз), но факт этот гнули, мяли, крутили, растягивали и в результате выпекали совсем разные калачи. Вот и пойми, которым питаться. Мне было одиннадцать лет, когда «доктор гонорис кауза» Карлис Ульманис основательно сузил этот выбор. Изведал я и то время, когда газета пекла один-единственный каравай. И все же не могла ни мне, ни другим втолковать, что людей надо ненавидеть только потому, что они другой расы, или потому, что они думают иначе, чем издатели газет; не смогла втолковать, что для маленьких народов величайшее счастье впрячься в чужеземное иго, что предатели – благороднейшие представители народа; мы не верили, что миром должна править ненависть, а нам надлежит только тупо подчиниться, не верили, что жестокий тиран – символ свободы и что беззаконная расправа с человеком – это высочайший гуманизм.
Я учился читать газеты и учился не верить. Я думал – потом, когда вырасту, выдеру у этой подлянки настоящую правду. Тогда мне было шесть лет, я еще не знал, что и те, кому в десять раз больше, все равно не умнее в этом отношении.
Газеты нравились особенно потому, что рисовали картину мира. ТАСС рассказывал, что русские построили гигантский самолет – самый большой в мире – вот гляньте, какой он; американцам принадлежал величайший воздушный корабль (писали «дирижабль», а в народе еще со времен войны говорили «цеппелин») – совсем как гигантский огурец, под брюхом моторная гондола; французы строили величайший корабль «Нормандия»; японцы устроили величайшее кровопускание в Шанхае, а английский величайший дредноут «Худ» вытягивал самые толстые стволы. В каждом номере газеты сталкивались поезда, тонули корабли, падали и разбивались самолеты. С помощью газет и атласа Дебеса я познакомился с Латвией, Европой и всем миром; я узнал, что есть сказочная Америка с нью-йоркскими небоскребами, и еще более сказочный Китай, и страна восходящего солнца – Япония; что есть бескрайние океаны и пустыни, прерии, пампы, сельвы, льяносы, джунгли, саванны, тундра, тайга, гейзеры, бумеранги, слоны, верблюды, джонки, бамбуковые заросли, юрты, кокосы, эскимосы, кашалоты, ананасы… Голова от всего этого шла кругом. Мать ворчала, что я до тех пор буду сидеть, уткнувшись в книжку, пока глаза не испорчу и умом не тронусь. Спрятавшись на чердаке, я избавлялся от ее ворчания. Тут же я садился в аэростат и поднимался на такую высоту, где вечный холод, потом перебирался в другую корзину – на спине слона, заряжал ружье, стрелял в полосатых ревущих тигров; спустя минуту волны южных морей несли меня к цветущему коралловому острову, заманчиво восстающему из вод: рифы атолла вспарывают белые валы, лагуна зеркально гладкая, кувыркаются золотисто-красные рыбы. Кокосовые пальмы, финиковые… Арабы зовут финиковую пальму королевой пустыни… Верблюжьи вопли, шуршание гонимого самумом песка, где-то вдали фата-моргана, словно недостижимое, влекущее к себе, сказочное царство.
Я ежусь – ветер нещадно хлещет сквозь трухлявую гонтовую крышу Конюшенного дома, мелкий, сыпучий снег бьет в многочисленные щели. Зима – суровая, нещадная мачеха – пробирает до костей. Я сжимаюсь в комок – как промокший кутенок, приваливаюсь к плите. В плите шипят сырые дрова, они нисколько не греют. Мать подбрасывает несколько сухих поленец, надевает очки и шелестит лживыми страницами газеты. Керосиновая лампа мигает, сестра рассказывает, что шофер автобуса в лавке любезничал с обеими продавщицами – Мильдой и Малдой. Вот и мне достается газетный лист. «Яунакас зиняс» – пухлая пачка бумаги, так что один может читать, не мешая другому. И мне становится тепло от чтения, я только что обнаружил, что в газете печатают роман. Нет, вы оцените название – «Страшные тайны султанского дворца»! Преданный слуга приводит прекрасную рабыню в спальню, где ждет султан, сам слуга, трепеща, остается за дверью. Я тоже взволнован – такое предчувствие, что ужасный султан посадит несчастную на вертел, поджарит и съест полусырой или сделает что-нибудь еще более ужасное. К сожалению – «Продолжение следует». Жди теперь до завтрашнего вечера. Может быть, мама знает, что будет дальше, к кому же мне еще обратиться? В тот момент, когда мама переворачивает страницу, я спрашиваю:
– Мама, а что султан сделает с этой рабыней?
Мамины глаза делаются такими, как стекла ее очков.
– Что ты там еще вычитал?
– Вот, – я с детской непосредственностью тычу в роман.
Газету тут же вырывают из моих рук. Мать разгневана:
– Кто тебе разрешил?! Это не для детей!
Вот тебе раз! Материн гнев холоднее зимы. А что я плохого сделал, я ведь уже давно читаю газету.
На другой вечер я осторожно подбираюсь к продолжению. К сожалению, мать не забыла, лист с романом не дала. Забыла она только через неделю, и я вновь читаю роман, но «то» продолжение уже пропущено. Что сделал султан с прекрасной невольницей, я и сейчас могу только предполагать. Зато я узнал, что лишние вопросы до добра не доводят.
Я склонился над газетной страницей, которая вся занята королевской четой – изображениями Георга и Мэри; золоченая карета, средневековые костюмы, блеск, почести, слава. Посередине страницы лежит маленькая потрепанная книжка «Принц и нищий» Марка Твена. Как странно переселиться из грязи Двора отбросов, из мира лохмотьев, вечного голода в блистательный мир королевского дворца с его изобилием. Может ли человек, по ошибке попавший с нищей улицы во дворец и по недоразумению сочтенный принцем, просто так вот скинуть вонючие лохмотья, а с ними отбросить и воспоминания: холодная ночь, скудный кусок хлеба, истязающие душу побои, людское бездушие. И ведь те подонки, которые считают настоящего короля человеком не в своем уме, они-то самые несчастные – это тяжесть гнета ожесточила их. Но какая низость время от времени предстает в роскошных облачениях вельмож! Еще до того, как жизнь научила меня этому, я узнал от писателя, как тираны и их слуги не знают жалости к человеку.








