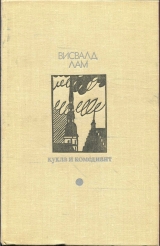
Текст книги "Кукла и комедиант (сборник)"
Автор книги: Висвалд Лам
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 24 страниц)
35
Небо было какое-то потускнелое. Паутина путалась по стерне, завывание молотилки напоминало похоронные причитания. Я лежал в канаве, курил и смотрел, как листья уже начинают желтеть. Придут осень и вой ветра, дожди, грязь. Пение молотилки захлебнулось, перешло в тяжелый стон; снова просто вой и снова глухое порыкивание. Куда бежать от этого тусклого солнца, потускнелого неба, причитаний, от самого себя? День за днем я работал на дороге – прокладывали трубы. Придис иногда заглядывал ко мне наверх, больше всего мы говорили об организации колхоза. Сергей Васильич побывал в волисполкоме и отчитал и Придиса и кое-кого еще за врастание в частное хозяйство. Большинство присоединилось к секретарю укома, и Придис подчинился.
– Один против течения не поплывешь, – признал он. – Сергей Васильич говорит, что с врагами надо бороться. А вдруг это меня сочтут врагом? Тут уж не до шуток, что-то готовится.
– Вряд ли, – возразил я, успокаивая больше самого себя. – Тогда готовились к войне, а теперь, когда Советская Армия стоит на Эльбе, когда весь мир устал, Германия вдрызг разбита…
– Надо и непослушных вдрызг разбить, – сердито бросил Придис. Он рассказал, как сверкали глаза у Сергей Васильича, когда тот говорил, разъяснял, призывал и грозил.
Я знаю, знаю, какой он. И меня в тот раз, когда я явился в уком, он обругал не как невинно пострадавшего, а как поделом выпоротого грешника.
– Ох, как тебе надо бы дать по затылку, ох как надо! Если бы тебе уже не всыпали, ей-богу, я бы не удержался. Такие неприятности и хлопоты нам всем доставить! Ты же знаешь, туда, где ты был, легко попасть, но легче из ада вырваться, чем оттуда. Почему ты не рассказал нам, коммунистам, про своего отца?
Остолбенев от такого приема, я только и смог пробурчать, что не считал это существенным и стеснялся об этом говорить.
Мои ответы Сергей Васильича просто разъярили.
– Ну вот! – закричал он. – Какая нежная мелкобуржуазная барышня! В бою, помню, ты был смелый парень, фашистам стыдливо спину не показывал. Какой только мусор у тебя в голове оставили эта гимназия и богатый отчимов дом! Барчук, барчук… Так вот, знай, что никаких секретов у тебя от нас не должно быть. И учись, друг, учись! Тогда увидишь, что в жизни творится. Беспощадная классовая борьба. В зубы тут никому не смотрят – кто не с нами, тот против нас…
Это была моя последняя встреча с Сергей Васильичем. Так мы и не могли понять друг друга, все не могли найти общей струны. Он был хороший солдат, убежденный, целеустремленный, хорошо знал все сказанное вождем. Все его слова. И они были ключом ко всем сегодняшним проблемам, к завоеванию будущего, ко всему. Я-то знал, что с этими словами он кидался под пули. Но неужели так всегда будет? Сергей Васильич сказал:
– Конечно, всегда!
Его карие глаза сверкали, лицо живое, жесты резкие, порой несдержанные. Было и будет. Он умел убеждать других, а может быть, и себя. Но истинная сущность его осталась для меня сокрытой. Между прочим, все, кто знал Сергей Васильича близко, считали его отзывчивым, простым, готовым прийти на помощь человеком. По-латышски он говорил уже здорово. Мне вдруг подумалось: а как у него с анкетой? На бумаге все можно, это я слыхал. А может, здесь был как раз тот случай, когда написанное на бумаге совпадало с истинной сущностью человека? Тогда это и был настоящий человек…
Как бы то ни было, потом он не раз вспоминался мне, часто довольно неожиданно и даже необъяснимо. Примерялся я, что ли, к нему? Или просто все еще пытался вникнуть в него?
Я успокоил Придиса, что, по-моему, совместное ведение хозяйства само по себе вовсе не плохое дело. В принципе трудно возразить против того, что на всех полях кончится гнусное сосуществование хозяина и батрака, землевладельца и безземельного.
– В принципе! – вскипел Придис. – В принципе ты как Сергей Васильич, только неизвестно, что из этого принципа вырастет. Я с детских лет много всяких принципов слыхивал: пастор с амвона, учитель с кафедры все то же долдонили, что писал один такой сладкопевец, Апсишу Ешка. Любите, любите, будьте как братья! Да только с любовью этой каждый больше к девкам норовил лезть, а братья друг другу глотку рвали. Красивые слова – это одно, а вот когда ты потом исходишь и мозоли пузырями, так станешь смотреть, что заработал.
– Все вы будете хозяевами, сообща станете решать, – сказал я, как Ояр.
Придис полагал, что это решение сообща довольно сомнительная штука, уже сейчас по любому пустяку тычут всякие предписания и умные наставления, да еще учат такие люди, которые про земледелие только из газет и знают что-то.
– И чем он дурее, тем у него рот шире, глотка громче, кулаком отважней машет. Как сядут они на должности, да как начнут командовать, так одно болото здесь останется.
– Болота осушают, – возразил я.
Придис разозлился, – если я ему друг, так нечего и зубоскалить.
Гнев он не умел долго держать, хороший парень, но надуться надулся. С Ояром я боролся в себе, тогда как Придис стоял снаружи, примерно там, где я тогда, когда мы оба явились в «Клигисы», слушали рассказы про колдовские шутки Приедкална, бродили по синефиолетовым вересковым холмам. Это время ушло, никто его не вернет, никогда нам туда не вернуться. Придис въелся, зубами и ногтями въелся в «хозяйское звание»; хозяин своей земли, он свои десять гектаров даже окрестить не успел, как Клигис или Налим, а они уже готовы были исчезнуть. За несколько лет произошли вековые изменения, и неведомо еще, куда они приведут, а он держался за прошлый век. Дорогой друг, Апситов Ешка и Матеров Юрис[12]12
Апсишу Екаб, Юрис Матер – латышские писатели XIX века, для которых характерна приверженность к патриархальному укладу и религиозному смирению.
[Закрыть] здорово засели в тебе! А ты этого не сознаешь и даже не хочешь сознавать.
Мы еще о том о сем потолковали и дружески расстались. Спустя несколько дней Придис опять был здесь и протянул пачку «Беломора».
– Говорят, что дымок взбадривает, потому и купил. Затянемся!
Я вскрыл пачку. Придис сунул папиросу в зубы, но после первой же затяжки скривился и отбросил ее.
– Не для меня. Слушай, что сегодня было. Ты где работал?
– Дорожный мастер услал меня в тот конец дистанции.
– А меня Густ погнал километров за десять в другую сторону.
– Густ?
– Так вот, Талис крутился возле лесника, но последнее время туда не показывался, решили, что он что-то пронюхал и умотал в Ригу. Но сегодня одна особа (кто это, Густ не сказал) уведомила, что видела вооруженных людей в сарае на покосах у Виесите. Этот сарай удобное место – недалеко шоссе и опять же чащоба, кто в нее нырнул, тот без следа пропал. Густ наскоро собрал нас, сделали мы крюк, обошли сарай. Дозорный нас заметил, но бежать им было уже некуда, а сдаваться они не хотели. Мы через сто шагов друг от друга на опушке, им до зарослей один хороший рывок, но мы садили так, что и мышь не пробежит, головы нельзя поднять. Те забились в сено, редко отстреливались из автоматов, видно, патроны берегли. Густ, он юркий, что твоя куница, подобрался к самому сараю и дает из ручного! Задымился сарай. Тогда они дали оттуда не хуже нашего, но что делать, если огонь со всех сторон. Мы перестали бить, кричим, чтобы выскакивали и сдавались. Потом редкие выстрелы, видно, сами в себя, и сгорела эта развалюха, сено еще и сейчас дымит. Из уезда примчался врач, порылись мы в этой адской жаровне, а там четыре черных головешки… – Придис брезгливо скривился. – Одного опознали – Таливалд…

– А лесникова семья? – спросил я.
– Отца тут же взяли, – впервые за долгие годы Придис вновь назвал своего отца отцом. – Худо будет старику, – добавил еще Придис…
36
Сегодня прокладывали последнюю трубу. Топтались в вонючей грязи. Был и дорожный мастер, разговаривал с Зентелисом, был даже немного болтлив, этот Ояр, – мужчины не болтают, а дело делают. Когда Зентелис этак в шуточку проехался насчет «рабского труда», дорожный мастер торжественно порекомендовал ему прочитать книгу про Спартака, она даст истинное представление о том, что такое рабство.
– Да, – продолжал он, – когда-то история вся была заполнена прославлением королей и тиранов, я еще мальчишкой читал про Наполеона. Как его славословили! А ведь настоящие выдающиеся исторические личности совсем другие люди…
Я смахнул пот, посмотрел на мастера, – взобравшись на камень, он заливался петухом, – и сказал:
– А мне больше всего нравятся фараон Тутанхамон и ассирийский владыка Сарданапал, их знаменитые деяния протекали в давно ушедшие времена.
Ояр сделал вид, что не слышал, и продолжал свое. Видно было, что обиделся, но не очень переживал, для него все неприятности кончились: по материалу отчитался, квартальный план выполнен, даже эта злополучная канава, на которую Ояр уже перестал возлагать надежды, и та проложена. Уездное начальство вынуждено было даже отметить в приказе нашу дистанцию как самую передовую. В какой-то мере это была компенсация за тот месяц, когда Ояр упрямо отказывался сделать «самые необходимые» приписки (на языке дорожных работников это называлось «дать припек»), В тот раз Ояр жаловался, что в уезде на него обрушивались главным образом с таким аргументом: по данным республиканской печати все дорожно-эксплуатационные участки свои планы уже выполнили. Я посоветовал ему ответить начальству, что печати не известно, с каким процентом «припека» выполнены эти планы. Разумеется, я мыслил это как злую шутку. Если бы мне самому надо было это сказать, то поди знай… А может, и сказал бы. Как бы то ни было, но Ояр оторвал этот номер, и эффект был еще тот! Остальные мастера давились от смеха, а недавно назначенный начальник стал мрачнее тучи. Ояру тут же пришили какие-то грехи, чуть ли не антигосударственную пропаганду. Поносили устно и письменно и вот теперь вынуждены хвалить. Хорошее завершение, хоть и уезжал он с горечью, виновата в этом была Норма, но он это умело скрывал.
Мне пришло в голову, а не прослышал ли чего-нибудь Ояр или сам, может, учуял, и это главная причина, почему мы не можем больше ладить. Несчастливо счастливый и счастливо несчастливый. Где тут различие? Одна игра слов.
Ояр вновь разговорился с Зентелисом. На сей раз они стали обсуждать недавно показанный в волостном Доме культуры фильм. Фильм был не о современности, когда любовь показывают как добродетельный придаток к благородному процессу строительства, это была экранизация классики, в которой представала суверенная любовь, чем особенно восхищался Зентелис, который этой весной женился и все еще чувствовал себя так, словно только что вылез из теплой супружеской постели. Он торжественно заявлял, что в жизни человека может быть только одна настоящая любовь, а дорожный мастер сладостноскорбным голосом, интонацию которого мог понять только я, поддакивал:
– А как же! Любовь, она проходит через всю жизнь.
Я снова почувствовал необходимость вмешаться.
– Поди знай. В жизни, как известно, у некоторых бывало несколько любовей, но еще не слыхано было, чтобы одна любовь могла охватить несколько жизней.
Люди посмеялись, наверное, не столько над моими словами, сколько над оскорбленным видом Ояра. Похоже было, что на сей раз он уже достаточно раздражен и охотно бы уехал, но все же оставался до конца. Подводчики еще сыпали щебенку (шустрого старичка я не видел, – наверное, уехал в Ригу), мы еще укладывали на откос дерн. Потом я немного сполоснулся в той же канаве и сел на велосипед, чтобы ехать вовсе не к дому. Ояр проводил меня задумчивым взглядом, наверняка ему хотелось знать, куда я направился. И если бы он спросил, мне этого даже хотелось, ответ у меня уже был готов: «Последний раз к этой «красивой девушке», а потом можешь ты, если только она тебя пустит. Постучи в мое оконце!..» Но Ояр не спросил.
Может быть, в моей поездке уже не было никакого смысла, может быть, это было неумно и даже бестактно. Но в моей природе есть что-то педантическое, ко всему прочему меня угнетало сознание, что я не поставил точку; мне необходимо было воздвигнуть непреодолимый рубеж между собой и тем, что я считал невозвратимым прошлым. Злости у меня не было, только горечь и тяжесть, такая, что мне стало почти безразлично, что переживает Норма. Возможно, что в некотором отношении я сын своего отца, но теперь и это безразлично.
Я заметил Норму у ручья на лугу. Она задумчиво мыла ноги. Никого она не ждала, моих шагов не слышала и даже вздрогнула от приветствия.
Она встала, вся такая стройная, вся как натянутая струна. Босиком стояла она на зеленой луговой траве, в легком платьице, обрисовывающем тело, со светлыми волосами, красивая, очень, очень красивая.
– Довелось вот заехать, – сказал я и с неудовольствием заметил, что прозвучало это ужасно глупо.
– Я надеялась, что ты приедешь, – ответила она без деланной приниженности.
Нет, черт подери, тяжело быть таким, каким хотелось бы.
– А вот Талис, наверное, нет…
– Я это знаю, я сама выдала его Густу. Он меня использовал, мне это надоело. Только Осиса я еще боюсь… А вдруг он явится?
Я смотрел на нее и думал: «Нет, это чертовски тяжело, и все же надо кончать. Крутиться на такой карусели – одни вопят, чтобы придержали, другие блюют, а я спрыгну, у меня кости крепкие».
Норма:
– Осис несколько раз поминал тебя, теперь я понимаю, что он думал именно о тебе. Он говорил: это замес мой, пусть у него чахотка, но такие твердые, упрямые глаза. У кого, спрашиваю я. А он заставил меня замолчать своим взглядом.
Мой отец, наверное, уже вошел в те годы, когда мужчины начинают заботиться о продолжении «своего рода».
Я сказал:
– А ты удачно отделалась от Талиса и переметнулась к Густу. У него есть все возможности охранить тебя от Осиса.
– Не говори так! – воскликнула Норма. – Ты не смеешь говорить такие слова… – В глазах у нее были слезы, но голос звучал твердо, почти зло. – Густ не думает сделать меня тряпкой, чтобы вытирать свои сапоги. Я знаю все, что у тебя против него, и все же ты не прав в своей правоте. Густ, может, и плохой человек, но он человек. Осис – не человек, у него нет совести.
Норма дрогнула, словно собираясь протянуть мне руки.
– Улдис, ведь я же тебе нужна?
– Нет, ты мне не нужна, – сказал я. – А зачем ты можешь быть мне нужна? Как тебе такое могло прийти в голову?
Тогда что же тебе надо?
Ее голос так же, как и лицо, утратил всякое выражение. Наверное, это было очень гнусно, но я чувствовал удовлетворение, что могу ей сказать:
– Я приехал сказать, что тебя никто ни в чем подозревать не будет. Талис с прочими мертвецами, разумеется, будет молчать. Знаю только я, а я не скажу, можешь быть спокойна. Будь счастлива!
Я поднял брошенный велосипед и уехал. Как это в тот вечер, хрипя и задыхаясь, пел Эрнис? Началось, как сказка, и кончилось, как сказка, словами: «Вот и конец!» Бедная вечная любовь, ты как смородина, пропущенная через соковыжималку, весь красный цвет пропал, осталось чистое удобрение.
Талисова компания тогда в школе орала: «Не при на рожон, пусть ноги скользят, зато об дерьмо расшибиться нельзя!» Дерьма вокруг Талиса стало уже выше головы, оставалось только утонуть. Магазин. Люди облепили прилавок, как мухи сироп. Продавщица еле успевала срывать пробки. Горечь пива в моей глотке, хмель в голове. Бутылка, вторая, третья, кто-то схватил меня за плечо. Густ! Совсем такой же, как несколько лет назад: плечистый, суровое лицо, угрюмый. В голове мелькнуло – шарахнуть его бутылкой по голове! Удержал меня не страх, озарение, приходящее именно в минуты опьянения. Ну ладно, справедливость как будто на моей стороне, именно как будто. Допустим, что в человеческие руки попали бы весы, безошибочно показывающие справедливость и несправедливость каждого. И вот стрелка показывает: у этого подлости пятьдесят процентов, голову ему долой! И этому, и этому, и многим другим. В этих добра больше пятидесяти, оставить в живых, так сказать, «на семя». Чистая работа, после этого на свете остаются только паиньки, всех плохих вывели под корень. Нет, зло и добро созданы самим человеком, это вовсе не, как сказал бы философ, извечно существующие категории. «Человек – мера всех вещей». Нас тут было две меры, и третья – пустая бутылка, которая сейчас гулко разобьется о Густову, о мою или еще чью-то голову…
Густ сказал:
– Выйди, мне надо тебе что-то сказать.
Я еще подумал было, какой прок выслушивать каждого, но все же пошел за ним. Так получилось, что стали мы как раз в том самом месте, где когда-то я на краткий миг встретился с Нормой. Воспоминание это как будто впилось в меня железными зубами. Густ бросил по сторонам настороженный взгляд, а я не мог высвободиться из этих железных зубов.
– Ты опять заварил хорошую кашу, потому прими мой совет.
Какой совет? Очень мне нужны всякие советы!
– Этот бандит рассказал жене лесника про тебя. Дурень ты! – В голосе и лице Густа чувствовалось удивление. – Голыми руками скрутить такого! – И опять промолчал. – Если мой начальник узнает про это, тебя никто не спасет.
Пивной хмель вдруг рассеялся, но окружающий мир был все такой же странный, размытый.
Густ продолжал:
– Я сам насчет этого – могила. Но вот та сучка… У нас ведь не шутят. Поди знай, кому поверят, кому нет. Ты парень правильный, и ты промолчишь. Послушай меня, сматывайся поживей отсюда, поживи в Риге с годик без прописки. Там много таких ошивается.
– Отсюда?!
– Тебе же все равно куда. Это я тебе как человек говорю.
Все равно? А может, и впрямь все равно. Свободный человек…
Голос Густа:
– Я тебя честно предупреждаю, знаешь, что мне будет, если ты проболтаешься. Но я не могу иначе… Это не шутка. Еще есть время спастись, самое время.
37
В памяти Яниса Смилтниека рисуется день, когда Ояр появился в его квартире. Янис, взобравшись на стул, вешал выстиранные шторы на окно в большой комнате. Лаймдота командовала:
– Этот угол повыше, здесь зажми, здесь прихвати…
Звонок в дверь, и высокий парень неуклюже топчется в передней.
– Ояр поживет у нас, пока получит место в общежитии.
Парень бросил быстрый взгляд на хозяина квартиры. Что скажет тот? Но видно было, что Ояр не думает проявлять робости. Глаза у него были смелые, открытые.
На столе дымилось картофельное пюре, благоухала жареная свинина – семейная трапеза, семейный уют. Семейная опора, отец семейства – небольшой животик, размеренная речь, рассудительность. Человек научился жить, умеет жить, учит жить. Он не был жестокосердным, понимал и других. Старший брат Ояра женился и ждал третьего наследника, в его однокомнатной квартире уже негде повернуться, тогда как Смилтниеки-Карклини свою обширную квартиру сохраняли только благодаря особым отношениям Яниса с домоуправом. Сейчас у них двое детей, но не помешает и жилец, который не будет претендовать на часть жилплощади по ордеру. Бывают же случаи, когда такие временные жильцы становятся потом чуждым телом, в жизни всякое бывает, но этот женин родич выглядел честным парнем.
Янис Смилтниек понимал, что от него ждут решающего слова, и был уже готов доставить удовольствие женщинам, отнесясь к Ояру благожелательно. Он согласился. Лаймдота пригласила всех к столу, и, вкушая ужин, они продолжали взаимное знакомство. Ояр учится, борется за будущее – свое и всех народов, много уже сделал в области сельского дорожного строительства, в восстановлении разрушенных мостов. Нелады с начальством? Гм, вот это уже никуда не годится, можно ведь и ладить, с каждым можно договориться, если только захотеть. Человек, который с умом, делает, как велит начальство, и своего не упустит.
Янис Смилтниек не сказал этого Ояру, свою мудрость он никогда не выкладывал открыто, отвлеченные разглагольствования были не в его духе, к тому же здесь все относится к прошлому, исправить и повернуть уже ничего нельзя. К тому же и Ояр о многом промолчал, ни словом не упомянул Улдиса, и, таким образом, в семье Яниса Смилтниека о возвращении Улдиса было не известно до поздней осени, когда об этом рассказал приехавший Придис. Но тогда Улдиса Осиса в тех местах уже не встречали. Да и потом Ояр неохотно говорил об этом бывшем своем работнике, и не ненависть замкнула его рот, тут было что-то другое, но Янис этого не понимал.
Летом Ояр куда-то уехал на практику, осенью вернулся, и его опять прописали временно. Янису женин родич уже совсем понравился: тихий, приличный, без претензий, всегда старается уладить все сам, очень самостоятельный и, главное, честный. С таким нечего бояться, что начнет ловчить, добиваясь ордера. Студенческая стипендия была не бог весть какая большая, но он умел откладывать из зарплаты про запас, летом нашел хорошо оплачиваемую работу, был бережливый, непьющий и никогда не просил родичей дать ему в долг. На предпоследнем курсе поступил на работу в мосто-дорожное управление. Факультетское начальство не разрешало студентам работать, теперь это смешно выглядит, когда везде стараются сочетать обучение с работой, а тогда строительные инженеры учились только на стационаре и боже упаси, если кто-нибудь из-за работы пропускал лекции! Многие студенты в таких условиях были вынуждены отчислиться и получить дипломы позже, уже в других вузах. Но Ояр бросил работу и факультет окончил все-таки в Риге. Потом он снова уехал в провинцию (теперь говорят «периферия»). О себе Ояр оставил наилучшие воспоминания не только в семье Смилтниеков, но и на работе, и в университете. Писал, но все реже и реже. В последний год учения и в письмах Ояр несколько раз упоминал Улдиса, а ведь вначале этого не делал. Можно было понять, что с этими воспоминаниями связано что-то неприятное. И Янис Смилтниек вспоминал о нем, хоть не с такой яростью, как в сегодняшний вечер. Только что полученное от Ояра письмо отравило его болезненным ядом сожаления. Нежность овевала все, что он думал об Улдисе, и даже чувство утраты. Молодость его прошла, друг пропал без вести. Только имя осталось… И вот это ирреальное пространство, из которого выходит Улдис, костлявый, усталый, с язвительной усмешкой в краешке рта…








