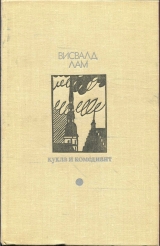
Текст книги "Кукла и комедиант (сборник)"
Автор книги: Висвалд Лам
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 24 страниц)
– Как только точно узнаем, что уже в Латвии, тут же все эти самопалы в пруд или в речку.
– Гм… ангелы нас, что ли, хранить будут? – осведомился Гринис.
– Харч у любого мужика раздобудем, а с ружьишком этим все одно мировую войну не выиграем. Только лишний груз. И если фрицы нас с оружием схватят, то уж точно к стенке.
– А без оружия? По плечу похлопают и коньяком угостят?
– Скажем, что мы дезертиры, заблудились.
– И дезертиров стреляют.
– Да уж не так они и стреляют, как про них сказывают, – и Клуцис принялся рассказывать историю, которая, по его мнению, доказывала, что с немцами можно ужиться.
Не желая и слушать его, Гринис повернулся к Цабулису:
– Ну, смотри, как я тебя обработал – вон какой благообразный, С таким портретом не страшно и жену целовать.
На лице Цабулиса появилась улыбка – грустная и тусклая, как этот осенний день. Но все же опять может улыбаться. Даже разговаривать. И тут же обратился к семье, там, в видземской усадьбе, которая, в окружении яблонь, лежит у подножия пологого холма. Неподалеку вьется столь характерная для латвийского пейзажа белая песчаная дорога с бело-черными стволами берез в придорожных рощицах. Вдали простираются поля, которые многие годы знали Цабулева Яниса, ходившего по ним с плугом, хотя они и не принадлежали ему, так же как не его была крыша, прикрывавшая арендаторов угол с кухней и комнатой. Зато у него была хорошая жена, шустрая дочка, парнишка, уже научился ходить, и третий ребенок, только что появился на свет, а тут его, Цабулиса, и угнали в Германию. Об этих маленьких человечках, занимавших большую часть Цабулисовых мыслей, Гринис слышал уже не раз, но впервые слушал с таким вниманием, точно уловив новые звучания в старой песне.
– Скайдрита, она так: к завтраку отгонит коров к березняку, уложит и – юрк домой. Быстро пожует, поможет матери со стола убрать и опять к стаду. Мать только смеется – девчонка работу до рожденья научилась любить. Мы тогда только-только эту аренду получили, туго жилось, жена до последнего со мной на поле держалась, а после родов то в хлев, то в кухню, то хворост рубит. Потому-то, я думаю, и Скайдрита такая шустрая выдалась. Как подросла, так только: Скайдра, сюда, Скайдра, туда! Все бегом, только бегом. Ко вторым родам я уж успел доктора привезти, и отдыху жене больше было. Ребята мне удались, можно бы жить, если бы не худые времена эти…
От бессилия, что ли, но Цабулис говорил чуть не шепотом. Гринис спросил о том, что ему еще не было ясно:
– А почему тебя в Германию загнали?
– По злобе людской. Десять гектаров мне дали. В той же усадьбе, где я половину арендовал, вторую половину сам хозяин обрабатывал. В собственность-то мне поменьше досталось, чем я арендовал, но уж коли дают, да еще задаром… А я ведь только с землей всю жизнь. С хозяином я и потом ладил, как до того. Мужик он толковый был: «Что нам из-за земли вздорить, вон и в церкви твердят, каждый свои семь футов на вечные владения получит. Будем жить по-хорошему, на наш век хватит, а молодые пусть сами знают, как им быть». Нет, право, толковый человек был, с умом в голове. Кой-какую скотину пришлось мне забить, выгона мало осталось, зато своя земля, свой хлев задумал строить. А тут тебе немцы явились, и все пошло наперекосяк. И что ни день, то хуже. Перед самой войной в наших краях кое-кого выслали, сказывали, что всех подряд станут высылать, что в новых паспортах такие печати есть, по которым видно, кого куда. Бог его знает, как там на самом-то деле, только кто высылки боялся, тот зверел потом ух как!.. А уж больше их всех Брестов Элмар. Диву я давался – Бресте, эту семью в тот советский год красной семьей считали. Сам-то, старый Бресте, при Стучке волостным старшиной был, тут его опять норовили поставить, но он старостью отговорился. Домишко у них был и пять гектаров землишки, ну им еще пять прикинули. Старший сын такой же арендатор был, как я. Элмар, как со службы пришел, зиму в лесу проработал. Парень собой видный был, веселый, и никто такого зверства от него не ожидал. С первых же дней к немцам прибился и давай всем себя показывать. Другие еще стыд не теряли, а Элмар чисто дикий какой… Поймали там одного чужого, привели в волостное допрашивать. Спрашивают, откуда да что, а Элмар уж тут – раз по зубам, два, у того кровь хлещет. И ржет: «Да ты же красный, сразу видно!» Какой раз и вовсе невиновных убивал. Волостному старшине, говорят, больно не нравилось это, но он сам Элмара боялся – тот в уездной полиции большим человеком считался сразу на несколько волостей. Старую айзсаргскую форму носил, только без дубовых листьев и на рукаве зеленая повязка с немецким шпентелем. Мы его все боялись. Я уж пытался волостным втолковать, каждому поодиночке плакался, что советская власть меня обидела, урезала мою землю, так что пришлось скотину резать. Да разве словами утихомиришь псов, коли они с цепи сорвались. Вскорости требуют меня в волость. Так и так – будто я в советский год высказывался, что, мол, спасибо за счастливую жизнь, так, мол, черным по белому в коммунистической газете значится. Я и вспомнил, когда землей наделяли, там один из газеты был, и я что-то такое говорил. А что, я каждое слово помнить буду? Элмар орет: «Ну да, кому землю давали, а кого в тундру ссылали!» Я говорю: «Давали, говорю, а как ты не возьмешь, коли дают, только не свои же волостные давали, и твоему отцу вон прирезали!» А он, чистый зверь, ты, говорит, советских солдат кормил и всякое такое. А солдат тогда каждый кормил. И заставил Элмар послать меня в Германию. А кто ему поперек скажет? Старшина ворчал было, что и на месте рабочих рук не хватает, а Элмар свое: я, говорит, для хозяев русских пленных достану, а этих учить надо. Ребятишки мои для него – тьфу!
– И вот ты теперь здесь, – сказал Гринис.
– Да, вот этак…
Оба замолкли. Согревшись, обсушившись и слегка обманув голод, все почувствовали власть сна и один за другим заснули. На этот раз первым встрепенулся Клуцис.
– Не большая радость лежать с пустым брюхом, – заявил он. – Двинулись!
– Сможешь, Янис? – озабоченно спросил Гринис.
Цабулис, пошатываясь, поднялся на ноги. Но удержался и заверил, что чувствует себя совсем хорошо.
– Похоже, что и часу еще не прошло, – сказал Гринис. Часов ни у кого не было.
– Так что, опять станем ждать ночи, дождя и голода? По такому лесу можно с песнями ходить. Надоело мне хорониться и голодать. Что-то делать надо! – захорохорился Клуцис.
Затушили костер и двинулись…
Направление, как обычно, взяли такое, чтобы артиллерийский гул слышался справа. Это заменяло компас, карту и затерявшееся в тучах солнце. Уверенности не было – какое-то время далекая канонада слышалась и слева. Только и попетляли по наезженной лесной дороге. Похоже, все к черту перепуталось – и тут пальба, и в другой стороне.
– Уж не угодили ли эти мастера окружать сами в мешок к русским? – высказал догадку Клуцис. А что, если окружающие их войска действительно сами окружены? Тогда их дело гроб. По мере того как окружение будет сжиматься, все кусты будут забиты немцами, и их или схватят, или заставят прятаться и издыхать от голода в какой-нибудь норе. Какое же сейчас положение на Балтийском фронте? По последним сводкам, перед самым побегом, получалось, что Рига все еще в немецких руках, а в Курземе и в Литве началось успешное контрнаступление. Прошло какое-то время, и возможно, что в контрнаступление, в свою очередь, перешла Красная Армия. В том, что перевес сил на советской стороне, ни один из них не сомневался. Может быть, обстоятельства так изменились, что и представить нельзя. Самое скверное, что такая солнечная погода сменилась вдруг дождями. Может, это знак, что хорошие дни кончились и осень мрачно объявляет о своем приходе.
Долго вслушивались, потом единогласно решили, что фронт все же в одной стороне. Надо идти дальше. Серая дымка, клубившаяся над вершинами сосен, сделалась темнее и плотнее – может, дело к вечеру, а может быть, и к дождю. Эти «может быть» окружали их со всех сторон. И на все предположения не было ни одного ясного ответа.
Покамест устанавливали, где какая сторона света, Цабулис, не выбирая места, поспешил опуститься на мокрый мох. Гринис тут же заметил это, заметил и то, с каким усилием тому пришлось оторваться от земли. Будто муха прилипла к клейкой бумаге. Как долго он продержится, что скажут парни, когда он совсем сдаст? Действительность становилась все угрюмее, но идти вперед надо, настоящие люди всегда идут только вперед.
Но Цабулев Янис сдал. Это случилось так скоро, что ошеломило всех. Только что они спокойно шагали по ровному месту, как вдруг Цабулис упал ничком. Остальные с минуту глупо смотрели на него, а он лежал, как колода. Как обычно, Гринис опомнился первым, бросился к лежащему и повернул его навзничь. Глаза открытые и какие-то мутные, дыхание прерывистое. И, к удивлению всех, он связно сказал:
– Сейчас встану и пойду.
– Похоже, ты на вечный покой настраиваешься, – ответил дубовой шуткой Клуцис.
Цабулис обвел мутным взглядом товарищей и сказал:
– Это уже Курземе?
Нашел когда гадать об этом! Клуцис от злости даже сплюнул:
– То-то ты и мордой ткнулся, чтобы дорогую отчую землю поцеловать!
Цабулис вздохнул:
– Все легче в своей земле лежать.
Стоящие переглянулись. Уже начало конца? Цабулису… и им? Голод гнал дальше, а это несчастье путало им ноги. Но даже Клуцис не мог бросить упавшего на произвол судьбы. Какой ни есть, а все же за рабочую свою жизнь привык к чувству общности – и оно пересиливало всю его густую гнусь.
– Может, за меня держаться сможешь? – спросил Гринис.
И вот чудо – Цабулис вновь встал на ноги.
– И своими силами пойду, – сказал он, но тут же вынужден был ухватить Гриниса за руку.
Наконец устроились так, что Гринис взял его под одну, Клуцис под другую руку. Ноги Цабулиса подгибались, но он хотя бы пытался подлаживаться к помощникам. Ни ему, ни помощникам это легко не давалось. Сначала Клуцис старался не уступать Гринису, довольно дружески подбадривал Цабулиса:
– Держись, старик, рано сдаваться! – но уже через несколько сот метров запел по-другому: – Да держись ты хоть немного на собственных ногах! Не девчоночка ведь, что в коленках слаба, вон борода уже. – Потом опять: – Тяжелый, как куль с мукой, болтается, что твое ботало! Да как же тебя такого до ямы доволочь?!
Цабулис совсем не был тяжелый, просто Клуцис устал. Гринис окликнул Модриса, чтобы он сменил товарища. А кто же сменит его? Порой ему казалось, что мягкий мох становится топким и липнет к ногам, как смола. Даже для его прямой воли и жилистости становился непосильным взятый на себя груз. Да и Модрис, паршивец, только делает вид, будто поддерживает Цабулиса. И еще не стыдно ему жаловаться:
– Ты знаешь, мочи больше нет. Столько отмахали. Альфонс, может, сменишь?
Клуцис все делал вид, что не слышит, а когда нытье Модрисово стало назойливым, отрезал:
– Надоели вы мне оба, паралитики.
Лес кончился. Между сосен проступило ровное поле. Сипя от задышки, Гринис оттащил Цабулиса к группке сосенок на опушке. Модрис даже вид не делал, что помогает, совсем отстранился. Пусть уж этот кусочек вдвоем протащатся. Но кусочек потребовал от Гриниса много. Горло просто перехватило, руки и ноги дрожат, желудок дерет острое чувство голода. Открутив пробку на бутылке, он отпил глоток воды и достал табак.
– Перекурим.
Тут уж оба оказались рядом. Гринис проглотил горечь и честно поделил табак. Такие уж они есть, никакой проповедью их не переделаешь. Могло быть и хуже. Руки все еще так трясутся, что папироску не свернуть. Именно от этой дрожи в руках и явилась неладная мысль: да что он с этими слизняками… плюнуть, сказать: «Прощайте!» – и пойти своей дорогой!.. Но тут же стало стыдно – уж какие ни есть товарищи, а предавать нельзя. Худо, когда теряешь уважение к другому, но настоящая трагедия, когда и себя не можешь уважать.

Лес огибала речушка с лугами вдоль нее, дальше, наверное, дорога – там виднелись телефонные столбы и фыркали машины. Возле дороги кучка строений. Клуцис вышел на самую опушку и, встав за ствол, внимательно оглядел местность. Пустая пожня, убранное картофельное поле и выгон с ольховыми кустами. Вернувшись, он сказал:
– Похоже, что немцев тут пропасть.
Видно, что бахвал уже утратил прежнюю смелость. Гринис не напомнил ему о недавнем поведении и черт те каких посулах, только сказал:
– Что ж делать, раз запас подчистили, придется ночью еду добывать. Где-нибудь в поле картошка осталась.
Модрис сказал:
– Выйдем за сосны. Может, в той стороне дом поближе к лесу есть.
– Да, местность надо разведать, – согласился Гринис и встал. Совсем неожиданно рядом с ним очутился Цабулис.
– Я опять могу идти, – упрямо прохрипел он.
Ну, что ты скажешь – без пяти двенадцать Цабулев Янис начал учиться упрямству и настойчивости. А может, это просто отчаянье?
Сосенки здесь стояли густо, хвоя царапала лицо, идти было трудно. Впереди ничего не видно, и, когда через несколько десятков метров молодая поросль вдруг резко кончилась, они увидели, на что нарвались: на опушке находилась стоянка немецких машин. Минутная растерянность. Хорошо еще, что всего несколько солдат, да и те возятся с отдаленной машиной. Но какой-то унтер все же заметил движение в поросли.
– Wer ist da?[16]16
Кто здесь? (нем.).
[Закрыть]
В этот момент Клуцис сделал глупость – от растерянности нажал крючок. Он не стрелял в немцев, даже не думал это делать, потому что ствол автомата был направлен в сторону, только вызвал ненужный шум. И тут же вся округа была поднята на ноги. Будто осиное гнездо растревожили. Провожаемые свистом пуль, они кинулись обратно в гущу поросли. Клуцис исчез с такой быстротой, что не то в землю врылся, не то по воздуху промелькнул. На миг Гринис заметил Модриса – бросив винтовку, вжав голову в плечи, мчался он, как вспугнутый заяц. Цабулис жался к Гринису, и они не могли быстро уйти. По соснам уже бил свинцовый град. Цабулис ойкнул и повалился. Ранен, обессилел? Гринис не успел это выяснить.
– Halt![17]17
Стой! (нем.).
[Закрыть]
Выхватив пистолет, Гринис выстрелил в кричавшего. Потом он так и не мог понять, как удалось ему оторваться от преследователей, но, когда после дикого рывка сквозь огонь он остановился, чтобы сменить пустую обойму, немцы порядком отстали. Зафырчал бронетранспортер, ведя свирепый огонь, – от сплошной очереди его даже сосенка повалилась. К счастью, чудище это полезло в гущу леса, а Гринис остался на опушке. Еще на миг он увидел Клуциса. Видимо, ранен. Держась за тонкую сосенку, он встал во весь рост и закричал:
– Nicht schießen, Kameraden! Nicht schießen![18]18
Не стреляйте, товарищи! Не стреляйте! (нем.).
[Закрыть]
Огненная пила срезала его вместе с сосенкой.
Гринис выстрелил еще несколько раз, но немцы были уже далеко, и надо было беречь патроны. Единственный выход – бежать, пока есть силы. Сердце уже надрывалось. Но он сумел уйти из глаз, – человек, спасающий свою жизнь, может гораздо больше того, кто покушается на его жизнь. Теперь можно хоть отдышаться. По-прежнему он держался опушки и, тяжело дыша, брел вперед. Немецкие солдаты ушли глубоко в лес и палили там как оголтелые. Гринис не мог понять, с чего они так стараются, может быть, сами не чувствуют себя в безопасности.
Бор перешел в смешанный лес, сюда сворачивала та самая речушка, что протекала через луг. Местами лес был довольно густой, надо выбрать место, где бы укрыться и переждать, когда уляжется суматоха.
И тут произошло нечто неожиданное. Точно алмазное острие пронзило густой покров туч. Хлынул ослепительный солнечный свет, и сумрачный лес ожил от сияния. Ага, уже за полдень. Гринис почувствовал, как у него сделалось легче и радостнее на сердце. Ну, уничтожили их, ну, он теперь загнанный зверь, изнуренный и голодный, но ведь он еще может видеть солнце, бороться за жизнь. Сейчас он двигается на запад, остальные пути перерезали солдаты Гитлера, безумствующие в бору. Но он еще свернет и снова пойдет на восток.
Гринис вздрогнул и поднял пистолет. Кто-то идет…
– Модрис! – приглушенно воскликнул он.
Парень был вне себя от страха. Точно не сознавая, что происходит, он воздевал вверх обе руки.
– Что ты в небе шаришь?
Модрис продолжал стоять в этом столбняке. В глазах ужас и недоумение, пальцы дрожат.
– Ну, ты хорош! Бросил винтовку, а теперь… – зло фыркнул Гринис.
– Пропали мы! – застонал Модрис. – Немцев в лесу тьма. И с той стороны идут. По лугу, я сам видел.
Глаза Гриниса сузились.
– Тогда нечего мешкать. Пошли!
Вышли к берегу. Здесь росли довольно высокие кусты, но не такие, чтобы надежно укрыться. К тому же с той стороны, куда указал Модрис, послышались не только выстрелы, но и собачий лай. Вот и затравят их, как зайцев! Только речка могла сбить со следа, и Гринис забрел в мелкое русло. Модрис последовал за ним. Гринис вдруг заметил, что парень хромает.
– Что с тобой?
– Да, видно, задело. Ляжка болит.
Шум стремительно приближался, а укрытия они так и не высмотрели. В сердце закрался холодный страх, – стало быть, суждено погибнуть, не видеть больше никогда солнечного восхода и свободы? Еще несколько минут – и конец.
И тут он заметил, что речка разделяется на два рукава, которые через несколько метров опять сливаются. Маленький, но густо заросший островок. Надо запрятаться в его кустах. Только быстрее, пока их не заметили! Гринис потащил Модриса вперед:
– Давай, давай! Не копайся!
Они достигли островка, довольно высоко вздымающегося над водой. Упав на живот, Гринис ловко вполз в густую зелень, спешивший за ним Модрис неуклюже зашлепал по воде и поднял шум, но тут сильные руки схватили его за плечи и выдернули на берег.
– А теперь тише! Слышишь, чтобы ни звука! – выдохнул Гринис.
Высокая трава и низкие кусты как будто хорошо укрывали их, но вместе с тем закрывали окрестность. Ничего больше не видать. Даже солнце сюда не пробивалось.
Несколько близких выстрелов. Громкие голоса, перекличка. Язык не немецкий и не какой-то другой знакомый Гринису язык, совсем неведомая речь. Но люди эти были в мундирах армии Гитлера, вооружены автоматами, данными им Гитлером.
Затрещали сучья, снова выстрелы. Перекликаясь, солдаты забрели в речку, забурлила вода. Гринис стиснул пистолет и прикинул, сколько же патронов у него осталось. Такое чувство, что вот-вот солдат встанет им на голову… тогда он выстрелит себе в рот, и всему будет конец.
Но ни один из гитлеровцев не захотел карабкаться за крутой берег только для того, чтобы оглядеть крохотный островок. Шаги зашлепали дальше, солдаты нырнули в лес, и слышалось только журчание потока. Даже ни одного выстрела больше. Гринис осторожно поднял голову. Солнечный свет оживлял угрюмую чащу – светло-зеленая листва, светло-синее небо, как в старом шлягере «Шумит зеленый лес». Обретенная жизнь на миг опьянила радостью. Но тут Модрис пожаловался:
– Жуть как начало болеть, верно, кровь идет.
Как перевязать рану, если нечем и если даже шевелиться как следует нельзя? Гринис действовал осторожно: повернул Модриса раной кверху и стянул штаны. На вид не бог весть что… даже не очень кровоточит… небольшая грязноватая ранка. Где же пуля? Не видно, чтобы прошла насквозь. Модрис боязливо спросил:
– Жуткая дыра?
Смешной вопрос, но Гринису стало не по себе. Рана, кажется, опасная, довольно опасная. Сможет ли Модрис идти?
– Сам погляди.
– Смелости не хватает… худо. Ты знаешь, я никогда не мог на кровь смотреть. Когда вы с Альфонсом тех фрицев пришибли, меня потом три дня выворачивало.
– Маленькая, хорошенькая дырка, – успокоил его Гринис, – никакой крови. Перевяжу, – он оторвал рукав рубахи и перевязал, как мог.
Модрис заныл:
– Ну и как же теперь? Я… не хочу умирать… не хочу…
– До смерти тебе еще далеко! – прикрикнул Гринис.
– Ты думаешь? – Модрис на минуту успокоился, но тут же вновь захлюпал: – Где же я теперь укроюсь?
– Когда через Вислу переправлялись, ты без малого не утонул, а теперь забыл о том. Выкарабкались и здесь как-нибудь выкарабкаемся.
Внимательно осмотрев окрестность, Гринис махнул рукой на лишнюю предосторожность и, действуя смелее, помог Модрису устроиться поудобнее.
– Идти сможешь?
– Не знаю. Больно… но пойду.
– Только так. Надо собраться с силами. Солдаты с ранеными ногами иной раз по десятку километров проходили. И нам надо двигать вперед.
– Куда?
Гринис погрузился в размышления. Потом сказал:
– Сейчас нам наобум Лазаря идти нельзя. Выход один. Помнишь хуторок, куда мы последний раз заворачивали, где хозяин нам от своей бедности целую ковригу отвалил?
– А чем же он поможет? – вздохнул Модрис.
– Поможет. Ты ведь не понял, о чем мы с ним по-русски говорили. Литовец сказал, чтобы мы подождали, тогда он еще еды достанет, а один человек нам надежную дорогу в Курземе покажет. Да ведь Клуцису приспичило вперед, вот мы и не остановились там. Придется теперь к нему возвращаться.
– Это же вон какая даль. И дороги не знаем.
– Не такая уж даль. От болота, где переночевали, один большой переход. Здесь мы больше на месте топтались. Погода ночью будет хорошая, а верное направление определим по железной дороге. Если поднатужимся, завтра будем там. Разживемся едой, может, и доктора найдем.
Вот это Модрису было понятно: его рана требует скорой помощи. За мысль о добром литовце он ухватился так же, как узник в темном подвале последние надежды связывает с пробивающимся в щель лучиком. Тогда, не понимая, о чем Гринис и Цабулис говорят с этим нищим мужиком, Модрис разглядел только ужасную закопченную комнатенку и стайку полуголых ребятишек. Теперь же казалось, что жалкая лачуга чуть ли не волшебный дворец или преддверие к светлой больнице, где пользуют хорошенькие сестрички, а в приемные часы навещают любящая мать и заботливый отец. Да, он хочет туда. Только надо подождать, пока стемнеет, да еще вот… есть ужасно хочется.
– У тебя там осталась корка, – смущенно произнес он. – Может, поделим…
– Бери всю, я не хочу, – твердо сказал Гринис; твердо именно потому, чтобы заглушить внутренний голос.
Модрис жадно впился в черствую корку. Гринис свернул папироску.
Чтобы подбодрить парня, Гринис добавил:
– Потом сможешь девчонкам мозги заправлять своими похождениями.
У Модриса кусок застрял в горле.
– Ты не смейся, – конфузливо сказал он, – я ведь там наплел о себе много. Само с языка прет. У меня ведь только и была невеста, Расма, но она мне не нравилась. Некрасивая. С красивыми-то ничего не получалось. И в Германии тоже. Немецкого не знаю, и вообще… Вахмистерша пригласила к себе, это точно, да я не знал, как подступиться, стыдился все. Она меня кормит, подкладывает, а я все об этом думаю… в глотке стоит… Так и удрал. И не поел толком, и не спал с ней.
– Тогда хвастать нечего, – сказал Гринис. – И вообще это не мужчина, если треплется про такие дела.
Модрис ничего не сказал, догрызая корку. Молчал и Гринис. От далеких воспоминаний защемило на душе. Они замерцали на горизонте прошедших дней, точно закатное солнце над вершинами леса. Скоро погаснут, опустится темнота, ночь без утра…
Закончив ученичество, Гринис стал полноправным механиком, специалистом по автогенной и электрической сварке. «Обмывая» его вступление в профессию, все мастера здорово напились. Даже Гринис: так уж принято было, хотя молодой подмастерье никогда не тянулся к горькой водке и столь же несладкому похмелью. Его тянуло другое: побродить по свету, посмотреть, как люди живут, поучиться жизни не только по книгам.
Так в неполных двадцать лет он очутился в Германии, недолгое время побыл в городах Голландии и Дании. У него были бумаги от Гильдии ремесленников, а по ним работу можно было получить даже в те годы страшного кризиса и безработицы – слава рижских мастеровых забегала далеко вперед, да и требования таких «странствующих мастеров» были куда скромнее.
К призыву Гринис вернулся в Латвию и по пути в Ригу нанялся на стройку в одном из железнодорожных узлов. Заработок здесь был обеспечен на все лето. Больше года Гринис слышал только чужой язык и теперь с жадностью прислушивался к латышскому, к песням дорожных рабочих на особом латгальском диалекте, когда по субботам они устраивали веселые вечеринки.
Местные крестьяне смотрели на латгальцев свысока. Гриниса они считали существом высшего порядка – человек с профессией, одет хорошо и обхождение знает. К тому же одинокий – за такого и до военной службы можно отдать свою дочь, чтобы человек знал, что есть на свете место, которое принадлежит ему и которому он принадлежит.
Комнату Гринис снимал у некоего деятеля партии малоземельных, который кроме земледелия был занят только своей партией. Жена его, наоборот, занята была только брачными партиями. У них были три дочери, старшей уже за четверть века. Младшая, Инесса, материна любимица, разбитная и озорная девчонка. То, что на старшую, работящую, послушную и наделенную всеми прочими добродетелями невесту никто не зарился легко было понять – внешность у нее была не очень соблазнительная. Младшая, наоборот, пьянила, как черемуха в цвету, и не удивительно, что глазастая мать скоро поймала младшенькую целующейся с заезжим механиком. Это вызвало ее праведный гнев: «Как вам не стыдно? Инесса еще совсем ребенок. Много ли у нее ума, а вы-то, уже взрослый человек!»
Лишнего шума умная мать поднимать не стала, корила ровно столько, чтобы не вспугнуть возможного жениха, чтобы призвать его к порядку и пробудить в нем чувство ответственности. Что поделаешь, она готова выдавать дочерей в обратном порядке, чем заведено. Что поделаешь, такие времена, кризис, привередничать не будешь, иначе все в девках останутся. И Гринис, опьяненный встречей с родиной, ароматом черемухи, весной, своей и Инессиной молодостью, с готовностью полез в уготованную ему вершу. Разговор он повел серьезный. Это поняла вся семья, даже полные гневной зависти старшие сестры. Он уже считался женихом, и мать поспешила по секрету разгласить это всей округе. Гринису она строго наказала: «Дружить можете, но ничего такого, что себе позволяют венчаные люди. Она у нас нетронутая, как бутончик нераспустившийся, уж это вы поверьте». Конечно же, заезжий механик был не из святых – молодой мужчина, и мать это хорошо понимала. Ну да пусть только заглотит крючок, и если его возвращения со службы будут ждать не одна, а двое, так никуда не денется. Надо скорей окрутить, поди знай, что там за год мужчине взбредет, – кризис же нынче!..
Все бы наверняка пошло как надо, не вмешайся величайший дуропляс и блистательный мудрец Случай, который не раз перечеркивал не только планы матерей с дочерьми на выданье и политические комбинации малоземельных деятелей, но и мудрые прогнозы деятелей государственного масштаба и прославленных полководцев. Случаю было угодно, чтобы Гринис со своими товарищами по работе на троицу забрел на гулянье на лоне природы, и этот же Случай заступил ему дорогу, когда он, протанцевав несколько раз и выпив бутылку пива, собирался пойти к Инессе. Молодая женщина подошла к буфету и крикнула буфетчику: «Я хочу лемонады!» Нелатышский выговор обратил на нее внимание Гриниса. Немножко знакомая, так сказать, шапочное знакомство – жена богатого хозяина, полька Ванда. Видимо, только бегство из нищей Виленщины загнало молодую девушку в брачную постель к пожилому хозяину. Теперь ее муж неизлечимо болен, первый сын его ненавидит молодую, красивую мачеху и как только может отравляет ей жизнь. Есть у нее маленький сынишка, непохожий на того крокодила… Детские воспоминания и всякие местные слухи всколыхнулись в сознании Гриниса, и тут же развеялись, словно поднятая ветром мякина. Темные зрачки ее замерцали фиолетовым светом. Все остальное провалилось куда-то, остались только эти глаза – не дьявольски соблазняющие, сулящие какую-то страсть, которую обычно бабьи языки и жестокие стишки приписывают темноволосым женщинам, а что-то в них щемящее, какая-то тоска. Гринис подошел к ней и пригласил танцевать. Ванда ответила что-то неразборчивое, скоро они были уже на танцевальной площадке. Разговор не вязался – молодая полька латышским владела плохо, а Гринису тогда незнаком был польский. Может быть, это и хорошо было, избавило их от многого лишнего, внешнего, когда женская стыдливость запрещает немедленно откликнуться на зов, а мужчина, не желая раскрыться, уходит за наружную грубость. Говорили взгляды, поэтому отпали недоразумения, вызываемые словами. Они не мудрствовали, не прикидывали, не страшились, а, как крылатые семена, подчинялись порывам ветра. После нескольких танцев пошли бродить по березовым рощицам, по полям, по пустынным тропинкам. От росы промокли их ноги и одежда, ночь была прохладная, а они трепетали от внутреннего жара. Ветви гладили их по голове, украшая волосы свежей зеленью, во ржи кричал коростель, и соловьиная песня взлетала выше самых высоких вершин. В книгах Гринис читал про волшебство такой ночи; теперь он знал, как тусклы все книги по сравнению с первобытной радостью, которая кипит внутри и оглашает природу бурным криком. Они обменивались редкими словами, льнули друг к другу и как будто целиком слились с этой непередаваемо волшебной ночью. Он вынул шпильки из волос Ванды, и они разлились темным пологом, совлек с нее одежду, припал лицом к теплым плечам. Он чувствовал, как дико колотится сердце, только не мог понять чье. Ванда что-то говорила на своем языке, потом Гринис узнал, что она высказывала свою жажду любви, желание хотя бы на несколько минут забыть об адском мирке, в который превратилась ее повседневная жизнь. Гринис не думал, любит он или нет, вообще ни о чем не думал. Душа его пылала, и огонь унялся только тогда, когда в груди все превратилось в пепел…
После этой ночи они встречались, как только была возможность, но на слова были все так же сдержанны, обходились без «сердечных излияний». Для них как будто не было ни прошлого, ни будущего – да и настоящего тоже. Были только минуты, когда оба оказывались вместе и чувствовали себя удивительно хорошо. Никогда ни один ничего не требовал, не утверждал, не клялся и не заверял… только любил. Может быть, завтра уже суждено расстаться. Нашли друг друга только затем, чтобы вновь потерять, – об этом не говорили, так же как не говорят о смерти, зная, что ее все равно не избегнешь. Все, что находилось в окружающем мире, для них было безразлично.
Но окружающие были далеко не безразличны к любящим, более того – проявляли чрезмерный интерес.
В первую очередь мать Инессы, потом муж Ванды, хоть и больной, но страшно ревнивый, прочие родственники и, наконец, все, кто считал себя порядочными людьми. Ведь самое чудовищное, что эти бесстыдники держатся открыто, так нагло, точно бросая вызов обществу, в котором находятся. Кто бы мог ожидать от молодого парня, что он такой развратник! А эта черномазая цыганка, побродяжка приблудная, невесть откуда, навязалась добропорядочному вдовцу, а теперь в открытую подолом крутит! А Инесса, бедненькая, сама добродетель… мошенник рижанин соблазнил, совратил и бросил. Мать рьяно доказывала, что дочь ее осталась добродетельной, но, понося Гриниса, сама же себе противоречила. Сороки со всей волости все языки оббили, парни из любителей оскоромиться, доселе безрезультатно подъезжавшие к вдове при живом муже, с жаром вторили им. А их любовь, вызывающе бурная, непристойная, безнравственная, – точно наглый колючий репейник вторгся в гущу пристойных семейных клумб, возвышался поверх петуньи, настурций и бархатцев и колол каждому глаза. Это было не счастье, а отчаянье, вопль о счастье, который прозвучал и, не найдя отклика, заглох в летней ночи. И все. И этому суждено было кончиться…








