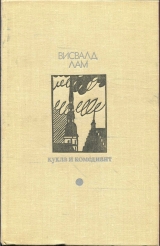
Текст книги "Кукла и комедиант (сборник)"
Автор книги: Висвалд Лам
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 24 страниц)
Грязь Двора отбросов! Ну, знаете, есть грязь куда похуже, поэтому воспоминания можно быстро смыть – многие к этому привыкли, – так же как отмахнуться от напоминаний тех, кто не сумел вскарабкаться «наверх», так же как стереть то, что было запечатлено в душе. Грязь лицемерного прославления, рабского служения, мнимого величия и иудиных сребреников – эта грязь похуже, она пристает так, что ее и стальным скребком не счистить. Вовсе не нужны золотой дворец и прекрасная принцесса, чтобы человек забыл все, что причиняло боль ему и по-прежнему причиняет боль другим: порой достаточно удобной квартиры, лимузина, хорошего жалованья, достаточно просто жирного куска с королевского стола.
Мирская слава. Я спрашиваю себя: «Если ты завтра станешь принцем, сможешь забыть все?» И отвечаю: «Я не забуду! Никогда! Ничего!»
Долгие годы я наизусть помнил многие страницы этой повести. Поток времени унес почти все, но одна фраза навсегда засела в моем мозгу, наверное потому, что она горит во мне каждый раз, когда приходится слышать умные рассуждения преуспевающего лица о жизни «маленьких людей»:
«Что ты знаешь об угнетенных и муках! Об этом знаю я, знает мой народ, но не ты!»
Граф – повелитель Фландрии – устраивает рыцарский турнир – зван был и я. Я получил учтивое письмо, на шелковой бумаге, с золотым гербом, с обращением «Ваша светлость», с присовокуплением титулов, которых у меня никогда не было и которые я не стремился заполучить. Я покрутил шелестящую бумагу и решил, что отказываться неудобно, могут счесть малодушным, может быть даже высокомерным, а я – можете верить, можете нет – чувствовал в себе столько отваги и благородства, как никогда потом, даже сейчас. Я решил явиться. И телеграфировал: «Благодарю за приглашение тчк Прибуду в срок тчк До свидания тчк». Я полагал, что ответил с достоинством и без ошибок. Потом я пошел за патронами для своего ружья, потом покрутил ручку автомашины (у меня был четырехместный кабриолет) и, удобно усевшись на кожаное сиденье, взялся за руль. Мотор зарычал, флажок на радиаторе затрепыхался, за мною потянулась белая полоса пыли и дыма. У государственной границы путь преграждал шлагбаум.

Пограничный офицер:
– Вы куда? Заграничный паспорт имеете?
Я достаю паспорт (я его сам смастерил – с разными записями, чинами и даже вырезанный из газеты портрет офицера в мундире), предъявляю. Офицер тут же салютует саблей, я же отправляюсь на опасное дело – защищать честь Латвии. Границу Фландрии открывает приглашение графа.
Сам граф ожидает меня, сойдя с коня, окруженный мужественными рыцарями и разодетыми в шелк и бархат придворными дамами. Пажи несут графский щит, меч, перчатки, подол мантии.
Граф спрашивает:
– Почему у латвийского рыцаря нет оружия, лат, коня?
– Вот мое оружие, – поднимаю я ружье. – Вот конь, – я указываю на автомашину. – А латами мне служит отвага.
– Как благородно! – перешептываются дамы.
Я от гордости и довольства собой краснею.
Графский паж:
– Какой у вас герб, кавалер?
– Я представляю герб своей страны!
Паж не отступается:
– А ваш личный герб – из какого вы рода?
– Из рода портовых грузчиков, – отвечаю я.
Самая изящная дама фыркает:
– Фуй, какой мужлан! – и падает в обморок.
Все остальные морщат носы; я сам кажусь себе ужасным «мужланом», но тем не менее оскорбленно осведомляюсь:
– Кто-нибудь осмелится выйти против меня?
Рыцарь – сверкающий, разряженный, гордый, как павлин (павлинов я никогда не видывал, но знал, что такие есть), – хватает меч, садится на коня и восклицает:
– Я вызываю тебя, хвастун!
Паж излагает мне правила поединка: надо сесть на своего моторизованного коня, выехать навстречу вооруженному всаднику, обнажить оружие и укрыться щитом.
– Вы же вместо щита держите перед собой отвагу, – насмешливо добавляет он.
Я возражаю, мне же трудно вести машину и сражаться, я лучше останусь на месте, но паж неумолим – надо соблюдать правила игры. Герольды уже дуют в трубы, они звенят, звенят – над старицей, над Гауей, над лесными вершинами, над всей Фландрией. Птицы щебечут, мотор фырчит, земля загудела под копытами рыцарского коня. Я стреляю, я сшибаю его молнией из ствола, пулей. Трубы смолкают, мотор замирает, я вылезаю, подхожу к лежащему. Птицы больше не поют, вода застыла, вершины деревьев склонились. Убит, мертв. Я поднимаю забрало – лицо белое, неживое. Надо соблюдать правила игры… Это уже не игра, это смерть, меня охватывает холод. Зловещая музыка, она исходит из подземелья – глухая, мрачная. Я слышал ее на похоронах моего отца, я уже не помню того дня, не помню самих похорон, но погребальная музыка часто преследовала меня в кошмарных снах. Тогда я просыпался весь в поту, охваченный безумным страхом. И вот эта ужасная, наводящая страх музыка звучит среди белого дня; мир безмолвствует, а музыка звучит. Ружье падает из моих рук, я покидаю поле сражения – побежденный победитель. Я влезаю на склонившееся над протокой дерево и вглядываюсь в темную, затянутую водорослями глубину. Что там таится – сказочные чудеса, замок русалок, сокровища или гибель? Зачем я стрелял, ведь он же человек. Сними с него латы, меч – и будет такой же славный парень, как Жанис: немного хвастун, немного враль и трепач, немного скуповат, немного тороват, но все же живой человек, человек… И зачем мне надо было стрелять? Смерть, темная яма, тление, ничто, страшная музыка. Зачем же было стрелять?
Мир постепенно оживает. Птицы щебечут, сине-зеленые стрекозы снуют над водой, скользят по глади какие-то пауки, плеснулась беспечальная рыба, ветер заколыхал вершины деревьев, где-то крикнул кичливый петух. Мир опять такой же, как до поединка, но уже не такой. Что-то исчезло. Где это найти?..
Надо же – я раздобыл книжку Яниса Порука «Искатель жемчуга» и предвкушаю чтение о далеком Цейлоне, о ныряльщиках в подводное царство, а может быть, даже о морских разбойниках. Сначала я был разочарован, злился, потом стало любопытно, хотя в некоторых местах книга казалась скучной – но это я быстро пробегал глазами.
Я шел домой из Заколья, со мной была мама, сестра, еще какая-то тетушка; из-за горизонта выкатился круг луны, тусклый свет растекался по извилистой дороге, с серебристым звоном пели телефонные провода. Звезды призрачно мерцали в воздушном океане – будто жемчужины, – и мне хотелось закинуть платиновую лесу телефонного провода, чтобы выхватить этот жемчуг из глубин неба. Каким богатством наполнил бы я свои карманы, завтра обошел бы всю Царникаву и всем подносил в подарок по жемчужине. Жемчуг, наверное, красивый-красивый, даже представить себе трудно, сверкает ярче звезд. Мне еще помнится горькое разочарование, когда я впервые увидел настоящий жемчуг в витрине ювелирного магазина на Известковой и горестно воскликнул: «Тьфу, дерьмо какое!»
В ту ночь столбы покачивались, как гигантские удилища, закинувшие в вечность свои платиновые крючки; на крючке ничего не было, но я мог себе представить, понимаете, представить, – и первая жемчужина уже плясала перед глазами, как взметнувшийся над гладью Гауи лещик. Вершины деревьев колыхались, как водоросли в море при лунном свете, и звучал струнный концерт, и дорожная щебенка хрустела под нашими ногами.
Мне уже было известно, что многообразие мира можно заключить в узкое помещение, можно перевести на рисовальную бумагу, на грифельную доску, выразить словами на листочках писчей бумаги. К сожалению, я этого не мог – а вот Мирдза могла.
Мне было ровно пять лет, я научился читать и начал выводить и буквы – грифелем на доске. В ту осень Мирдза на том же черном кусочке нарисовала автомашину. Когда рисунок стерся, я попытался сделать его сам, но у меня ничего не получилось. Я снова попросил Мирдзу, она взяла мел, но сказала, что нарисует уже не машину. Я возроптал. «Ну, посмотри», – сказала она и быстро-быстро набросала крышу дома, трубу, высокие сугробы, очертания занесенного снегом берега реки. Я сдержал протест, придвинулся ближе, чтобы вникать в каждую деталь. В том углу заснеженные кусты, проткнувший облако рог месяца, падает одинокая снежинка, в окне зажегся свет, и луч света упал на замерзшего длинноухого зайца, дрожащего под кустом. Я смотрел на Мирдзины пальцы, которые, зажав кусочек мела, возводили в пустоте целый мир.
Настоящее волшебство творили Мирдзины руки на рождество. Она слегла после далекой поездки в суровый мороз, расстроенная тем, что бессовестный хозяин не подумал везти заработанные ею продукты, а когда настойчивая пастушка приехала сама, дал ей то, что похуже. Но вот она опять пришла в себя и принялась творить яркую сказку в углу нашего бедного жилья. В ее распоряжении были еловые и сосновые ветки, мох, вата, креповая бумага и станиоль; она поставила в самый сумеречный угол комнаты стул, укрыла его хвоей и бумагой, вата создала картину заснеженного леса, станиоль сверкал, точно кристаллики в морозную ночь. Тут же послышалась песня бубенцов, возникла запряжка рождественского Деда Мороза.
Сказка кончилась после крещения: осыпавшаяся хвоя, голые засохшие ветки, смятая бумага и потрескавшаяся фанера стула. Как просто рассыпается такая красота – меловой рисунок стерся, лунная ночь погрузилась в тучи, прервалась нить жизни какого-то человека. А разве это так просто? Для нас? И для того, кто ушел?
Мирдза все следующее лето кашляла, но все равно опять пастушила. Для нужды нет отдела кадров, который строго требует представить документы о состоянии здоровья. Хозяин зимой дал лошадь – хороший хозяин, не жульничал с заработанным; Мирдза пасла, кашляла, рисовала акварели и писала стихи. Ее учитель в Адажской школе считал, что она будет художницей, но сама Мирдза больше тянулась к литературе. Она уже писала нечто вроде очерков – на пастбище, дома, уже лежа в постели и в Детской больнице. Стихи аккуратно переписывала в маленькую тетрадь, которую хотела послать Яунсудрабиню. Еще до болезни решив это, она писала:
А голова все тяжелеет,
Так гнется ветвь, дождем полна.
Не для меня дары лелеет
Не мне пришедшая весна.
Что ж тяжесть слов ронять напрасно
И что напрасно слезы лить,—
Так хочется их жемчуг ясный
Собрать и нанизать на нить.
Началось туберкулезное воспаление брюшины, к этому присоединился менингит. Мирдза скончалась в тяжелых мучениях. Во время агонии она на миг обрела сознание, взглянула на прикорнувшую у кровати мать и вздохнула:
– Мама, так тяжело умирать…
Ей еще не было шестнадцати лет.
Океан лунного света уходит в бесконечность, но в него уже не глядятся глаза Мирдзы; если бы она знала, как добывать жемчуг из глубин вечности, уж она-то насыпала бы мне полную пригоршню: «На, Вись, я тебе дарю!» И мне бы не жалко было дарить, только у меня ничего не было, я не имел ничего. Переполненное сердце – и пустые руки. Была красота вселенной, а я стою перед нею жалкий и нищий – ничего не знаю, ничего не умею…
Вы видели, как буйвол идет по водной глади? А индусская священная корова? Даже у нее наверняка это не получится, какой священной она ни будь, – а вот человек мог. Человек этот выглядел необычайно: в длинном одеянии, с пышной бородой и волосами, вокруг головы светящийся круг – позднее я узнал, что этот круг зовут нимбом. Таким он стоял на обложке книги «История царства божия», которая была Мирдзиной собственностью. Что-то необычное, к тому же страшное, мрачное, кровавое – совершенно отличное от того, что я представлял себе о жизни на белом свете. Не очень-то веселым был рассказ о принце и Томе Кенти, но он хоть был правдоподобным, его можно было понять и пережить, а эта книга была слишком тяжела для моего восприятия. Такая зловещая – нечто похожее рассказывают осенними вечерами, когда на дворе моросит дождь, воет ветер, а рассказчику и слушателям приятно сознавать, что они сидят в светлой, теплой, сухой комнате.
Бог, церковь. Трогали светлые летние утра, когда колокольный звон долетал к нам за четыре километра с далекого холма, возвещая воскресенье и напоминая, что сегодня утром запахнет кофе «Вега» и можно будет поесть вкусного молочного белого хлеба. Я смогу надеть новые штаны и резиновые сапоги, в будни я шлепаю в залатанных штанах и босиком. Таким образом, все церковное и божественное сводилось к воскресному. Мать моя в церковь не ходила.
В обсуждение некоторых книг моя мать не пускалась, к экскурсам моим в «Историю царства божия» относилась сдержанно, наказав только, что напечатанную там молитву «Отче наш» надо выучить и произносить каждый вечер перед сном. Устроившись с коленями на стул, я погрузился в книгу, именно «погрузился» – как смеялись мать и Айна. Я умел отключаться от всего мира. Айна стала трясти меня: «Отдай стул, мне шерсть мотать надо, возьми этот, старый», – я, продолжая читать, машинально встал и остался стоять. Айна подвинула стул, через минуту я сел и – бах! – очутился на полу. А уж если исчезла книга, то и я «проснулся». Айна захихикала, мать, хоть и сама большая книжница, рассердилась: «День-деньской читает, читает, все бубнит про себя – право, рехнется. Уже и сейчас тронутый!»
Я грустно вышел из дому и побрел к протоке. Порок дотошной любознательности я сумел преодолеть или хотя бы скрывать, а вот с этим: «Спит среди книг, все бубнит про себя» – не под силу. Уже сейчас мать говорит: «Тронутый».
Вечером я все же решил про себя прочитать «Отче наш». Я уже забрался было под одеяло, но тут откинул его, добрался до «…яко твое есть царствие…» и застрял совсем в другом царстве: ревущий бакен остался в устье реки, по берегам росли апельсиновые деревья с сочными плодами (я сглотнул слюну), бесстыдные обезьяны показывали голый зад, вдали виднелся портовый город, совсем как силуэт родного Милгрависа с фабричными трубами, садами, с бетонным дворцом в гуще домишек. Звенела якорная цепь, я, в капитанском мундире с золотыми галунами, схожу на берег и отбываю в «сонное царство»…
С утра я взял «Историю царства божия», полистал и засунул подальше под кровать. Отыскал «Черные алмазы» – описываемое там царство выглядело куда интереснее, к тому же там была любовь, призраки, которых можно было разгонять дубинкой, вообще все было интереснее. Бог творил свой мир, Мавр Йокай – свой, я тоже мог создавать свой и стремился – как нынче говорится – к мирному сосуществованию.
В школе я опять столкнулся с библейскими сказаниями и учил их так же вяло и послушно, как все остальное. Только в четвертом классе во мне проснулся строптивый дух безбожия, но он никогда не принимал активно-злобный, оскорбительный для других характер. Как-то быстро сложилось убеждение, что величайшее право человека – свобода убеждений и верований, а величайшая обязанность – не навязывать другим своих богов и святынь.
Туманное утро глядится в окна – каждое о шести стеклах – чердачной комнаты Конюшенного дома. Мать уехала в Ригу, покой, тишина – можно дремать сколько хочешь. Неожиданный гул сотрясает чуть не весь мир, я вырван из сна, я подскакиваю к окну. Над моей головой, как будто даже касаясь шасси каштанов, проносится самолет воздушной линии «Дерулюфт» – большой, с гофрированным фюзеляжем, трехмоторный. Вот он уже исчез за Блусукрогским лесом; там идет дорога на Яунциемс, на Милгравис, на Ригу. Дорога эта так и петляет, огибает Киш-озеро, а самолет летит прямо, поверх зарослей, болот, дюн, озер, моря. Сказочный ковер-самолет – вот бы и мне на нем полетать.
Видеть такой большой самолет так близко! Это что-то особенное. Маленькие самолеты на большом расстоянии я видел часто: военные бипланы. Посеребренные, с черной свастикой на крыльях и фюзеляже, одномоторные, со сверкающим кругом пропеллера спереди, они почти ежедневно гудели, трещали, выли в царникавском небе, крутились, описывали широкие круги, стремительно падали вниз и вновь взмывали почти вертикально. Довольно часто они гнались за увлекаемой другим самолетом «колбасой» и, треща пулеметом, обстреливали эту «колбасу», только клочья летели. Вот это игра! И меня невольно подмывало на такое же! Я ищу самолет. Нахожу. Из газет я знал, что в самолете сидят пилот и наблюдатель. Кого позвать в наблюдатели? Я подумал и решил, что самым надежным товарищем был бы Квентин Дорвард.
– Залезем в самолет и займем места!
Ободрав щиколотку, я вскарабкался на ясень, добрался до первых ветвей – дальше пошло легче. Наконец я на верхушке, откуда отличный вид на окрестные кусты, заросли аира и трясину. Только раскидистая боковая ветвь старой, корявой, рассевшейся ивы поднимается над нами, закрывая воздушный путь в Ригу.
Я говорю Квентину:
– Знаешь что, вызовем ее на воздушный бой и собьем в протоку.
Квентин вставляет в пулемет ленту, я заставляю крутиться пропеллер. Гул увлекает нас в воздух. Самолет кренится, падает в воздушную яму. Я выравниваю его, листья шуршат и осыпаются, крылья скрипят и гнутся. Я прибавляю скорость.
– Огонь!
Тр-р-р-р… сверкает конец ствола, сыплются пустые гильзы. Квентин кричит: «Давай ле-ве-е! Теперь правей!» Я закладываю такие крутые виражи, что чуть не вываливаюсь из кабины. Мертвая петля. На миг земля мелькнула перед моими глазами. «Давай новую ленту, Квентин! Мы на него спикируем!» Я прибавляю газ. Корпус самолета кряхтит на большой скорости. Стреляет и противник, я ловко ухожу в разворот. Трещит перебитый лонжерон. Квентин сваливается в бездну, я хватаюсь за ручки пулемета, даю еще несколько очередей и планирую сквозь густые ветви клена. Треск, визг, плеск… Господи, мои штаны! Нет, штаны выдержали, а вот ляжка – наверное, эти негодяи стреляли пулями дум-дум. Ну конечно – вон как рвануло, словно собака хватила. И не так больно, как страшно матери. Что делать? Врать я не умел, а правду говорить не хотел. К счастью, кровь текла не очень, я залепил рану куском газеты и геройски не хромал, делал «бесстрастное лицо». А вдруг Айна узнает? Пожалуется, не пожалуется?
Рана болела несколько дней, потом горела и страшно зудилась. Ничего, перетерпим – ладно еще, что штаны не пострадали, вот уж тогда крику не оберешься. Прошла неделя, и остался только некрасивый струп, который я радостно сковырнул; синеватое пятно держалось еще с месяц.
Но величайший сюрприз поджидал меня спустя день после аварии, когда рана ужасно болела. Я пошел к клену, чтобы отыскать потерянный вчера пулемет, и увидел чудо: раскидистая ветвь ивы отломилась от трухлявого ствола и перекинулась через протоку, которая была здесь узкая. Образовались естественные мостки, которыми я в то лето пользовался.
Я стоял, смотрел, раскрыв рот и вытаращив глаза. Право, я готов был поверить, что это сделали точно посланные пули Квентина.
За Конюшенным домом росли высокие каштаны – они вымерзли суровой зимой 1939–1940 года; вдоль дороги высились дубы, клены, ясени, густые заросли акации – их уничтожила людская безжалостность и равнодушие. Неужели те, кто дал погибнуть этой красоте, не подумали, что они обворовали детство своих детей? Наши деяния следуют за нами всегда и повсюду.
А на берегах старицы цвела черемуха и заливались соловьи, потом поднимали свечи своих цветов каштаны и желтели кусты акации. Все лето представало сказочным садом и площадкой для игр; я подвешивал качели к ветви каштана, из ветки акации делал лук, из дранки – стрелы. Сначала я не мог далеко пускать стрелу – лук слабоват, стрелы тяжелые. Но луки мои возрастали по силе и размерам, вскоре они уже сравнялись со мной в высоте, а стрелы были все еще тяжелые и кувыркались. Меллаусис научил меня:
– Черенок стрелы делай тонкий, вроде как спичку с концом потяжелее. Перья пристрой на другой конец, чтобы прямо летела.
Меллаусис – это был мастеровой, занятый на ремонте имения, и мой друг. Я послушал его – и стрелы стали летать по-всамделишному. Я послушал, когда Меллаусис сказал: «Не играй в войну, не стреляй в людей», – а если мать что-то внушала, бранясь, я и ухом не вел.
Каждому поколению мужчин на этой земле доводится играть в войну и стрелять в людей. Довелось и Меллаусису. Шесть лет подряд. Он носил офицерский мундир и звался капитан Меллавс; потом он носил сшитый по моде костюм и звался бухгалтер господин Меллаус – до войны он учился в коммерческом училище Рижского биржевого комитета и знал немецкий, русский, английский и французский языки. А теперь вот он был всего-навсего строительный рабочий Меллаусис, который даже по воскресеньям ходил в рабочей одежде и каждый заработанный лат вкладывал в кассу государственной водочной монополии. Он говорил: «Малыш, пей лимонад, водка нисколько не лучше. В человека не стреляй, не смей никого убивать!» Сам-то он, несомненно, убил многих и водки пил ужас как много.
Мать с сестрой собирали ягоды в лесу за Гауей, я, как неисправимый лентяй, был оставлен дома. Меллаусис помог мне сбегать в лавочку, принести яиц и грудинки, мы изжарили ее на костре; я бегал вокруг костра, яростно пнул какую-то бумагу и разбил яйцо.
– Вот видишь, как получилось, – с упреком сказал Меллаусис. – Зачем яйцо-то разбил?
Я смущенно объяснил, что играл в войну.
– Ты лучше не воюй, – сказал Меллаусис, – войны нужны только правителям да генералам.
– Я и буду генералом!
– Ты погляди вон на того генерала! Им жена командует.
– Я никогда не женюсь!
– Женишься! А генералом все равно не станешь. Ты вон еще в школу не пошел, а сколько уже книжек прочитал, думаешь все время. А генерал должен быть тупой, бессердечный.
Я этого не мог понять, но Меллаусис по-братски разделил оставшиеся яйца, и я ел так, что за ушами трещало. Потом я сел в танк, поехал в Подолию к королевскому дворцу и разнес его начисто; королевича я схватил за уши, и, вспомнив, что ливы делали с принявшими веру крестоносцев, приказал омыть его в старой протоке. Королевич сопротивлялся – он хотел жить и умереть в вере предков. Я обдумал этот вопрос и великодушно разрешил ему жить и верить в угодного ему бога.
Меллаусис на этот счет полагал так:
– Каждый пусть делает, что ему хочется, только другим не во зло, пусть даже птиц не трогает. Можешь охотиться на медведей и львов.
– Птицы хорошо поют, – согласился я.
– Кто птиц убивает, тот в себе человека убивает, безжалостный становится.
Я подумал – может, Меллаусис и прав. Птиц я не хотел убивать. Я стал стрелять львов и крокодилов; мои стрелы уже перелетали Конюшенный дом, ужасно зля пекариху, – еще глаз кому-нибудь выбьют! Как она не понимала, что я в людей не стреляю.
А Меллаусис все пил и пил. Уже до того допился, что приходил выпрашивать денег у матери – а где ей было взять, когда мы сами в лавочке задолжали! Квартирные, тут особое дело – мадам генеральша первого числа каждого месяца навещала наш чердак; мать знала, что тут никуда не денешься, потому и квартирные деньги никуда не могли деваться. Мадам генеральша приходилась мачехой дочери, которую с такой помпой выдали замуж. Первая жена, покойная, была благородная дама, русская княгиня; а эта, как говаривали царникавцы, «простая баба», но насчет того, как просаживать деньги, могла кого хочешь обставить.
Выдирать заработанное приходилось с трудом. А жажда у Меллаусиса была страшная, утолить ее было нечем, и все же он опять ухитрился напиться, – в первый школьный день, вернувшись домой, я нашел его в сарае на сене. Он корчился, странно хрипел, на губах черная пена, меня не узнавал. «Меллаусис, Меллаусис!» – испуганно закричал я и побежал звать взрослых. Пекариха тут же прибежала с теплым молоком – безотказным средством от всего, по ее мнению; сам пекарь поспешил в имение к телефону. Через полчаса на машине приехал адажский волостной врач. Ничто не помогло, Меллаусис умер; мне было всего семь лет, и я впервые видел, как умирает человек…
Его похоронили на церковном холме, у самого края, неподалеку от изгороди, и могилу предали забвению. Не то что спустя два года, когда при неудачном полете разбился сын местного хозяина Фейзака – студент. Айзсарги внесли его на плечах по самой круче холма к церкви, а не по петляющей дороге; винтовки с примкнутыми штыками поднялись в небо, резко хлестнул прощальный залп.
Люди долго говорили об этих похоронах. О Меллаусисе после смерти говорили только потому, что его мастер нашел досуха выпитую бутылку из-под политуры – последний смертельный глоток. Но ведь и так называемый питьевой спирт – яд, метил лишь ускоряет неотвратимый конец.
Я часто приезжал на берега Гауи, проходил мимо кладбищенской изгороди, но сквозь нее прошел только спустя тридцать восемь лет. Совсем иное время: Царникаву решили превратить в приморский город-курорт, отмели Гауи разбили на участки под застройку, выросли кварталы домиков, цвели яблони… Где же моя Фландрия, Подолия? Соловьи еще были, разливались так же, как и десятки лет назад, заросли ольхи погибли, кое-где еще торчит куст, но и он загажен. Вместо могилы Фейзака ровное место, но кусты зеленеют вокруг глыбы гранита, в ней виден портрет красивого парня-корпоранта; дальше к изгороди только трава, зеленая-зеленая от праха.
Меллаусис стоял возле Конюшенного дома, в поношенной одежде – рабочий человек, манишку и галстук он не носил – и говорил мне:
– Людей не стреляй, птиц не убивай!..
Школа. Светлый дворец.
Еще с самого раннего детства у меня была привычка кружить по комнате – руки за спиной, хожу и напеваю какую-нибудь песенку. «Вот еще певец-то будет», – говорила мать, полагая, что я выдался в музыкальных Киршфельдов. В школе выяснилось, что музыкальный слух у меня равен нулю. «Блеешь по-козлиному!» – одергивали меня в молодости, когда я, в веселой компании, закрыв глаза, увлекался и не только сам бог весть куда уводил мелодию, но и других сбивал. Но разве я когда-нибудь думал о мелодии? Думал, конечно, но вовсе не так, когда возился с Кантом или переворачивал Гегеля с ног на голову и обратно, мои размышления меньше поддавались словесному выражению, процесс заключался в потоке картин и настроений, вызываемых текстом песни.
Гарцуя по длинной чердачной комнате, которая была одновременно и кухней и жильем, я чаще всего пел (читай: «блеял») две песни: «Год идет за годом, все трудней в пути…» и «Сшей мне, батюшка, обувку…»
«Год идет за годом». Я видел, как они идут – вереницы месяцев. Май идет по ольшанику вдоль Гауи: распущенные волосы полощутся, жужжит совсем как жук. Нет, это не юноша и не девушка, это май, а апрель ему еще подбросил черемуховой белизны; потом июнь устилает одуванчиковым пухом приречные луга, приносит белые ночи и веселье, веселье… Июль дарит мне карманный нож, который вскорости я потерял, конфеты, поздравления – я же в июле рожден, под созвездием Льва, как Наполеон и другие великие люди. Август звенел серебром и обливался потом и, непонятно почему, хитро подмигивал зимним месяцам, обутым в валенки, о которых я мечтал, но так никогда не приобрел, в огромных ушанках (тоже предмет мечтаний, так и не обретенный), из-под которых торчит заиндевелая щетина и виднеются красные носы пьяниц. Летние месяцы приносили и бури, они ломали нераспустившиеся бутоны гвоздики, трепали и валили георгины, сбивали недозрелые яблоки, зато резеда пахла сладко, как одеколон, а на другое утро после непогоды водяная лилия нежно и коварно улыбалась из темной глубины. Порывы бури ее не трогали, она оставалась холодной, бездыханной, недосягаемой. Червяк высовывал черную голову из упавшего яблока и думал, как бы ему перебраться в другое. Я кружил по длинной комнате-кухне, и месяцы кружили в вечно повторяющемся коловращении лет. Годы приходили и уходили, у них ноги не уставали, и у меня тоже, но я знал, что чем ближе к страшной яме, тем ноги тяжелее, тело слушается все хуже, взор затуманивается… Передо мной еще дальняя дорога, для меня еще надо справить обувку – отца у меня уже не было, мать купила шнурованные ботинки. Конечно же мне хочется «в учение идти». Какое-то представление о школе у меня было. В Милгравский детский сад (подготовительная дошкольная группа) я ходил примерно полтора года. Там мы учились рисовать, раскрашивать цветными карандашами, вырезать фигурки из цветной меловой бумаги и наклеивать вырезки на простую бумагу. На пасху мы рисовали зайцев и яйца. На рождество зажигали елку и получали подарки; вместе с нами в хороводе ходил Домбровский-отец. В центральном рижском детском саду на улице Кришьяна Барона я пробыл всего несколько месяцев; тогда я часто являлся домой голодным – старшие ребята бессовестно обирали маленьких.
Какой-то будет Царникавская школа, настоящая школа?
«Вот я вырасту и стану…» Нет, нет, не пахарем. Я видел Казимира за плугом, эта неинтересная работа не по мне. «А не стать ли мореходом?» Любому понравится! Косые потолки чердачной комнаты сразу исчезают, перед моими глазами волшебно высокий свод, такой чистый, синий-синий, невиданный… И теплое море, коралловое море, волны колышутся, с зеленоватым отливом, в белой пене, острова со стройными пальмами, яркие цветы, среди которых поют и танцуют шоколадной красоты девушки. Буду моряком! На это у меня имеется, так сказать, моральное право – мать из рода знаменитейшего в Латвии моряка. Двоюродный брат дедушки капитан дальнего плавания Альфред Киршфельд считался лучшим навигатором в Латвии – недавно он получил золотой венок за сотый переход Атлантического океана. И материны дядья и кузены – капитаны, но уже не такие прославленные – такой мог быть только один. И другие материны родичи, с другими фамилиями, судовые механики, штурманы, матросы – моряки, моряки. Чего только они не повидали, где только не побывали, чего не переживали! В Атлантике столкнулись с огромным морским змеем, который вот уже столетия является сказкой и пугалом моряков всех народов, в Порт-оф-Спейне разгромили «под чистую» кабак, в Тель-Авиве «разживались апельсинами» в цитрусовых рощах, в Бискайском заливе чуть не пошли на дно, а там, где Берег Слоновой Кости, без малого не изжарились. Где-то на берегах реки Святого Лаврентия курили трубку мира с краснокожими, где-то в Девисовом проливе взяли на борт эскимосов – женщины уж такие пахучие были! Они рассказывали, что устья Амазонки даже увидеть нельзя – такое оно широкое, а Суэцкий канал такой извилистый, что встречный корабль издали кажется идущим по песчаной пустыне. Хватает у них рассказов и о недалеких английских угольных портах и французской стороне, где вино пьют как воду, а все девушки красивые, одни красотки. Да, моряки!
«Конным воином лихим»? Гм… уж воевать так воевать, только вот верхом мне не нравится. Кони эти кусаются, лягаются, копытом землю роют, иной раз понесут, а другой раз вдруг упрутся и стоят, и всаднику и тем, кого лошадь везет, приходится терпеливо ждать, пока это животное не справит нужду. То ли дело железный конь – его не надо особо кормить, ходить за ним, он полностью послушен воле человека. Рванул рукоятку – трах! – и пошла; если у тебя сильная рука и надежный глазомер, то нечего бояться, что мотор поскачет через канавы или вдруг из него повалятся «яблоки». Еще лучше в самолете – поверх всех этих дорог и канав. Правда, в газетах часто пишут про летчиков, что они бьются, но ведь разбиваются на автомобилях и на лошадях, даже на велосипедах, и, в конце концов, почему это именно я должен разбиться?








