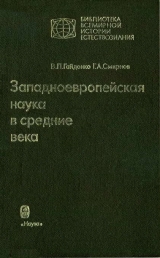
Текст книги "Западноевропейская наука в средние века: Общие принципы и учение о движении"
Автор книги: Виолетта Гайденко
Соавторы: Георгий Смирнов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 26 страниц)
И религия, и наука стремятся дать ответ на вопрос, что такое человек, но их подходы к рассмотрению этой проблемы совершенно различны. Для науки человек – это предмет изучения, когда с помощью методов внешнего наблюдения или интроспекции констатируются изменения его психофизического состояния. В рамках религии человек осознается как бы изнутри того реально осуществляемого процесса, который обозначается словом «жизнь». Этот процесс состоит в выстраивании (сознательном или бессознательном) определенной последовательности мыслей, чувств, поступков, предполагая возможность выбора того или иного «жизненного универсума». Религия утверждает, во-первых, что каждый универсум должен оцениваться не в зависимости от его эффективности в деле овладения природными или социальными силами, следовательно, не по числу внешних благ, становящихся доступными людям, а по тому, гарантирует ли он достижение внутреннего мира, согласия с самим собой, «бодрость и крепость духа», т.е., по христианской терминологии, блаженную жизнь. Отсюда вытекает, во-вторых, деление всех возможных «жизненных универсумов» на должные, обеспечивающие блаженную жизнь, и недолжные, делающие своих обладателей несчастными людьми. Наконец, и это, пожалуй, центральный пункт, религиозное мировоззрение настаивает' на том, что должное состояние внутреннего мира определяется соответствием его строя фундаментальным принципам миропорядка; человек приобретает искомую им точку опоры в той мере, в какой он прорывается из плена мыслей, чувств, переживаний, проистекающих из его повседневных забот о самосохранении и выживании, к вечным началам всего сущего.
Поэтому исходные установки рационального (в частности, научного) и религиозного отношения к миру диаметрально противоположны. Создание рациональной картины мира – это результат деятельности человека-творца, использующего имеющийся у него потенциал интеллектуальных, моральных и физических сил для постижения и упорядочения тех аспектов «бытия-в-мире», которые осознаются им в качестве сущностей, принципиально отличных от «я», в котором сконцентрирована его «самость» (источник познавательной активности), т. е. в виде объектов.
Взгляд на мир с позиции своего «я», сознание значимости последнего как творческого начала, ощущение автономии своей личности, выступающей в качестве «производящей причины» (субъекта) действий, вытекающая отсюда возможность свободного конструирования интеллектуальных миров, а также «второй природы», являются фундаментальными предпосылками возникновения и развертывания научной, да и любого другого вида рациональной деятельности. Для ее осуществления необходимо умение сформулировать и отстоять свое видение мира, способность настоять па своем, утвердить свою волю наперекор сопротивлению других воль. Волевое усилие необходимо не только в том случае, когда ученый хочет навязать свою точку зрения вопреки фактам – не об этой часто встречающейся, но аномальной ситуации в науке сейчас идет речь. Даже если ученый прав, он должен противопоставить свой взгляд на вещи мнению большинства, преодолеть (прежде всего в самом себе) представления, утвердившиеся в сознании людей, поддерживаемые традицией, авторитетом, «коллективным бессознательным». Самооценка человека, равно как и степень уважения со стороны окружающих, находятся в прямой зависимости от его способности отстоять свою правоту, от успешности его деятельности. Успех рождает чувство гордости своими свершениями, неудачи огорчают, появляется обида на тех, кто по достоинству не может или не хочет оценить предпринятых усилий.
Именно это, свойственное человеку и в его повседневной жизни, и в научной деятельности личностное самосознание, которое заставляло человека, не полагаясь на волю божью, искать лишь в самом себе последнюю причину всех поступков и возлагать на себя ответственность за их результаты, христианство считает главным препятствием па пути в «царствие небесное». Самым страшным грехом, по Новому Завету, является грех гордыни; он был причиной падения Сатаны, отпадения ангела от Бога. Вот как трактуется это отпадение в трактате Da casu diaboli (О падении Сатаны) Ансельма Кентерберийского (1033—1109), написанном в форме диалога учителя и ученика. В главе 4 «Как Сатана согрешил и пожелал быть подобным Богу» Ансельм разбирает вопрос о том, как у Сатаны могло возникнуть такое желание и что оно означало.
«Ученик: Если Бог мыслится как единственный, и немыслимо, чтобы что-то было подобно Ему, то как мог Сатана пожелать того, чего он не мог даже помыслить? Не так же туп он был, чтобы думать, будто что-то может быть подобно Богу.
Учитель: Даже если бы он не пожелал быть вполне подобным Богу, а пусть чем-нибудь меньшим, но что противно было бы воле Бога, тогда он все равно безрассудно желал быть подобным Богу – ибо он желал этого своей собственной волей, которая ничему не подчинена. Ибо это присуще только одному Богу – желать чего-то по своей собственной воле и не подчиняться никакой высшей воле» [71, 156—157].
О пагубности «своеволия» (без которого, заметим в скобках, нет человека-творца) предупреждает и младший современник Ансельма Бернар Клервоский: «…Нам лучше вовсе не существовать, чем пребывать принадлежащими только себе. Ибо те, кто желает принадлежать только себе, знающие, словно боги, доброе и злое, становятся принадлежащими не только себе, но и дьяволу» [11а, 276]. Примеров подобных изречений в христианской литературе не счесть. Но самый, пожалуй, выразительный мы находим в Евангелии. Когда Христос в ожидании мук молит о том, чтобы миновала его чаша сия, он прибавляет: «… впрочем, не как Я хочу, но как Ты» (Матф., 26, 39). Этим был задан образец поведения человека, отказывающегося от утверждения своей воли.
Почему же осознание себя творцом, превращение личности «в последнюю инстанцию» приводит, согласно христианским воззрениям, к ее разрушению? Потому, что это замыкает внутренний мир человека рамками его собственного сознания, не давая ему возможности отрешиться от забот по обереганию своего единичного «я» и закрывая выход в трансцендентную по отношению к «я» сферу. Выйти в нее можно только тому, кто обрел дар смирения, осознав себя «меньшим» («кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном» – Матф., 18, 4). Поэтому путь к Богу альтернативен пути к Разуму; «блаженны нищие духом», так как отсутствие столь важных для социальной и познавательной деятельности способностей исключает эгоцентризм сознания, поглощенного реализацией своих – вполне возможно, что очень важных, нужных для общества, – по укорененных в нем самом притязаний.
Конечно, противоположность двух типов экзистенциальных установок – творца и тварного существа – не означает, что они обе не могут быть реализованы в жизни одного и того же человека. Одновременное продвижение сразу и по пути разума и по пути веры действительно невозможно, поскольку каждый план существования имеет свои собственные законы. Но в принципе человек в разные моменты своей жизни волен в выборе того или иного измерения. При этом, будучи причастным обоим мирам, он может, действуя в одном из них, хранить память о другом, соответствующим образом корректируя свое поведение в мире, в котором он находится в данный момент.
Конкретизировать образы человека и мира, возникающие в рамках религиозного сознания, в отличие от видения тех же реалий с позиции научного подхода, позволяет анализ культурно-исторического материала. Сопоставим учение о человеке, как оно представлено в сочинениях христианских писателей патриотического периода, и платоновское учение о душе, говорящее о том, каким должен быть субъект теоретического знания, т. е. носитель той специфической (научной) формы сознания, которая как раз во времена Платона находилась в фазе своего становления. Это дает также возможность оценить дистанцию, отделяющую античную картину мира, которая, при всем несходстве с научными представлениями о мире последующих эпох, была, подобно им, продуктом деятельности теоретического разума, от интуиции, вошедших в культуру вместе с христианством.
Так как средневековая наука создавалась людьми, осознававшими себя в первую очередь христианами и лишь затем – учеными, причем христианами, не ограничивавшимися выполнением формально-обрядовой стороны церковности, а, как правило, достаточно глубоко воспринявшими дух христианского вероучения, то имплицитно подразумеваемая этим вероучением модель мира не могла, естественно, не наложить печать и на их научную деятельность.
Чтобы выявить образ мира, который вставал перед умственным взором средневекового ученого-христианина, следует обратиться не к тем сочинениям, где дается богословский синтез христианского вероучения, потому что там довольно явственно слышится также голос греческой философии. Обратиться следует к традиции, где меньше сказалось это влияние, к традиции монашеских наставлений и поучений.
Что составляет бросающуюся в глаза специфику христианского учения – это представление о ничтожестве человека в его обособленности от бога, т. е. человека, целиком поглощенного мирской жизнью; утверждение, что обрести себя человек может, лишь обратившись от мира к богу, и уверенность в том, что усилия, предпринимаемые человеком ради достижения внутренней полноты своего бытия, должны быть не чем иным, как молитвой.
Зададим вопрос: при каких условиях уход человека от внешнего мира, постоянное пребывание в молитве могут рассматриваться не как реакция на несчастья, обрушивающиеся на него в мире, а как поведение, наиболее точно соответствующее принципам самого мироустроения? Попробуем построить гипотетическую модель такого мира, в котором уединение и молитва предстанут как единственное состояние человека, не нарушающее его гармонии с онтологическими предпосылками, лежащими в основании мира.
Может показаться, что единственной онтологической предпосылкой, объясняющей такой способ поведения человека в мире, является сам факт признания существования бога. Однако и античность знает бога. Но представление о том, как должно вести себя в мире, в античности совершенно иное. Поэтому недостаточно простой ссылки на бога, необходимо выявить хотя бы в общих чертах ту онтологическую схему, которая стоит за христианским представлением о том, каково подлинное и каково неподлинное бытие человека.
Сначала мы попытаемся зафиксировать онтологические предпосылки, лежащие в основе античного учения о душе, – для античности сделать это легче, чем для соответствующего христианского учения. Для этого мы обрисуем в общих чертах античное представление о человеке. И здесь необходимо, прежде всего, отметить наличие многих черт, общих с христианским учением.
В античности мы встречаем и учение о несвободе человека, преданного житейским делам и страстям, и требование отрешенности от мира, требование направить ум к Высшему Благу, ради достижения внутреннего совершенства.
С особой силой и выразительностью звучат эти мотивы в творчестве Платона – философа, положившего начало традиции, в наибольшей степени повлиявшей на концептуально-догматическое оформление христианства: различения, введенные в платонизме, стали тем языком, который позволил осуществить перевод содержания христианского вероучения в систему богословского знания.
В диалоге «Федон» Платон противопоставляет реальное состояние человеческой души должному. Должное поведение человека состоит в сколько возможном удалении от всяких проявлений телесного.
Душа связана телом, когда ее общение с миром происходит только через чувственное восприятие, т. е. через тело, «словно бы через решетки тюрьмы», как говорит Платон. Если душа доверяет чувствам и принимает все, доставляемое ими, за истину, она неизбежно подчиняется страстям. Тогда душа погружается в мир, где нет ничего бытийно-устойчивого, где все находится в становлении и изменении, и изменчивым порабощается то, что единственно подлинно в душе, – ум. Умосозерцание – это совершенное состояние души, и к нему она должна идти под руководством философии, убеждаясь в обманчивости чувств и в том, сколь предпочтительнее для нее, говоря словами Платона, «верить только себе, когда, сама в себе, она мыслит о том, что существует само по себе» (Федон, 83в)[31]31
Здесь и далее диалоги Платона цитируются по: Платон. Сочинения: В 3 т. М., 1968—1972. Т. 2, 3.
[Закрыть] Душе должно жить, «внося во все успокоение, следуя разуму и постоянно в нем пребывая, созерцая истинное, божественное и непреложное» (Федон, 84а).
И подлинная суть всех вещей, и душа, познающая истину, в равной мере, согласно Платону, неизменны. Душа человека может войти в соприкосновение с тем, что по своей природе является текучим и неопределенным, действуя в мире, подчиниться диктату противоречивых чувств и страстей. Но это не есть ее истинное, должное состояние. Напротив, только оставив чуждую ей стихию изменения, достигнув состояния безмятежного покоя, она становится самой собой.
Однако высшее состояние души не есть ее бездеятельное состояние. Главное, что отличает душу, вырвавшуюся из стихии становления, – возможность приобщения к подлинной сути бытия. Как же происходит это приобщение? Посредством созерцания, утверждает Платон, но не чувственного, а созерцания идей, сути бытия.
Но созерцание возможно только в том случае, если есть и нечто созерцаемое, и тот, кто созерцает. В диалоге «Софист» (248 а—е) Платон недвусмысленно указывает, что созерцание – это взаимодействие двух реальностей, в результате которого одна из них (созерцающая) испытывает страдательное состояние. Для любого акта созерцания, будь то чувственное созерцание или созерцание идей, необходимо, чтобы созерцающий обладал бытием; бытие души – предпосылка осуществления акта созерцания, а не результат этого акта.
«Если существует то, что постоянно у нас на языке, – прекрасное, и доброе, и другие подобного рода сущности, – пишет Платон, – …если это так, то с той же необходимостью, с какой есть эти сущности, есть и наша душа, прежде, чем мы родимся на свет» (Федон, 76 а– е). В своей глубинной сути душа постоянна и неизменна. Она может быть вовлечена в стихию изменения, в мир страстей и вожделений; но она не растворяется в этой стихии, оставаясь внутренне ей чуждой. Поэтому что бы ни делал человек, каким бы порокам он ни предавался, античный мыслитель никогда не скажет, что душа этого человека мертва, что она полностью растворена в текучем и становящемся, которое и есть небытие.
Чтобы сказать, подобно Ефрему Сирину: «Душа умерщвлена грехом», «грехом умерщвляется и разлучается с богом душа» [28, 48—49], человеку надо ощутить, что весь он, – не только его тело, но и душа, – не обособлен от изменчивого, а находится внутри него.
Исходная интуиция, отличающая христианство от античности, состоит в убеждении, что в самом человеке нет ничего постоянного. Ум человека, его душа и тело, будучи предоставлены сами себе, находятся в непрестанном колебании, раздираются помыслами, желаниями и страстями. Сам человек не способен остановить этот хаотичный, несущийся поток; он и есть не что иное, как этот поток. Нельзя даже сказать, что ум, душа подвержены колебаниям; кроме колебаний, кроме непрерывной цепи возникновения и уничтожения, вообще ничего нет.
Но если суть человека самого по себе – это ничто, то он не имеет души в античном смысле слова. Человек, по выражению Ефрема Сирина, должен «приобрести душу свою» [28, 257]. Он должен искать опору существования за пределами своего ограниченного «я». Не будучи в состоянии вырваться из круговерти взаимопревращений, человек сможет приобрести внутреннюю устойчивость только в том случае, если подчинит хаос своих чувств, помыслов, страстей трансцендентному началу, способному обуздать буйство неуправляемой стихии, внести в нее закон и порядок.
Представление о боге как начале, вносящем порядок, согласие и закон внутрь стихии изменения, начале, творящем все, что есть (т. е. что обладает определенностью), из ничего (т. е. из того, что никакой определенности в себе не имеет), составляет, как нам кажется, главную онтологическую предпосылку, неявно лежащую в основании христианского понимания человека, объясняющую специфические черты христианской концепции. В ее свете становятся попятными те особенности, которые отличают христианское учение от античного.
Становится понятным постоянно повторяемый в раннехристианской литературе мотив – плач о человеке. Человек, в его отделенности от бога – ничто. Он достоин только скорби; сам по себе, в своей особности, он не способен преодолеть своего ничтожества, не может выйти из потока изменчивого – источника страданий.
Становится понятным и парадоксальное утверждение: чем глубже человек осознает свое ничтожество, тем легче ему обратиться к богу. Античный мыслитель не сказал бы о человеке так, как сказано во Втором послании апостола Павла к коринфянам (12, 7—9): «…Дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтоб я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова».
Для мыслителя античности ближе к Богу, к Единому, к подлинному Бытию те, кто имеет более совершенную душу, кому, следовательно, в большей мере присущи постоянство и неизменность. Для христианина наоборот: постоянство, упорство обособленного человека есть знак утраты подлинного бытия. Наиболее ясно это выражено в евангельском тексте: «… если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой и следуй за Мною; ибо кто хочет душу (жизнь) свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее; какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» (Матф., 16, 24—26).
С точки зрения христианства человек характеризуется не тем, что ему присуще, а тем, что он приобретает от высшего начала, которому он полностью отдается. Но быть послушным, пластичным материалом может только то, что не имеет в себе ничего устойчивого, никакой внутренней определенности.
«Велик подвиг и страх – хранить душу. Итак, надлежит тебе, – поучает преподобный авва Филимон, – совсем удалиться от мира и отторгнув душу от всякого сострастия телу, стать безградным, бездомным, бессобственником, бессребренником, бесстяжательником, бесхлопотником, бессообщником, невеждою в делах человеческих, смиренным, сострадательным, благим, кротким, тихонравным, готовым принимать от Божественного ведения вразумительные напечатления на сердце. Ибо и на воске невозможно писать, не изгладив наперед прежде начертанных на нем букв» [45, 362]. Этот сдвиг в мироощущении человека совершенно необъясним, если мы исходим из характерной для античности онтологии неизменных сущностей. Только в рамках совершенно иной онтологии, онтологии непрерывного процесса творения из ничего, он предстает как нечто естественное и понятное.
Здесь может возникнуть вопрос: не повторяем ли мы известные истины, усиленно подчеркивая, что творение из ничего и есть главная онтологическая предпосылка христианского миропонимания? Не является ли положение о творении мира из ничего одним из наиболее ясно и четко сформулированных пунктов христианской догматики? Действительно, и библия прямо и недвусмысленно говорит о том, что бог творит из ничего. Но утверждение о творении мира из ничего нуждается в истолковании; его можно понимать, как нам кажется, в двух, диаметрально противоположных, смыслах.
Если ничто, из которого созидается мир, интерпретируется как полное отсутствие чего бы то ни было, как абсолютная пустота, то акт творения оказывается актом полагания такого мира, свойства которого заранее ничем не обусловлены, – ибо этому миру ничто не предшествует, или, что то же самое, предшествует ничто. Результат абсолютного акта творения (творения из абсолютного ничто) совершенно непредсказуем, – на основании того факта, что нечто сотворено, невозможно умозаключить, каково оно.
Поэтому признание абсолютного акта творения в принципе совместимо с любой теоретической схемой, призванной объяснить, что именно существует в мире и почему оно должно существовать именно в таком виде, а не в ином. Иными словами, если принять абсолютный акт творения в качестве исходного принципа мироустроения, то необходимо, помимо него, ввести еще ту или иную онтологию, иначе сотворенный мир окажется рационально непостижимым.
Истолкование акта творения как акта создания мира из абсолютного ничто послужило, как известно, исходным пунктом для поиска рационального выражения смысла христианского вероучения – от системы догматов, принятых на вселенских соборах, до теологических конструкций, предложенных средневековыми мыслителями. Главная трудность, которая встала перед теологами, заключалась в том, чтобы найти ту онтологическую схему, на основе которой, с одной стороны, можно было бы объяснить мир, сделать его понятным для разума, а с другой – не прийти в противоречие с догматом о творении мира из абсолютного ничто. Эта трудность была, как известно, преодолена путем внесения онтологических представлений, выработанных в эпоху античности, в контекст доктрины творения. При этом, естественно, все характерные для античности принципы видения мира не претерпели сколько-нибудь существенной трансформации, – они были просто «пересажены» па новую почву. Отличие теологических построений от античных концепций состояло не в ином понимании причины устойчивости и определенности видимого мира, а лишь в том, что неизменные сущности, являющиеся их гарантом, начинают трактоваться как идеи божественного разума.
В результате все, обладающее реальным существованием, в том числе и человек, оказывалось, в полном соответствии с античной моделью мироздания, изначально укорененным в бытии, но не вечном, а созданном волей творца, носителем сущностного начала, способного противостоять зыбкой стихии изменения. Но тем самым ускользали от объяснения специфические черты христианского миропонимания: непонятно, почему христианин должен вести себя иначе, чем античный мудрец.
Возможна, однако, и иная интерпретация акта творения из ничего. Акт творения может рассматриваться не как акт, выходящий за пределы всякой онтологии, не как акт творения начал онтологического процесса, которые, будучи сотворены, затем уже сами обеспечивают определение всего остального. Напротив, акт творения можно рассматривать как онтологический акт, вызывающий к жизни содержание, предопределяемое самим актом. Онтологически значимая интерпретация акта творения предполагает, что ничто, из которого создается мир, означает не абсолютное отсутствие чего бы то ни было, а лишь отсутствие определенности, регулярности в неопределенном потоке изменения. В этом потоке все есть, – и в то же время ничего нет, ибо нет никаких устойчивых связей между тем, что находится в процессе непрерывного возникновения и уничтожения, нет никакого постоянства. Если понять библейское ничто как неопределенность, как абсолютную изменчивость, то тогда процесс творения из ничего будет означать внесение порядка и закона внутрь стихии изменения. Тогда то, что создается, будет существовать в качестве чего-то определенного не благодаря изъятию его из потока изменения, но лишь при условии непрерывного воздействия начала устойчивости. Так онтологически проинтерпретированный акт творения может рассматриваться как решение той проблемы, с которой не смогла справиться античность: как совместить изменение и устойчивость. Постоянство, присущее вещам этого мира, оказывается уже не смешением изменчивого с тем, что не имеет никакого отношения к изменению, – оно оказывается не постоянством неизменной сущности, а постоянством закона, правилом самого изменения.
Трансформация онтологических предпосылок влечет изменение трактовки смысла и цели человеческого существования. Поведение человека, осознавшего, что он сам по себе – ничто, что он находится в процессе непрерывного творения, будет совершенно иным, чем в том случае, когда он мнит себя существом, заключающим в себе основание своего существования и единства.
Находиться в процессе творения – это ежесекундно вновь рождаться в акте сопряжения двух начал: того, что вносит закон и порядок, и того, что составляет изменчивую основу всякого бытия. Оба начала – внутри человека; он есть не что иное, как непрерывный процесс их сопряжения. Если бог – это начало, вносящее закон и порядок внутрь изменчивого, то без бога нет человека. Но бог при таком понимании не есть нечто наряду с человеком, что-то отличное от него, – он внутри него, является одним из начал, творящих его бытие. Поэтому понятно, что только внутри себя можно обрести бога. Емкие и точные слова для выражения этого находит Августин в «Исповеди»: «И когда упорно в молчании искал я, безмолвные терзания души моей громкими воплями взывали к милосердию твоему… Все обращалось к слуху твоему, что я кричал от терзания сердца моего; пред тобой было желание мое, и света очей моих не было у меня (Псал., 37, 9—11). Ибо он был внутри, я же – вне. Он не в пространстве, а я обращался к тому, что занимает место в пространстве» [73, 213—214].
Допущение подобного рода онтологии объясняет многие специфические черты христианского учения о человеке, в частности необходимость постоянной молитвы. По христианским представлениям, душа, водимая вожделениями и помыслами, т. е. стремящаяся к тому, что преднаходится ею в сфере изменчивого, не только страдает, но буквально распадается, влечется в разные стороны своими противоположными стремлениями. Чтобы сохранить единство, человек должен устремиться к одному центру, к тому началу, которое является источником и гарантом единства. Это усилие, устремленность к Богу и есть молитва, и отсюда наставление «непрестанно молитесь» (I Фес, 5, 17), которое вслед за апостолом Павлом повторяют многие христианские писатели. Без такой устремленности к высшему началу не может быть достигнуто подлинное единство, ибо всякая связь, вносимая этим началом, тотчас была бы разрушена центробежными стремлениями души.
Таким образом, своеобразие христианского видения человека предполагает допущение особого рода онтологии, которую можно было бы охарактеризовать, в отличие от античной онтологии неизменных сущностей, как онтологию творения.
Онтологическая схема, «вычитываемая» из идеальной модели человека, утверждаемой в христианстве, важна прежде всего для прояснения принципиального отличия научного и религиозного подходов к осмыслению мира. Но не только для этого. В ее основе, как мы постарались показать, лежит определенная интуиция изменения. Конечно, она не могла быть просто перенесена из сферы религиозного сознания в науку. Но естественно предположить, что ощущение, вобравшее в себя опыт пребывания христианина ученого в одном из измерений духовного мира, склоняло к выбору определенного направления в другом. Интуиции, привнесенные христианством, не могли не повлиять на естествознание средневековья, на развитие его концептуального ядра – учения о движении.
Упомянутая онтологическая схема вынуждала к совершенно иной трактовке проблемы движения по сравнению с античной. Акценты существенно меняются: движение как таковое выступает на первый план, а вопрос о существовании чего бы то ни было устойчивого, определенного в мире оборачивается проблемой поиска начал стабильности не за пределами движения, а в нем самом. Это, конечно, только тенденция. Но, как будет показано в дальнейшем, развитие средневековой физики шло именно в этом направлении: от постулирования неизменных причин всякого изменения ко все более адекватному концептуальному схватыванию процесса движения путем выявления принципов, упорядочивающих его, т. е. формулировки законов движения.








