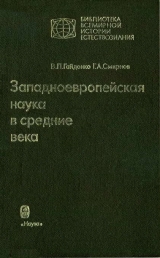
Текст книги "Западноевропейская наука в средние века: Общие принципы и учение о движении"
Автор книги: Виолетта Гайденко
Соавторы: Георгий Смирнов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 26 страниц)
В понятии «широта движения» совмещаются, таким образом, два аспекта: с одной стороны, моделируемый математической операцией вычитания, а с другой – схватываемый в понятии времени. Современный физик или математик сказали бы, что такое совмещение достигается благодаря соответствию, фактически устанавливаемому Хейтсбери между двумя множествами: множеством градусов скорости и множеством моментов времени. Но Хейтсбери этого не говорит, и не только потому, что идея такого соответствия, т. е. идея функциональной зависимости, только-только начинала формироваться. Сама исходная интуиция, лежащая в основе его доказательства, была другой. Хейтсбери, так же как и Суайнсхед, устанавливает закономерности, присущие равноускоренному движению, не путем ретроспективного анализа его особенностей, когда само движение уже прекратилось, а моделируя процесс его протекания. Равномерное движение для него – это движение, широта которого «приобретается или утрачивается» равномерно; только при таком взгляде на движение тела могла возникнуть необходимость в определении не всего времени его движения, а последовательности временных отрезков, из которых складывается время целого движения, а также возрастающей и убывающей последовательности градусов. Апелляция к движению не как к предмету изучения, а как к средству доказательства, позволяющему «пересчитать» все градусы скорости (эта конструктивно-доказательная функция движения особенно заметна в теореме Суайнсхеда, но без нее распались бы и все рассуждения Хейтсбери), не должна, по-видимому, расцениваться только как свидетельство недостаточной зрелости математической мысли (как известно, при установлении различного рода соответствий и функциональных зависимостей, согласно представлениям современной математики, нет необходимости привлекать понятие движения). Она заслуживает более серьезного отношения, поскольку в ней отразились моменты, существенные, на наш взгляд, для понимания не только генезиса идеи функциональной зависимости, но и самой проблемы.
Первое отличие «кинематической» трактовки проблемы функциональной зависимости от «математической» (подразумевая под последней прежде всего теоретико-множественное понятие функции, а также и другие формулировки, которые обходятся без какого бы то ни было упоминания о движении) очевидно: так как до окончания движения нет ни множества всех градусов широты, ни множества всех моментов времени движения, то нельзя говорить о соответствии между элементами этих множеств, ведь всякое соответствие предполагает предварительное наличие сущностей, между которыми оно устанавливается. Если же в последовательности градусов всякий следующий градус скорости достигается лишь по истечении определенного промежутка времени, то и самого градуса, и момента времени, соответствующего ему, нет, пока они оба не возникнут, причем изначально соотнесенные между собой, т. е. возникнут одновременно с их «соответствием». Ни градусы, ни время не будут играть роль независимых переменных – независимым, первичным, будет процесс движения (или его модель – работа «генератора»), а они будут производными величинами. Точнее, даже не величинами, ибо понятие «величина» обычно ассоциируется только с количественной величиной, т. е. с величиной, сопоставляемой и сравниваемой с другими величинами, сосуществующей с ними, имеющей, как и они, актуальное (вневременное) существование. Если их и называть величинами, то с прибавлением эпитета «порядковые», указывающего, что они, по своему исходному определению, не подлежат ни сравнению, ни сопоставлению; единственная их характеристика состоит в последовательности, в которой они получаются в процессе движения. Порядок, в котором они порождаются, задает изначальное соотнесение двух рядов величин; для обозначения такого соотнесения не нужно привлекать, помимо величин и их порядка (точнее, помимо «порядковых» величин), никакой особой сущности, подразумеваемой понятием «соответствия». Неприкрыто кинематическое введение согласованного развертывания двух рядов величин в работах мертонцев, т. е. создание ими кинематической концепции функциональной зависимости при всех ее недостатках, разделяемых ею со всеми первоначальными, прорисованными далеко не во всех деталях, формулировками новых идей, помогает, с одной стороны, понять истоки господствующей в современной математике «статичной» концепции, а с другой стороны, указывает на возможность альтернативного подхода к интерпретации понятия функциональной зависимости.
Приступая к изложению взглядов мертонских «калькуляторов», мы выдвинули утверждение о том, что ядром инноваций, внесенных ими в учение о движении, является изменение понятия величины. Это утверждение было рабочей гипотезой, определившей способ организации материала и угол зрения на проблему. Все затронутые в данной главе темы прямо или косвенно касались этого пункта. Теперь нам остается подвести итог анализу трансформаций, которым подверглось в работах мертонцев понятие величины.
Главным моментом, подготовившим почву для трансформаций, было соединение двух понятий: широты движения и величины. Когда Хейтсбери стремился показать, что средний градус широты будет средним не только «количественно», но и в смысле одинакового «расстояния», отделяющего его от крайних градусов, то он ссылался в качестве аргумента на тот факт, что «всякая широта есть некое количество, и поскольку вообще во всяком количестве середина равно отстоит от краев, так и средний градус любой конечной широты равно отстоит от двух краев, будут ли эти два края градусами, или один из них будет некоторым градусом, а другой – отсутствием всего, или не-градусом» [103, 279]. Но мертонцы не ограничились утверждением, что широта есть количество, т. е. величина. В их трудах мы находим более радикальную формулировку: «Любая величина есть широта от не-градуса до нее самой» [155, 158]. Она, пожалуй, лучше всего выражает суть концепции величины, развитой в Мертонколледже.
Поскольку широта мыслилась мертонцами состоящей из градусов, и в равноускоренном движении происходил пересчет всех градусов, предшествовавших максимальному, начиная с не-градуса (или некоторого минимального градуса широты), то максимальный градус оказывался не просто количественной «величиной», которую можно сопоставлять с любыми аналогичными величинами, но последним в «непрерывном ряду» градусов.
Что собой представляет такой «непрерывный ряд», уже говорилось. Теперь, проанализировав доказательства «кинематических теорем», мы можем понять и как он «конструировался» (имея в виду фактическую конструкцию, вырисовывающуюся из трудов мертонцев, а не их прямые высказывания). Понятие равноускоренного движения определялось мертонцами в два этапа. Сначала указывался порождающий процесс, состоящий в равных приращениях скорости за равные промежутки времени. Приращения скорости и промежутки времени определялись путем деления конечной широты, приобретаемой за конечное время, на равные части. Максимальный градус был поэтому конечным результатом некоторого дискретного преобразования, порождающего процесса. Затем предполагалось, что он будет конечным пунктом развертывания и других последовательностей – результатов иных способов членения данной широты. Предполагалось, иными словами, что максимальный градус является результатом развертывания бесконечного числа дискретных последовательностей, или, если представить все эти последовательности порождаемыми одним и тем же «генератором», результатом «непрерывного» процесса порождения. Будучи таковым, он оказывался, во-первых, «порядковой» величиной, а, во-вторых, даже не величиной, а одним из моментов «непрерывного» ряда градусов, который только весь целиком мог бы быть назван величиной, а именно переменной величиной, поскольку процесс движения моделировался изменением значений градусов скорости,
Мертонские исследователи не разработали адекватной символики, которая дала бы им возможность ясно сформулировать понятие переменной величины. Эта символика появилась позднее в работах математика XVI в. Виета. Но представляется справедливым мнение А. П. Юшкевича, что «нельзя не оценить высоко проницательность людей, которые в XIV в. высказали, хотя бы и в нечеткой схоластической форме, несколько руководящих мыслей новой математики переменных величин» [67, 202—203].
Следует, однако, заметить, что первоначальные формулировки идей – это не просто несовершенные образы более поздних разработок. Нередко в них заключены потенции к развитию исходной идеи в нескольких направлениях. Так обстоит дело и с концепцией величины, вырисовывающейся из работ мертонской школы. Мы попытались показать, что новая концепция величины формируется на фоне явно не высказанной, но подразумеваемой идеи развертывания (порождения) последовательностей. Понятие интенсивной скорости, да 'и сам факт обращения к проблеме движения, не просто стимулировали введение новых математических понятий, которые сами по себе могли быть поняты и объяснены без апелляции к какой-либо модели движения. Мертонцам удалось высказать ряд «руководящих мыслей», касающихся идеи функциональной зависимости и переменной величины именно потому, что они впервые начали разрабатывать концептуальный аналог движения – его «порождающую модель». Трудности, которые подстерегали исследователей на этом пути, прежде всего связанные с необходимостью оперировать с непрерывными величинами, заставили математиков последующих столетий выбрать другой путь, который привел к исчислению бесконечно малых. Математика непрерывного отделилась от конструктивной математики, обратившись к понятиям, в определении которых существенную роль играла идея актуальной бесконечности, т. е. к понятиям, которые в принципе не поддавались интерпретации в терминах дискретных последовательностей. Мертонские «калькуляторы» (с этим согласно большинство историков науки) предвосхитили ряд основополагающих идей математики непрерывного, но в их работах содержится и нечто другое: попытка (пусть очень неуверенная) найти, так сказать, «конструктивный» подход к решению проблемы непрерывности. Хотя их усилия в этом направлении не были продолжены последующими поколениями математиков, примечателен сам факт существования в истории науки такой концепции, которая не предполагала, в случае ее успешного развития, принципиального разрыва между конструктивными и неконструктивными методами, разрыва, наблюдаемого в настоящее время в математике. С этой точки зрения идеи, высказанные в рамках учения об интенсии и ремиссии качеств, представляют не только историко-научный интерес.
Заключение
В средневековой физике, как мы убедились, были сформулированы многие понятия и положения, близкие или в точности совпадающие с теми, которые впоследствии вошли в состав физической доктрины нового времени. Это прежде всего понятие скорости и связанное с ним представление о равномерном и равноускоренном движении, а также тезис о возможности движения тела в пустоте. Происходит формирование концепции пространства как условия движения, радикально меняется взгляд на роль среды в движении, происходит отказ (в теории импетуса) от требования непосредственного контакта двигателя с движимым. Тем самым создаются все предпосылки для переосмысления самого понятия движения, превращения его в не требующую объяснения характеристику тела. В это же время выдвигаются и «коперниканские» космологические гипотезы, самой важной из которых была гипотеза суточного вращения Земли вокруг оси, обсуждается проблема бесконечного пространства и множественности миров.
Наконец, область приложения математических методов в науке XIV в. была поистине всеобъемлющей. «…Никогда, ни раньше, ни позже, не было эпохи, которая в такой же крайней степени следовала количественному идеалу, как поздняя схоластика» [128, 340]. Часто цитируемые слова из Библии: «Ты все расположил мерою, числом и весом» (Книга Премудрости Соломона, II, 21), – санкционировали распространение математических методов, главным образом, в форме «калькуляций», на все сферы человеческого познания, и прежде всего на физику. Кажется, сделай физики XIV в. еще небольшой шаг, и не было бы нужды ждать целых три столетия, чтобы произошла научная революция, – столь основательному пересмотру подверглись весьма существенные стороны аристотелизма в позднее средневековье[90]90
Не случайно П. Дюэм назвал схоластов XIV в. «предшественниками» Галилея.
[Закрыть]. Почему же этот шаг так и не был сделан?
Этот вопрос возвращает нас к исходному пункту исследования. Чтобы ответить на него, надо иметь прежде всего достаточно четкие критерии, позволяющие на концептуальном уровне, а не только хронологически, различить два больших периода в истории науки. Необходимо сначала понять, где проходит линия водораздела между средневековой наукой и наукой нового времени, чтобы спрашивать, при каких условиях она могла быть преодолена. Так что мы здесь вновь сталкиваемся с проблемой, обсуждавшейся во введении: на какие моменты, характеризующие либо само научное знание, либо культуру, внутри которой оно функционирует, следует ориентироваться, чтобы уловить своеобразный стиль мышления, свойственный науке в тот или иной период ее развития, с тем чтобы понятия «средневековая наука», «наука нового времени» и т. п. приобрели достаточно определенный смысл. И хотя даже теперь, после ознакомления с рядом разделов средневековой физики, у нас еще мало данных – и фактического материала, и проработанных приемов его анализа, – чтобы, пусть в самых общих чертах, решить проблему реконструкции средневековой физики в целом или, тем более, всей средневековой науки, тем не менее проведенное исследование позволяет, как нам представляется, точнее сформулировать и саму проблему, и возможные направления ее решения.
Многие историки науки ставили перед собой задачу выделить один или несколько главных признаков, обусловивших своеобразие средневековой науки, в частности физики. Интересные соображения по этому поводу высказывает Э. Грант в книге «Физическая наука в средние века» [98]. Указывая, что новаторские идеи, выдвинутые схоластами XII—XIV вв., не сопровождались попытками реконструировать или заменить аристотелевскую картину мира, он обращает внимание на характерное для средневековой науки отношение к проблеме физической реальности. Известное осуждение 1277 г. привело к созданию необычного интеллектуального климата в науке и философии. Более не существовало убеждения, будто в объяснении причин и законов природы можно достичь однозначной определенности. Речь могла идти только о выборе наиболее вероятной из альтернатив. Схоласты довольствовались упражнением своей изобретательности, ставя и решая гипотетические задачи «согласно воображению» (secundum imaginationem). Логическое конструирование, а не поиск физической реальности было их главной задачей. В этой ситуации единственной физической доктриной, которая могла претендовать на знание о реальности, по крайней мере в кругах ученых, не настроенных номиналистически, был аристотелизм.
Коперник немного позднее также считал, что он строит гипотезы, выдвигая утверждения о суточном и годичном вращении Земли. Однако термином «гипотеза» он обозначал отнюдь не удобный способ «спасения явлений» и не более вероятную альтернативу. Только в том случае, полагал он, если гипотеза истинна, явления могут быть «спасены». Лишь начиная с работ Коперника, таким образом, формируется новый взгляд на соотношение теоретических конструкций и физической реальности. Неаристотелевские и антиаристотелевские идеи, которые до этого не вступали в конфликт с аристотелевской картиной мира, поскольку рассматривались как чистые фикции, е этих пор наделялись статусом конкурирующих объяснительных моделей. Консолидация и рост неаристотелевских идей в этих условиях приводили к разрушению аристотелевской системы и возникновению новой физики и космологии (см.: [98, 83—90]).
Вот почему, по мнению Гранта, научная революция не могла иметь места в средние века. В предложенном им объяснении фиксируется одно очень важное отличие средневековой системы научного знания от науки нового времени: теории, противоречившие основным постулатам аристотелизма, не принимались всерьез, рассматривались как продукт интеллектуальной игры. Но здесь возникает естественный вопрос: почему, несмотря на критическое отношение к любым попыткам познать истину, опираясь только на человеческий разум, характерное для христианского мировоззрения латинского средневековья, большинство натурфилософов и просто образованных людей той эпохи, говоря о природе, подразумевали картину мира по Аристотелю? Что заставляло отвергать все другие альтернативы, а в случае, когда та или иная новая идея все-таки принималась, проявлять невероятную изобретательность, чтобы выразить ее на общепринятом языке аристотелевской физики?
Обычно, отвечая на эти вопросы, ссылаются на разработанность и внутреннюю связность аристотелевской концепции[91]91
А. Койре в статье «Галилей и научная революция XVII века» пишет: «…Аристотелевская физика – это очень строго продуманная и очень связная система теоретического знания, которая, имея весьма глубокие философские основания, находится еще и в превосходном согласии с опытом…» [115, 5]. См. также: [98, 83—84].
[Закрыть]; в этом отношении с ней не могла соперничать никакая другая доктрина. Очевидно, что упомянутые факторы способствуют широкому распространению любой научной теории, но разве они гарантируют непогрешимость ее постулатов, делают их недоступными для критики? История классической науки знает достаточно примеров крушения тщательно разработанных концепций, так что приведенный аргумент звучит не очень убедительно.
Причина, по-видимому, кроется в другом: средневековые естествоиспытатели говорили на языке аристотелевской «Физики», потому что никакого другого языка, пригодного для описания разнообразных физических явлений (быть может, исключая оптику) в то время вообще не было. Хотя неаристотелевские интуиции буквально носились в воздухе, но отсутствовали (или находились в зачаточном состоянии) формальные средства, необходимые для рационального – точного и адекватного – выражения их содержания.
В том чрезвычайно сложном и не сводимом к общему знаменателю конгломерате идей, составляющих в совокупности научное знание в определенную историческую эпоху, можно обнаружить пласты, принадлежащие в концептуальном отношении разным периодам в развитии науки. Наряду с архаическими слоями, содержащими «окаменелости» научной мифологии предшествующих этапов истории науки, в нем обязательно есть и зародыши будущих открытий, и теории, ведущие «в никуда». Не будь стержня, скрепляющего воедино многоцветную мозаику научных понятий, гипотез, теорий, объяснительных моделей, эмпирических данных и т. п., ни о какой науке как целостной системе знаний вообще нельзя было бы говорить. Но такой стержень есть: эту функцию выполняют формально-языковые структуры, которые упорядочивают знания в соответствии с «априорными» схемами, используемыми в науке в тот или иной период ее существования.
Под формально-языковыми структурами здесь подразумевается не сам по себе способ символической записи некоторого содержания, необходимый для того, чтобы высказать суждение о каком-либо предмете. Естественный язык прекрасно справляется с этой задачей, и, в случае необходимости, его всегда можно пополнить новыми терминами и понятиями, чтобы охватить новый круг явлений. Но назвать и рассказать о каком-либо явлении еще не значит иметь научное знание о нем. Научное знание, в отличие от суждений обыденного опыта, опирается, помимо данных опыта, на «истины разума», воздействующие на сознание ученого с силой непосредственной очевидности. Если опыт всегда допускает различное толкование, то интуиции, обладающие непосредственной интеллектуальной достоверностью, гораздо более отчетливы и определенны. Они могут стать совершенно отчетливыми и в то же время быть достоянием многих людей, не подвергаясь опасности неоднозначной интерпретации, когда они не просто названы или описаны, а явлены (репрезентированы) в языке. Тогда они начинают играть роль конструктивных схем, превращаются в формообразующий инструмент научного мышления.
Интуиция сущности и основанные на ней интуиции вещи, физического тела конституируют, в самом общем виде, предметную область схоластических исследований не только и не столько потому, что они без труда интерпретируются в терминах обыденного опыта, но благодаря возможности охватить и представить в чистом виде их самую важную характеристику – бытие в качестве самодовлеющих и выделенных единиц универсума – через наглядно воспринимаемую функцию подлежащего (субъекта) в системе аристотелевской логики. В ней же репрезентируются представления о свойствах вещей, их существенных и несущественных признаках, т. е. формах и качествах, и об отношениях, имеющих место между свойствами и их носителями, с помощью категории предиката и субъектпредикатных структур. В стремлении уложить весь эмпирический материал в прокрустово ложе формальной логики, которое в последующие времена создало схоластике дурную славу, нашла свое предельное (и не очень адекватное) выражение совершенно справедливая, как нам представляется, мысль о необходимости исходить при построении научного знания из предварительно фиксированных схем, задающих общие контуры того, о чем будет идти речь, т. е. конституирующих определенный тип предметности. Беда не в ее чрезмерном формализме, а скорее в отсутствии необходимого разнообразия формальных средств, на уровне языка моделирующих основные онтологические расчленения и взаимоотношения. Схоластика знала только один язык, пригодный для этих целей, – язык формальной логики, и потому он становится универсальным инструментом теоретизирования.
Формальная логика задавала тон в методологии средневекового естествознания, по-видимому, потому, что средневековая наука была прежде всего и главным образом наукой о вещах, свойствах вещей и взаимоотношениях вещей. Но может быть, гораздо более верно обратное утверждение: «вещная» онтология средневековой науки была обусловлена ориентацией на конструктивно-онтологическую схему, детально выписанную в «Аналитиках» Аристотеля? На протяжении всего исследования мы пытались раскрыть зависимость содержательной онтологии средневековой пауки от онтологических допущений, к которым обязывало науку принятие ею определенного языка.
Разумеется, такая зависимость не означала, что все существенные структурные связи, фиксируемые средневековой наукой, были лишь проекцией формально-логических различений. Под эти различения должно было подводиться любое построение, коль скоро оно претендовало на статус научного знания. Фактически, однако, в средневековой науке использовался, помимо доминирующей схемы, широкий спектр структурирующих принципов.
Прежде всего здесь следует упомянуть о столь же хорошо артикулированных схемах, что и доминирующая, которые, не будучи формально-логическими, примыкают к основной, внося необходимую детализацию. Сюда относятся используемые в средневековой физике методы представления движения тела через набор статичных состояний, целевое определение движения и вытекающее из него определение естественного движения через механизм толчка и тяги, на котором основывается объяснение насильственного движения, а также ряд других наглядных и очень простых схем, придававших аргументации средневековых натурфилософов особую – неэмпирическую– убедительность. В совокупности все эти принципы составляют как бы «несущую конструкцию» здания средневековой физики, вокруг которой группируются: во-первых, эмпирический материал, упорядоченный в соответствии с явно заданными схемами; во-вторых, теоретическая онтология – мир идеальных объектов, в котором реальный мир моделируется на основе языковых средств, воплощающих определенные структурные соотношения; в-третьих, фрагменты знаний, базирующиеся на иных принципах организации, чем те, что зафиксированы в стандартных приемах научного мышления, расписанных в виде формальных схем; и, наконец, в-четвертых, «заготовки» будущих схем – идеи, предвосхищающие открытие новых предметов научного исследования.
К таким идеям принадлежала прежде всего фундаментальная идея последовательности, res successiva (включая и тот аспект, который был обозначен нами как «непрерывная последовательность»), ставшая ядром ряда нетрадиционных концепций, сформировавшихся в лоне аристотелианской физики, но по-настоящему осознанная только в новое время, когда она впервые получила адекватную формулировку. Наиболее тщательный анализ, которому эта идея подверглась в средние века, а именно осуществленный школой Оккама, отразил присущую всему средневековому мышлению тенденцию свести специфическое содержание данной идеи к базисной интуиции аристотелизма – интуиции покоящегося тела, интерпретируя последовательность как ряд статичных состояний, через которые проходит тело в своем движении. И хотя в мертонской школе эта идея превращается в рабочий инструмент построения кинематической модели движения, но и мертонские «калькуляторы» не имели в своем арсенале достаточного набора средств для ее выражения, в силу чего они вынуждены были пользоваться громоздким формальным аппаратом. Только 'после разработки методов исчисления бесконечно малых «непрерывная последовательность» превращается из регулятивной и с трудом поддающейся рациональному выражению идеи в основную «априорную» схему математического естествознания.
Следует ли отсюда вывод, что главная причина (или, во всяком случае, одна из основных), воспрепятствовавшая осуществлению научной революции в средние века, кроется в отсутствии надлежащим образом разработанного математического аппарата, непонимании того, что книга природы написана на языке математики? Революционизирующее влияние на развитие физики методов математики в XVI—XVII вв. неоспоримо. Однако вспомним, какую страсть к использованию математических вычислений питала средневековая наука, особенно в XIV в. Значит, дело не только в том, что наука нового времени прибегает к языку математики, которого не знает средневековье, но и в том, что собой представляет эта математика и какая роль отводится ей в познании природы.
Эти соображения заставляют критически отнестись к оценке сути переворота, происшедшего в науке в XVI—XVII вв., которая содержится в статье А. Койре «Измеряемый опыт» (Une experience de mesure). Отметив, какое большое значение придавал Галилей использованию геометрических методов в естествознании, Койре пишет: «Для достижения своей цели классическая (XVII—XVIII вв.) наука должна заменить систему изменчивых(flexible) и полукачественных понятий аристотелевской науки системой жестких и строго количественных понятий. Это означает, что классическая наука подставляет вместо качественного мира здравого смысла (и аристотелевской науки) архимедов мир геометрии, сделавшейся реальной, или – что то же самое – вместо оценок ”более или менее”, характерных для повседневной жизни, строит универсум измерения и точности. Такая подстановка автоматически приводит к исключению из этой вселенной всего, что не поддается точному измерению»[115, 90—91].
Койрё делает здесь, по существу, два разных утверждения, не различая их между собой. Первое – что возникновение науки нового времени теснейшим образом связано с введением процедур измерения физических величин[92]92
Проблему измерения, как она решалась в процессе становления классической науки, Койре подробно разбирает в работе Du monde de l’«a-peu-pres» a l'Universe de la précision J112, 311—329]. Перевод этой статьи под заглавием «От мира “приблизительности” к универсуму прецизионности» см. в [40, 109—127].
[Закрыть]. Второе касается использования строго математических, в частности количественных, методов, пришедших на смену качественной установке физики аристотелизма. Несмотря на взаимозависимость, существовавшую в истории науки между проникновением математических методов в естествознание и разработкой процедур измерения, эти два процесса характеризуют существенно различные «этажи» классической науки. Посредством процедур измерения, интереса к которым не было, как мы знаем, ни в античности, ни в средние века, устанавливалось принципиально новое соотношение между теоретическими конструкциями и эмпирическим знанием. Математические же методы, применявшиеся в XVII—XVIII вв., были прежде всего средством построения самого теоретического знания. Именно последний аспект, затрагиваемый суждением Койре, нас и интересует.
Противопоставление качественного подхода античной и средневековой физики количественным методам классической науки – один из лейтмотивов, постоянно повторяющихся в историко-научных работах Койре. «Аристотелевская физика основана на чувственном восприятии и потому решительно не математическая. Она отказывается подставить математические абстракции на место красочных, качественно определенных явлений опыта, отрицая саму возможность математической физики, ввиду (а) неприменимости математических понятий к данным опыта и (б) неспособности математики объяснить качество и вывести движение», – читаем мы, например, в статье «Галилей и научная революция XVII века» [115, 5]. Там же он говорит о «парадоксальной дерзости» Галилея, отважившегося «трактовать механику как математику, т. е. подставить вместо реального, данного в опыте мира, мир геометрии, принятой за реальность, и объяснить реальное с помощью невозможного» [115,4].
Оппозиция «качественное описание—количественные (математические) методы» является базисной не только в концепции Койре; она используется во многих историко-научных работах в тех случаях, когда необходимо выявить специфику аристотелианского этапа в развитии физики в отличие от любого варианта математического естествознания. Сошлемся, в частности, на упоминавшуюся ранее монографию В. П. Визгина «Генезис и структура квалитативизма Аристотеля», в которой физическая доктрина Аристотеля рассматривается сквозь призму категории качества, определяющей, по мысли автора, своеобразие ее облика.
Для выбора указанного противопоставления в качестве основного при сравнении аристотелианской и галилеевской физики есть достаточно веские основания, включая высказывания самих творцов альтернативных физических концепций и учитывая роль, которую играет математика в их физических построениях. Дает ли это, однако, право квалифицировать, как это делает Койре, мир аристотелианской физики просто как мир здравого смысла[93]93
«Здравый смысл и есть, и всегда был средневековым и аристотелевским» [115, 5].
[Закрыть], чувственного восприятия, утверждая при этом, что «мышление, чистое мышление… лежит в основе “новой науки” Галилео Галилея» [115, 13]? Следует ли считать аристотелевское описание природы в терминах качества радикально отличающимся от математического описания, в каком-то смысле даже «антиматематическим»?
Ответ на эти вопросы будет отрицательным, коль скоро принимается сформулированный выше тезис о том, что предметность всякого научного знания (самые исходные структурные различения, определяющие «форму» сущностей, являющихся предметом теоретического рассмотрения) задается с помощью формальных схем, столь же «априорных», как и математические. Функцию таких схем в аристотелизме выполняли формально-логические различения, составлявшие основу вещной онтологии, и некоторые элементарные, собственно физические, различения, опиравшиеся на вещную онтологию. Базисные схемы аристотелизма, рассматриваемые с точки зрения критериев общезначимости и аподиктической достоверности, занимают в общей структуре научного знания то же положение, что и математика.








