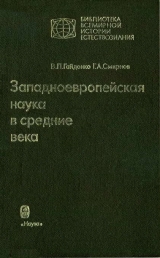
Текст книги "Западноевропейская наука в средние века: Общие принципы и учение о движении"
Автор книги: Виолетта Гайденко
Соавторы: Георгий Смирнов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 26 страниц)
В том же трактате Боэция «О Троице» мы находим еще более тонкий логический анализ структурных особенностей категориального аппарата средневековой науки. Напомним, что Боэций отличает чистые формы, каждая из которых представляет собой абсолютное единство без всякого различия, от вещей, составленных из различных частей. Боэций указывает, что форма сама по себе не может быть носителем акциденций, т. е. в мире чистых форм ни одна из них не может приписываться другой. Функцию объединения различных форм выполняет то, что противоположно формам, – материя. Вещь возникает отнюдь не в силу соотношений, устанавливаемых между ее различными свойствами (формами), а с помощью предицирования безотносительных форм одному субстрату. Отсюда становится понятным, что ни о каком внутреннем единстве различных свойств здесь не может быть и речи: вещь есть нечто составное, а не единое.
Различным аспектам содержания вещи соответствуют и различные способы высказывания о вещах. Боэций, следуя Аристотелю и неоплатоникам, выделяет десять категорий, применимых ко всякой вещи. Три из них, уже упоминавшиеся, – категории субстанции, качества и количества, – он называет «соответствующими» вещи.
В отличие от остальных категорий, «эти, о чем бы они ни сказывались, делают этот предмет именно тем, что о нем высказывается» (ut in quo sint ipsum esse faciant quod dicitur) [78, 18]. Говоря о чем-либо: «человек», «бедный», «большой», – мы выделяем то, что характеризует вещь как таковую, что является ее собственными предикатами. Напротив, если мы относим к вещи, например, предикат места, мы вовсе не предполагаем, что в. этом случае «предикат и то, чему он приписывается, одно и то же»,[78, 20], – ведь вещь остается той же самой, если она находится в ином месте. Последние семь категорий соотносят предмет высказывания с обстоятельствами, внешними по отношению к вещи, не делают его тем, что ему приписывается в высказывании, как это имеет место при употреблении трех первых категорий.
Далее Боэций указывает принципиальное отличие между способами предицирования этих категорий в случае, когда речь идет о вещах, и в случае, когда субъектом высказывания является бог. Будучи отнесенными к вещи, эти категории разделяют ее на совокупность отдельных предикатов, «в боге же все они связаны в единство» [78, 18]. В боге (в отличие от вещи) нет ничего, кроме того, что он есть, поэтому в нем нет никаких акциденций, никакой множественности, т. е. все предикаты, которые ему могут быть приписаны, тождественны друг другу. «Так, если мы говорим: “человек справедлив” или “бог справедлив”, – то предполагаем, что сам человек или бог суть “справедливые”. Но здесь есть различие: ибо “человек” – это иное, чем “справедливый”, а “бог” – то же самое, что “справедливый”» [там же].
Различие «соответствующих вещи» предикатов – основа ее составленности из отдельных, самостоятельных частей. Единство бога предполагает отсутствие различия между предикатами, конституирующими данную реальность. В боге нет и не может быть различия, обязанного своим возникновением категориям, «соответствующим вещи», иначе он не был бы единым. Но в нем может быть различие, обусловленное категорией, применение которой не может ничего изменить в сущности того, чему она приписывается, – а именно категорией отношения.
Отличие категории отношения от категорий, «соответствующих вещи», поясняется Боэцием на примере отношения раба и господина. «Очевидно, что если мы упраздним раба, то не будет и господина, с другой стороны, если мы упраздним, например, белизну, то не будет и белого; однако между этими двумя случаями большая разница. Белое погибнет с уничтожением белизны, поскольку белизна является акциденцией белой [вещи]. Что же касается господина, то как только перестанет существовать раб, господин лишается того имени, благодаря которому он назывался господином (но сам он не исчезнет). Ибо раб не является акциденцией господина, как белизна – акциденцией белой [вещи]; акциденцией господина является скорее некая власть над рабом. Однако поскольку эта власть с упразднением раба исчезает (а господин – нет), постольку ясно, что она не является самостоятельной акциденцией господина (акциденцией, соответствующей вещи), но что она, благодаря наличию раба, привходит в него извне» [78, 24].
«Следовательно, если Отец и Сын являются относительными, когда сказываются о чем-либо, и ничем, помимо отношения не различаются,.. – то относительное различие не привнесет никакого реального различия (alteritatem rerum) в тот предмет, о котором сказывается, но привносит, – если можно так сказать, пренебрегая словесным выражением того, что едва поддается пониманию, – различие лиц (personarum)» [78, 26][43]43
Последние две цитаты приведены в переводе Т. Ю. Бородай.
[Закрыть].
Это рассуждение Боэция, демонстрирующее найденный им способ решения альтернативы «неразличимое единство»—«наличие различий», заслуживает самого пристального внимания. В нем как в капле воды отразились самые характерные особенности средневекового стиля научного мышления. Онтологической значимостью наделяются только те принципы, которые позволяют выделить нечто отдельное и обособленное, тождественное самому себе. Эти принципы воплощены в категориях субстанции, качества и количества. Категория субстанции констатирует замкнутый, самодовлеющий характер того, к чему она относится. Быть субстанцией – значит быть значением отдельного слова, принадлежащего по своим грамматическим признакам к классу имен существительных; каждое существительное указывает не на другое существительное, а на свое значение. Значения, соответствующие разным именам, будут поэтому столь же обособленными, независимыми друг от друга, как и обозначающие их имена.
Как имени существительному в предложении могут приписываться те или иные предикаты, так и субстанция может становиться носителем акциденций. Признаки, присущие субстанции, могут быть двоякого рода: одни из них служат для спецификации этой субстанции как чего-то отдельного и обособленного от всего остального, – таковы признаки качества и количества; другие характеризуют взаимоотношение данного обособленного образования с чем-то иным. Будет ли та или иная категория «соответствующей вещи» или «не соответствующей вещи», для Боэция это определяется тем обстоятельством, что данная категория или конституирует безотносительную определенность или задает только относительную характеристику уже наличной безотносительной определенности. При этом предполагается, что относительные категории вторичны, – сами по себе они не могут выделить «то, что есть», они не дают возможности расчленить универсум на его составляющие: относительными признаками может обладать только то, что есть вне всякого отношения к чему-либо другому, т. е. нечто безотносительное.
Если принцип тождества, т. е. принцип полагания безотносительных определенностей, рассматривается как конститутивный (онтологический) принцип, то различие между какими-либо вещами (образованиями, строение которых предопределяется принципом тождества) оказывается простым следствием того факта, что эти вещи обладают несовпадающими безотносительными определенностями. Реально только различие безотносительных определенностей. Но поскольку каждая безотносительная определенность является самостоятельным, независимо существующим образованием, реальное различие – это различие вещей, обладающих самостоятельным онтологическим статусом. Другими словами, если утверждается, что одно реально отлично от другого, то тем самым предполагается, что оно обособлено в качестве самостоятельно существующей вещи.
Различия, обусловленные безотносительными определенностями, т. е. категориями, «соответствующими вещи», не могут, как справедливо считает Боэций, привести к различению, остающемуся в рамках одного единства.
Но не всякое различие сводится к различию безотносительных определенностей. Боэций стремится найти иной источник различия, и с этой целью он обращается к категории отношения.
Анализируя отношение раба и господина, Боэций нащупывает альтернативный способ полагания различий. Характеристика, благодаря которой человек называется господином, является не безотносительной, а указывающей на нечто иное, – на характеристику, отличающую другого человека, а именно раба. «Господство» не может, подобно «белизне», быть безотносительным признаком, составляющим определенность «этой» вещи. Поэтому то, чему приписывается «господство», не уничтожается вместе с исчезновением своего относительного признака. Таким образом, Боэций показывает, что различие, обусловленное отношением, в отличие от различия, основанного на принципе тождества, не ведет к признанию самостоятельного существования каждой из различаемых сторон: нет господина самого по себе, нет и раба также самого по себе. Относительная характеристика не приводит ни к возникновению, ни к уничтожению того, что по своей природе является безотносительным, т. е. самостоятельно существующим.
Однако, хотя относительные характеристики и не приводят к появлению различных вещей, они тем не менее (как показывает пример раба и господина) приписываются различным вещам. Тем самым относительное различие признаков всегда сопровождается абсолютным различием вещей – носителей этих признаков. До тех пор, пока относительные признаки будут вторичными, пока относительное различие будет различием, имеющим место между вещами, ни о каком единстве различенного не может быть и речи.
Гениальная логическая интуиция Боэция подсказала ему единственно возможный выход: совместить единство и различие можно только в том случае, если, во-первых, эти различия являются не абсолютными, а относительными, а, во-вторых, если осуществлению относительных различий не предшествует реализация безотносительных. Другими словами, единство многообразия достижимо лишь при том условии, если заменить античные онтологические принципы на другие, им прямо противоположные. Поскольку Боэций (как и последующие средневековые мыслители) сохраняет верность античному видению мира, его вещной онтологии, выразить представление о такого рода единстве многообразия он может, лишь апеллируя к трансцендентной по отношению к миру реальности.
В трактате Боэция Троица является не чем иным, как реализацией этой, по своему духу совершенно не античной, интуиции. Боэций ищет и с трудом находит слова, чтобы выразить свою мысль. Обращаясь к категории отношения, он видит в ней только источник различения, не приводящего к наделению различаемых сторон самостоятельным онтологическим статусом. Боэций не видит в самом отношении основания единства. Отношение создает лишь различие лиц Троицы, единство же ее обеспечивается отсутствием безотносительных различий. Отвергая безотносительный характер различаемых ипостасей, Боэций не сомневается в безотносительности Троицы в целом. Ему еще совершенно чужда мысль о том, что единство чего-либо может иметь своим источником не отсутствие различий, а их соотношение. Неантичная по своему духу интуиция первичного различения развертывается им на фоне традиционного представления о единстве.
Предугадывая неантичный тип единства многого – единства, предполагающего отношение различных моментов, Боэций тем не менее признает онтологическую, реальную значимость только за образованиями, определенными в соответствии с принципом тождества. Многие средневековые мыслители вслед за Боэцием будут пытаться выйти за пределы ограничений, налагаемых принципом тождества, и не смогут этого сделать. Ведь переход к картине мира, построенной на основе принципа отношения, предполагает, что главной сферой, в которой ищется определенность всякого знания, становится сфера активной деятельности. Но такой поворот осуществляется только в новое время.
Глава 3.
Схоластический идеал знания
Отличие средневековой науки от науки нового времени не сводится к различию их концептуального аппарата, к применению непохожих схем рассуждения и своеобразию понятийных конструкций. Сам идеал научного знания, которым руководствовались средневековые ученые, был принципиально иным. Он требовал от основополагающих структур науки такого соответствия действительности, которое бы обнаруживалось не post factum при сопоставлении их с теми или иными явлениями, а гарантировалось бы изначальной их соотнесенностью со структурой бытия. Об этом характерном для схоластики убеждении в том, что понятия разума укоренены не только в человеческом уме, но и в самом бытии, будь то в божественном уме или в вещах, уже упоминалось. Может показаться на первый взгляд, что и наука нового времени исходит из аналогичной предпосылки, поскольку предполагается, что концептуальные схемы, с которыми она оперирует, не являются чистыми фикциями: им ведь тоже что-то соответствует в реальности. Однако здесь есть одно существенное различие. В новое время, когда ученые используют формулы, чтобы описать структуру или изменение какого-либо объекта, они не стремятся найти в этом объекте аналог формулы; последняя им нужна для концептуализации явлений, которые сами не принадлежат к разряду концептуальных сущностей и не являются вместилищами последних. Когда же средневековый ученый смотрит на какую-нибудь вещь сквозь призму того или иного понятия, он пытается обнаружить само это понятие, скрытое под ее телесной оболочкой. Понятие мыслится как бы обладающим двойной формой существования: в человеческом уме и в бытии.
Реализм в широком смысле слова, как убежденность в том, что в самих вещах присутствуют аналоги понятий человеческого ума, был, по сути дела, рабочей гипотезой всей средневековой науки. Разногласия между концептуализмом и реализмом касались лишь одного пункта: имеют ли эти аналоги еще и самостоятельное существование отдельно от вещей – в божественном разуме (точка зрения реализма в узком смысле слова), или же отдельным понятиям человеческого ума соответствует только совместное существование их аналогов в вещах (позиция концептуализма). Когда же номинализм разрушил реалистическую (в широком смысле слова) презумпцию, из которой исходил ученый той эпохи, то это означало крушение схоластического идеала.
В следующей главе мы специально остановимся на коллизиях борьбы реализма, концептуализма и номинализма. Здесь же наша задача состоит в том, чтобы проанализировать суть той позиции, которую мы обозначили как реалистическую в широком смысле.
Убеждение в существовании изначальной связи между «формой» вещи, выявляемой с помощью понятий, и ее (формы) бытием порождало стремление зафиксировать эту связь в рамках концептуальных построений, совместив, таким образом, в одной конструкции эссенциальные и экзистенциальные моменты. Проявлялось оно по-разному: и в создании схем, демонстрирующих, каким именно образом соотносятся сущность и существование (обсуждение взаимоотношения указанных понятий – одна из главных тем схоластических дискуссий), и в попытке доказать, что, по крайней мере, одно, но самое важное понятие разума, а именно понятие бога, имеет непосредственную связь с бытием. Поскольку в таком доказательстве представление о боге, содержащееся в Писании, замещалось чисто рациональной конструкцией, то прорыв к бытию в точке, обозначенной одним из понятий разума, обеспечивал системе рационального знания в целом необходимый контакт с бытием.
Специфику средневековых концептуальных построений, как философских, так и научных, определяемую реалистической мировоззренческой позицией их создателей, поможет прояснить разбор доказательства бытия бога, принадлежащего Ансельму Кентерберийскому, который был и одним из основоположников собственно средневекового реализма. Это доказательство (онтологическое, по терминологии Канта) приведено в сочинении Ансельма Proslogion. Пожалуй, наиболее примечательный момент во всем рассуждении Ансельма – сама идея доказать бытие. Очевидно, что такое доказательство опирается на определенную интерпретацию категорий бытия и мышления. Все рассуждение может рассматриваться как способ взаимоопределения этих категорий, как средство выявления их смысла и значения. Чтобы уловить этот смысл, попытаемся ответить на вопрос: могла ли идея подобного доказательства возникнуть раньше, у античных мыслителей, или ее появление знаменует определенный сдвиг в концепции бытия и мышления, происшедший уже в период средневековья?
3.1. Античные предпосылки средневековой постановки проблемы бытия и мышленияМог ли, скажем, Платон поставить перед собой задачу дать доказательство бытия некоторого понятия? По всей вероятности, нет. Ведь для него всякое подлинное понятие (идея) изначально бытийно. Мысль мыслит бытие, в отличие от чувств, погруженных в стихию небытия (становления). Умосозерцание прямо ведет к бытию, более того, только с его помощью и можно достичь бытия. Принцип тождества бытия и мышления, впервые провозглашенный Парменидом, – «Одно и то же мысль и то, на что мысль устремляется»[44]44
Парменид, В 8 [43]; см. также: Парменид, В 3: «мыслить и быть одно и то же».
[Закрыть], – находит в системе Платона свою последовательную реализацию. Каждая мысль (понятие) имеет значение, т. е. направлена на некоторый (как бы теперь сказали – идеальный) предмет. Парменид и Платон открывают и впервые фиксируют реальность особого рода: предметное (объектное) мышление, – такой способ функционирования мыслительной способности, когда каждая мысль, возникающая в сознании человека, является «мыслью о» чем-то, неотделимой от того, что мыслится. Если признать, вместе с Парменидом и Платоном, что предметное мышление является единственной способностью, позволяющей достичь истинного знания о мире, то мир будет адекватно постижим лишь в том случае, если мыслимые предметы будут не только чем-то «мыслимым», но если в них будет схватываться и выражаться суть того, что есть в мире. Поэтому царство идей (того, что мыслится) для Платона более реально, чем мир вещей. Вещи обладают бытием лишь в той мере, в какой они причастны миру идей.
Категория бытия у Платона получает двойное определение. С одной стороны, она вводится, как мы только что отметили, в рамках гносеологической оппозиции «бытие (= предмету мышления) – мысль». С другой – она имеет и онтологический смысл. Бытие трактуется Платоном как синоним устойчивости, определенности мира самого по себе. В этом значении оно противоположно становлению – текучей, совершенно неопределенной стихии. Хотя Платон часто говорит о бытии как таковом, вне его отношения к познавательной деятельности человека, характеризуя его как царство идей, имеющих объективную реальность, тем не менее, как было показано в главе 2, описание платоновских идей неявно включает в себя указание на гносеологическую позицию субъекта. Для Платона субъект подлинного знания тождествен мысли, а объект – предмету мысли. Задача человека состоит, следовательно, в том, чтобы очистить себя от всего, что не есть субъект мышления, – освободиться от чувственных склонностей, вызволить мыслящее начало из темницы, в которую оно заключает себя, подпадая под власть материи (тела). Выход из сферы чувственности в сферу мышления – это условие перехода от небытия к бытию. Мысль мыслит бытие, поскольку она не есть мысль данного человека – существа, могущего в принципе существовать и вне процесса мышления; «мыслящий субъект» никоим образом не тождествен отдельному человеку. Освобождаясь от тирании чувственности, человек, по существу, выходит из состояния обособленности на тот уровень сознания, где есть изначальная соотнесенность с тем, что не есть он сам, и где он не встречает никакого сопротивления со стороны объекта, – мир объектов для него совершенно прозрачен.
Аристотель, в отличие от Платона, начинает свое построение не с констатации определенной установки сознания, не с анализа познавательного акта, а с принятия оппозиции «субъекта» и «объекта» («вещи») в качестве исходного постулата. «Вещь» – это то, что не есть субъект, не-субъект, если можно так выразиться, и ничего больше о ней нельзя сказать. Она не совпадает с результатом функционирования какой-либо познавательной способности: хотя она может быть и предметом чувственного восприятия, и предметом мышления, однако она остается принципиально несводимой к действию любой способности, лежит по «ту сторону» каждой из них, как в отдельности, так и вместе взятых. Аналогично и мысли субъекта (не говоря уже о чувствах) – это прежде всего его собственные мысли, для которых всегда существует возможность несовпадения с бытием. Субъектом познания у Аристотеля оказывается конечное существо, осознающее себя окруженным вещами, т. е. тем, что не есть он сам. Вещь трансцендентна субъекту совсем в ином смысле, чем идея Платона, – она не просто противостоит ему как один из моментов познавательного отношения, она противостоит ему абсолютно, как совершенно иная реальность.
Статусом бытия у Аристотеля наделяются не идеи, а «первые сущности» – индивидуальные вещи, способные быть предметом чувственного восприятия. Перенос критерия существования с деятельности мышления на деятельность органов чувств («первичные сущности» неотличимы от вторичных с помощью одних понятийных средств) является, быть может, главным моментом, предопределившим характер и направление радикального преобразования, которому подверглась платоновская доктрина в трудах Аристотеля.
Не обладая способностью к непосредственному умосозерцанию бытия, аристотелевский субъект познания в то же время может иметь исчерпывающее знание о его структуре. Его возможности относительно знания форм и сущностей вещей, которые обеспечивают их определенность и устойчивость, столь же безграничны, как и у «мыслящего субъекта» Платона.
Это приводит к парадоксальной ситуации. Бытие закрыто от мышления субъекта, но структуры мышления полностью соответствуют реально существующим. Поэтому мир оказывается как бы состоящим из тех же предметов мысли, что содержатся в голове человека и соответствуют его понятиям и определениям, но только обладающих дополнительным атрибутом бытия, указывающим на их данность независимо от мышления. Сущность – онтологический аналог понятия – «привязана» к вещи, т. е. к тому, что изначально полагается как сущее само по себе.
В результате бытие в контексте аристотелевской метафизики предстает, с одной стороны, обособленным от мышления познающего субъекта (критерий существования не внутри мышления, а вне его), а с другой – выступает как некое свойство, привходящее к сущностным определениям вещи, которые не отличаются по своим характеристикам от продуктов мыслительной деятельности. Несколько огрубляя, можно сказать, что бытие, в смысле Аристотеля, означает не что иное, как полагание предметов мышления в виде независимых от субъекта мышления сущностей (беря это слово и в точном аристотелевском, и в привычно-разговорном значении, в котором оно употребляется в обыденном языке). На это указывает и способ введения понятия бытия в «Метафизике»– оно определяется как соответствующее понятийным структурам субъекта, но вне самого субъекта[45]45
«О сущем и не-сущем говорится, во-первых, в соответствии с видами категорий; во-вторых, как о сущем и не-сущем в возможности и действительности применительно к этим категориям и к тому, что им противоположно; в-третьих, в самом основном смысле (подчеркнуто нами. – Авт.) сущее – это истинное и ложное, что имеет место у вещей через связывание или разъединение, так что истину говорит тот, кто считает разъединенное разъединенным и связанное связанным, а ложное – тот, кто думает обратное тому, как дело обстоит с вещами» (Метафизика, 1051а 30—35 —1051в 5—10) [7, I, 249—250]. В случае несоставных вещей истина состоит в констатации наличия того, что действительно есть (см.: Метафизика, 1051 в 15—1052а 5) [7, I, 250—251], т. е. когда есть то, что соответствует сказанному.
[Закрыть].
Таким образом, по Аристотелю, предмет мысли расщепляется на два предмета: один остается в голове субъекта, а другой выносится вовне, становится сущностью, обладающей безотносительным (к существованию субъекта) бытием. Субъект уже не может соприкоснуться с бытием, опираясь на способность, с помощью которой он выходит, говоря кантовским языком, за пределы своего эмпирического «я», – на способность мышления. Как подчеркивалось, место бесконечного, непосредственно связанного с бытием субъекта Платона в аристотелевской системе занимает конечный субъект, вынужденный для установления контакта с бытием обращаться к свидетельству органов чувств. Но чувственное восприятие совсем по-другому удостоверяет в бытии, чем мысль. Поэтому одного чувственного восприятия недостаточно для познания мира. Но это означает, что цельное знание о мире как истинно существующем, возможность которого утверждалась платоновской системой, недостижимо в аристотелевской метафизике. Первоначальный идеал единого – бытийного – знания оказался расщепленным на две части, но не окончательно разрушенным. Стремление к его восстановлению владело еще многими мыслителями, творившими после Аристотеля.
Вводя новый критерий существования, Аристотель надеялся, по-видимому, сохранить прежний, платоновский, идеал знания. Учение о сущности формулируется в «Метафизике» как учение о сути бытия, что свидетельствует о замысле Аристотеля сопрячь в нем воедино концептуальные и экзистенциальные моменты. Демонстрируемая этим учением убежденность в бытийной (онтологической) значимости логических принципов, побудившая принять логико-грамматическую структуру языка за исходный пункт исследования структуры мира, предполагает, что мысль познающего субъекта укоренена в самом бытии. По своей способности аристотелевский субъект познания, который, опираясь лишь на силу мышления, может достичь истинного знания о мире, ни в чем не уступает платоновскому. Более того, в концепции Аристотеля просматривается связь, существующая между умом отдельного человека и космическим Умом; это также должно гарантировать мышлению непосредственный контакт с бытием.
Все это – очень важные моменты аристотелевской системы, свидетельствующие о том, что и после переосмысления платоновской концепции бытия Аристотель продолжает воспроизводить ряд ее основных интенций. Однако это ведет к возникновению серьезных противоречий в его системе.
Противоречива сама исходная постановка проблемы бытия как проблемы существования мира, независимого от субъекта, но состоящего из вещей, в точности соответствующих его понятиям, когда понятиям приписывается, с одной стороны, субъективный статус, а с другой – бытийная значимость. Неизбежно возникает вопрос: как описать реальность, главным свойством которой является ее «потусторонность» по отношению к мысли, можно ли вообще иметь знание об этих вещах, поддающееся ясной и недвусмысленной формулировке в языке, и каким образом схватить, что они собой представляют, выразить их «чтойность»? Очевидно, что стремление к определенности знания и тезис о трансцендентности того, на что направлено познание, отнюдь не просто согласовать между собой если вообще это возможно).
Отсюда рождаются многие коллизии средневековой науки и философии, начиная от контраверзы реализма и номинализма и кончая поиском концептуальных средств, которые обеспечили бы непосредственный переход от мысли к реальности (как это предполагается в онтологических доказательствах бытия Бога).
Но разведение мышления и бытия имеет следствием не только постановку ряда запутанных, порой неразрешимых проблем, – оно способствует освобождению теоретической мысли из-под гнета внешних впечатлений, приводит к осознанию автономии внутреннего мира человека, своеобразия идеальной сферы его существования. Ведь парменидо-платоновский тезис о тождестве бытия и мышления был фактически тезисом о тождестве фиксируемого в наглядных представлениях облика мира с его подлинной сутью, поскольку мысленные (понятийные) образы именно в силу своего бытийного статуса должны были соответствовать (чувственным) образам, возникающим в момент реального контакта человека с миром, отличаясь от них лишь своей устойчивостью и способностью функционировать в качестве четко определенного значения слов. Тенденция к обособлению теоретического знания, обусловленная проведением демаркационной линии, разделяющей бытие и мышление, совпала с одним из основных мотивов христианского вероучения.
Достижение главной цели; которую преследует христианство, – спасение души верующего человека – требует, в качестве непременного условия, сосредоточения на «внутреннем человеке», на духовном мире, требует безусловного отказа от привязанности к чувственным впечатлениям. Отказ от жизни в миру, уход в себя, проповедуемые христианством, сыграли далеко не последнюю роль в становлении теоретического мышления. Когда на повестку дня встал вопрос о создании картины мира, соответствующей духу христианского вероучения, развитое самосознание внутреннего, идеального плана человеческого существования в качестве особого измерения реальности, подчиняющегося своим собственным законам и обладающего специфической структурой, побуждало (в силу причин, о которых говорилось в первой главе) к осознанию специфики рациональных конструкций. В результате этого мышление обрело необходимую для конструирования теоретических схем свободу, право на выдвижение различных гипотез, хотя и направленных на объяснение объективной реальности, но отнюдь не путем создания ее зеркального отображения. Построение в XIII—XIV вв. конкурирующих теоретических моделей одних и тех же физических явлений знаменует новую фазу в развитии научного мышления, достижения им уровня теоретической зрелости.
Аристотелевская тенденция, с одной стороны, к отделению бытия от мышления, а с другой – к онтологизации предметов мысли, получает обоснование и дальнейшее развитие в трудах мыслителей средневековья.
В доктринах христианских теологов Бытие было отождествлено с Богом. Канонической предпосылкой такого отождествления послужили хорошо известные слова библейского текста: «Бог сказал Моисею: я есмь Сущий» (Исход 3, 14). Как отмечает Жильсон [94, 70], Августин, толкуя этот текст в буквальном смысле, тем самым приходит к постижению Бога как «бытия». В уме христианина нет ничего выше Бога, а поскольку из Писания известно, что Бог «есть Сущий», то отсюда делается вывод, что абсолютно первый принцип есть бытие. Поэтому Бытие занимает центральное место в доктринах христианских теологов, вся средневековая теология и философия оказываются не чем иным, как учением о бытии в буквальном смысле этого слова.
Представление о Боге как источнике бытия всякого «что» было завершающей фазой формирования чисто «объективной» онтологии. Бытие оказывается таким аспектом мироздания, который, с одной стороны, открыт человеку (в мире вещей, недоступных его уму), а с другой – не только противостоит ему, но и является (в своей первооснове – Бытии с большой буквы) совершенно ему трансцендентным и абсолютно независимым от него. Акт творения (т. е. сообщения бытия какой-либо вещи) – это божественный, а не человеческий акт. Суть его состоит в переходе от идей, существующих лишь в божественном интеллекте (большинство схоластов, описывая, каким образом Бог творит мир, используют тот или иной вариант теории идей), к вещам, уже обладающим способностью к самостоятельному существованию. К «чтойности» в акте творения привходит другой компонент, необходимый для возникновения вещи, а именно тот, который фиксируется словом «бытие».








