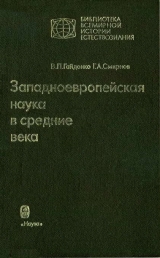
Текст книги "Западноевропейская наука в средние века: Общие принципы и учение о движении"
Автор книги: Виолетта Гайденко
Соавторы: Георгий Смирнов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 26 страниц)
Прежде всего необходимо уяснить смысл онтологических построений античных мыслителей. Если цель онтологических изысканий – познание реального мира, то как мог принцип тождества выполнять функции объясняющего начала? Нет ничего более чуждого реальному миру, чем неизменное, неразличимое единство. Должны ли мы рассматривать принятие этого принципа как свидетельство заблуждения или онтологические исследования древних имели какой-то иной смысл?
Здесь прежде всего следует различать два типа онтологии: «естественную» и теоретическую. «Естественная» онтология – это попытка создать картину мира на основе естественного языка, с использованием всего многообразного арсенала выразительных средств, присущих этому языку. Гибкость естественного языка, его поразительная способность служить посредником в выражении диаметрально различных точек зрения явились питательной почвой для появления столь различных натурфилософских систем досократиков. Картины мира, запечатленные милетцами, Гераклитом, Эмпедоклом, не похожи друг на друга, но есть одна черта, которая их роднит, – это то, что они в принципе не поддаются однозначному истолкованию – каждое изречение древних натурфилософов высвечивает содержание, переливающееся многими (часто неуловимыми) оттенками смысла, так что ограничение этого содержания каким-либо одним четко сформулированным значением неизбежно оказывается неадекватным, обедняет и искажает мысль древнего философа.
Другой тип онтологии, назовем его теоретическим, впервые в развернутой форме представлен в диалогах Платона, опиравшегося на методы философствования, намеченные пифагорейцами, элеатами и Сократом. Основная особенность, отличающая теоретическую онтологию, – это стремление к максимально четкой, недвусмысленной, однозначной фиксации содержания.
Как же достигалась однозначность? На первый взгляд кажется (и это мнение является общепринятым), что понятийная строгость возникает на базе естественного языка; употребляемым словам придается точный и по возможности единственный смысл, из многообразия значений, ассоциирующихся с некоторым словом, выбирается одно, – все остальные или отбрасываются, или им присваиваются иные, отличные имена. Иначе говоря, работа по уточнению понятий, приводящая к превращению слов естественного языка в термины, понятия языка теоретического, представляется как работа над содержанием.
Но можно ли в принципе достичь теоретической строгости понятий, вводя ограничения на их содержание? Чтобы ответить на этот вопрос, нам необходимо, хотя бы в самых общих чертах, наметить, в чем, собственно, состоит отличие теоретического языка от языка естественного, где проходит граница между «естественным» знанием, т. е. знанием, воплощенным в естественном языке, и теоретическим.
Самая характерная особенность естественного языка – это предметный характер фиксируемого им содержания. Произнося какое-либо слово, мы указываем нечто, некую реальность, которая ассоциируется с данным словом. Будучи значением слова, эта реальность предстает как самостоятельное, замкнутое в самом себе образование, совершенно независимое от субъекта и в то же время полностью ему доступное. Воспринимая слово, субъект как бы видит независимо существующую реальность, непосредственно соприкасается с ней.
Вообще говоря, такое ощущение непосредственного контакта с предметной реальностью, возникающее всякий раз у человека, коль скоро он прибегает к помощи естественного языка, является, безусловно, иллюзорным. Любой контакт, любое познание независимой реальности, как мы знаем со времен Канта, опосредованы деятельностью субъекта, невозможны без нее, но естественный язык совершенно не фиксирует те познавательные акты, которые должен совершить познающий субъект, чтобы осознать то или иное содержание, – он регистрирует только результат познавательного процесса.
Теперь мы можем ответить на вопрос: может ли привести работа по анализу содержания, зафиксированного средствами естественного языка, к превращению его в теоретически оформленное содержание, отличающееся однозначным и общезначимым характером своих компонентов? Очевидно, что теоретическая строгость недостижима, коль скоро мы остаемся на уровне естественного языка, на уровне «естественного» сознания: до тех пор, пока мы не будем отдавать отчет, какие именно познавательные акты мы производим, образуя то или иное представление, пока мы будем иметь дело с предметным содержанием, вырванным из контекста познавательной деятельности, мы окажемся неспособными зафиксировать именно «это», а не другое содержание в качестве значения данного слова. Нефиксированный, бессознательный характер познавательной деятельности служит неодолимым препятствием на пути к идеалу строгого и общезначимого знания.
Теоретическое знание возможно лишь при том условии, если мы перейдем с уровня «естественного» сознания, пользующегося естественным языком, на иной, теоретический, уровень сознания с присущей этому уровню концентрацией внимания на операциях, совершаемых субъектом познания. Теоретическому познанию соответствует теоретический язык, знаки которого в первую очередь фиксируют характеристики познавательных актов.
2.4. Античная и средневековая теоретическая онтология как результат созерцательной установки сознанияПервая система теоретического знания возникает в тот момент, когда Платон формулирует условия, которым должен удовлетворять человек, стремящийся достичь подлинного знания. Платон утверждает, что единственный путь, ведущий к такому знанию – знанию идей, – это путь созерцания, пассивного восприятия, а не путь действия. Здесь важно подчеркнуть, что подлинное знание, по Платону, – это знание, отличающееся абсолютной определенностью своего содержания.
По существу, Платон исследует вопрос об основаниях теоретического знания: как, на основе каких познавательных актов человек может достичь знания, неотъемлемой чертой которого является строгая и ясная определенность? Он формулирует один из возможных ответов на этот вопрос, указывая, что искать такое знание следует в сфере восприятия[42]42
Сам Платон употреблял термин «умосозерцание». Наряду с ним мы будем пользоваться понятием восприятия, чтобы акцентировать установку на восприимчивость, исключающую любое манипулирование с объектом познания. О восприятии в указанном смысле правомерно говорить не только по отношению к объектам чувственного познания.
[Закрыть].
Платоновская концепция строго определенного знания как знания, обретаемого на путях созерцания, допускает двоякое толкование. Причину четкого, однозначного характера такого знания можно искать вне субъекта, в том, что существует независимо от него. Именно такого истолкования придерживается сам Платон. Для того чтобы отыскать объективное основание строгой определенности, он постулирует существование мира идей, царства чистых определенностей. Познание таких объективно существующих определенностей предполагает, что субъект находится в состоянии абсолютной пассивности, – всякое его действие только искажает, размывает четкие границы чистой определенности. Но вполне возможен и иной ход мысли: источник определенности знания может усматриваться не в объективном существовании абсолютных определенностей, а в том, что сам субъект жестко ограничивает, определяет свои познавательные способности. Попробуем расшифровать термин «созерцание» не как обозначение недеятельного состояния, а как предписание, указывающее, как должен поступать субъект, если он хочет достигнуть четко определенного знания. Это предписание диктует ограничение познавательной деятельности сферой восприятия, исключает возможность активных действий. Покажем, что такое ограничение познавательных актов действительно приводит к образованию однозначных определенностей, обладающих именно теми характеристиками, которые Платон приписывал идеям.
Попробуем проделать следующую операцию: устраним из познавательного процесса все активные действия. Следствием этого будет немедленное превращение всякого познаваемого содержания в нечто неизменное, единое и неделимое. В самом деле, познание чего-либо изменчивого и многообразного требует выделения частей, а также перехода от одной части к другой, – без такого перехода между выделяемыми частями не будет никакой связи. Поскольку Платон фактически налагает запрет на любые активные действия субъекта, то при этих условиях субъект может иметь дело только с содержанием, схватываемым в однократных актах восприятия. Результаты таких однократных актов, изъятые из контекста активной, связующей деятельности субъекта, неизбежно будут осознаваться как нечто абсолютно неизменное. Однократный акт восприятия будет обладать требуемой однозначностью лишь в том случае, если содержание, схватываемое в нем, будет абсолютно простым и неделимым. Действительно, если акт восприятия схватывает многое, то это многое предстает в неартикулированной, нечеткой форме. Если же предположить, что четко выделены все части, то это свидетельствует о том, что внимание субъекта концентрировалось на каждой из этих частей, т. е. каждая из них была предметом особого акта восприятия, – но тогда мы имеем не многообразие, схваченное в едином акте восприятия, а многообразие, соответствующее различным актам восприятия, между которыми нет и не может быть никакой связи. Акт одного определенного восприятия может схватить одно, в буквальном смысле этого слова, т. е. такое единство, которое не имеет никаких частей. Коль скоро определенность ищется только в сфере восприятия, то возникает ситуация, описанная Платоном в «Пармениде»: если есть единство, то оно исключает какое-либо многообразие, – если же в качестве исходного пункта берется многообразие, то единство исчезает, хотя оно в то же время является необходимой предпосылкой существования каждого члена исходного многообразия.
Таким образом, платоновское учение об идеях является точным воспроизведением реальной ситуации, имеющей место в познании. Открытие Платона состояло не в том, что он обнаружил особый мир идей, а в формулировке того, что именно следует сделать человеку, чтобы его знание стало определенным. Почему же вообще без предварительного создания системы предписаний, относящихся к деятельности субъекта, невозможно достичь ясного и общезначимого знания о мире? Только наложив на свои собственные действия жесткие, строго определенные рамки, придав им форму и зафиксировав ее, познающий субъект может затем использовать эти формы в качестве категориальной структуры, позволяющей расчленить и упорядочить окружающий мир. Именно такова функция математики: математик не изучает мир, а продуцирует всевозможные формальные структуры, задающие способ организации материала при эмпирическом исследовании.
Предписания, сформулированные Платоном и Другими античными мыслителями, могут рассматриваться как первый (и очень интересный) шаг на пути формирования такого рода категориальных структур. Своеобразие этой системы, отличие ее от теоретических систем, появившихся в новое время, состояло в том, что акт восприятия играл роль призмы, сквозь которую рассматривался весь мир. Характеристики, свойственные четко выделенному акту восприятия, – неизменность, абсолютное единство, обособленность от всего остального, – будучи наложенными на реальный мир, задавали тип единиц, на которые расчленялось содержание этого мира. Таким образом, самые главные, типологические характеристики вещной онтологии были обусловлены не содержанием, а формой восприятия, способом ограничения познавательной способности.
Эти формально-типологические характеристики фиксировались в слове. Слово в онтологических построениях играло совершенно иную роль, чем в естественном языке. Если в словах естественного языка фиксируются результаты неконтролируемой деятельности человека, то слово теоретического языка – языка теоретической онтологии – диктует сам способ действия субъекта. Оно предписывало субъекту воздержание от любых проявлений активности, обязывало к вступлению на путь чистого созерцания, тем самым оно определяло типологические черты любой реальности, на которую указывало, независимо от того, каково было конкретное содержание этой реальности.
Присутствие такого рода формального аспекта в значении любого слова сообщало знанию, сформулированному с помощью слов-предписаний, искомую однозначность и общезначимость. Осознание того факта, что самые важные аспекты познаваемой реальности предопределяются формальным значением слова, и приводит к возникновению схоластического метода. Если слово как таковое несет информацию о структуре познаваемой реальности, то анализ слов (точнее, формального аспекта их значения) является естественным и единственно возможным способом познания основных свойств реального мира. При этом знание, полученное в результате такого анализа, по своей ясности и доказательности будет приближаться к математическому знанию, ибо оно получено в результате оперирования со строго определенными формальными значениями слов.
Таким образом, тот тип теоретического знания, который был выработан в античности, находит свое завершение в разработке схоластических методов рассуждения. Бесконечные дистинкции слов в работах схоластиков перестают удивлять, если учесть, что любое различение значений, выделение того, что может быть названо отдельным словом, ведет к изменению онтологической картины: ведь все, что может быть указано с помощью отдельного слова, приобретает самостоятельный онтологический статус; напротив, если в значении одного слова выделяются различные оттенки, то это значение утрачивает статус онтологической единицы.
2.5. Простое и сложное: категория вещи в трактате Боэция Quomodo substantiaeВ трактате Quomodo substantiae Боэций, исходя, подобно Платону и Августину, из предпосылки, что всякое существование является благом (а несуществование тождественно злу), ставит перед собой задачу разъяснить, как следует понимать утверждение, что все вещи, поскольку они существуют, являются благами. Если они благие по своей субстанции, то они ничем не отличаются от бога, для которого быть и быть благом означает одно и то же. Если во всех вещах будет иметь место такое тождество бытия и блага (составляющее отличительную черту божественного бытия), то каждая вещь будет богом, – вывод, совершенно неприемлемый для христианина Боэция. В каком же смысле они являются благими?
Боэций начинает с различения: Diversum est esse et id quod est (иное – бытие, иное – то, что есть) [78, 40]. Это означает, что во всяком сущем могут быть выделены два момента: то, что есть (существует), и само бытие. Самой точной характеристикой «того, что есть», по-видимому, является тот факт, что ему присуще (приписывается) бытие. Равным образом и бытие определяется в данном контексте как то, что может быть приписано «тому, что есть».
Как показал предшествующий анализ, для схоластики всякая определенность, отличающаяся единством, проста и неделима, не имеет различий. Поэтому естественно, что Боэций принимает в качестве аксиом следующие положения:
«Для всякого простого одно и то же его бытие и то, что оно есть.
Для всякого сложного (составного) одно бытие, другое – оно само» [78, 42].
По сути дела, он тем самым утверждает, что введенное различение имеет место только для сложного, – в простом, по определению, не может быть никаких различий. Но какую нагрузку несет указанное различение в том случае, когда речь идет о чем-то сложном, т. е. о вещи? Рассмотрим пример, приводимый Боэцием. Предположим, говорит он, что нет первого блага, от которого получают свое бытие все вещи, и что есть только благие вещи. «Отсюда я усматриваю, что в них то, что они есть благие, – одно, а то, что они есть, – другое. Предположим, что одна и та же субстанция благая, белая, тяжелая и круглая. Тогда сама та субстанция будет одно, иное – ее округлость, иное – цвет, иное – благо (bonitas); ведь если бы эти отдельные признаки (singula) были бы то же самое, что сама субстанция, то тяжесть была бы не чем иным, как самой субстанцией, а благо – тем же самым, что и тяжесть, а это по природе недопустимо. Отсюда следует, что одно в них просто быть, иное – быть чем-либо…» [78, 46].
Наличие многих свойств у вещи заставляет выделить субстанцию – то, что позволяет говорить о вещи как о чем-то одном, хотя этому нечто и не свойственно подлинное (т. е. неразличимое) единство. Многообразие свойств у одной вещи возникает в силу причастности одной общей основы различным неделимым определенностям. Но чтобы стала возможна такая причастность, необходимо, чтобы нечто уже было. «То, что есть – это то, что может участвовать, быть причастным чему-либо… Ведь причастность имеет место, когда нечто уже есть, а нечто есть, когда приняло бытие» [78, 40].
Действительно, прежде чем выделить многообразие свойств, присущее вещи, необходимо указать на «то, что есть», выделить существующую вещь как нечто целое, и в этом целом различить два момента: его бытие и то, что бытием обладает. У «того, что есть», лишенного свойств, нет никаких позитивных определений; поэтому незаконным является сам вопрос, что оно собой представляет. Его определенность исчерпывается указанием его отличия от факта бытия, всегда сопутствующего «тому, что есть». Это «то, что есть, может иметь что-либо, помимо того, что оно есть само», т. е. ему могут быть приписаны различные акциденции, но оно в качестве субстанции «есть то-то уже тем самым, что оно есть» [там же]. В отличие от субстанции акциденции будут чем-то не потому, что данная вещь существует, – основа их определенности лежит вне вещи.
Механизм образования сложной вещи, вырисовывающийся из рассуждений Боэция, таков. Первичны только те определенности, которые являются простыми и неделимыми. Все сложное возникает благодаря причастности «того, что есть» этим простым определенностям. Это представление о первичности простого, о причастности как способе конституирования сложного воспроизводит соответствующие ходы античного мышления. Новое здесь – более четко сформулированный тезис о том, что необходимым условием причастности является предварительное наличие того, что обладает бытием, – «того, что есть».
Бог, в контексте этого рассуждения, оказывается синонимом простой определенности бытия, тождественной благу. Боэций предлагает проделать любопытный мысленный эксперимент, позволяющий понять, что вкладывается им в понятие бога. Предположим, говорит он, что вещи «были бы только благими, не были бы ни тяжелыми, ни окрашенными, ни протяженными в пространстве, не имели бы в себе какого бы то ни было качества, а лишь были бы благими. Тогда это были бы не вещи, а начало вещей… Ибо есть лишь одно единственное, которое является только благим и ничем иным»,[78, 46].
Всякая вещь, поскольку включает, помимо бытия, ряд иных определенностей, должна прежде всего получить свое бытие от этого первого бытия, тождественного благу. «Поскольку они (вещи. – Авт.) не просты, они вообще не могли бы быть, если бы то, что есть единственное благо (т. е. бытие. – Авт.), не пожелало бы, чтобы они были» [там же].
Одно всегда предшествует многому – из этой аксиомы исходили античные мыслители. Например, Прокл утверждал, что «все первично и изначально сущее в каждом разряде (а разряд состоит из таких элементов, к каждому из которых приложимо одно и то же имя. – Авт.) – одно, и оно не два и не более двух, а совершенно единородно» [51, 39]. Поэтому, в полном соответствии с канонами античного теоретического мышления, бог как единственный носитель простой определенности бытия предшествует множеству существующих вещей. От него они получают свое бытие, становятся чем-то существующим, чтобы затем приобщиться к многообразию других простых определенностей.
Концепция «того, что есть» как неопределенного субстрата, которому лишь затем приписываются различные признаки, не была с полной ясностью сформулирована Боэцием, отождествлена им с понятием «быть чем-либо». Иногда Боэций отождествляет «то, что есть» с формой как с характеристикой, определяющей своеобразие вещи. «То, что есть» в этом смысле становится синонимом «быть чем-либо». Такое смешение возникло, скорее всего, потому, что Боэций, опиравшийся в своих онтологических изысканиях на различения, почерпнутые из сферы языка, не смог найти в естественном языке аналога тому способу введения категории «того, что есть», который был им использован; он не мог назвать содержания, выделяемого ею с помощью понятия, фиксирующего некоторый предмет. Ведь каждая вещь в обычном языке называется по ее свойству, – имя указывает не на нечто неопределенное, а на то, что является обладателем вполне определенного свойства. Поэтому оппозиция «быть» – «то, что есть» замещается в ходе рассуждения Боэция иной: «одно в них (вещах. – Авт.) было бы быть, иное – быть чем-либо» [78, 46].
Переакцентировка понятия «то, что есть» особенно заметна в другом трактате Боэция – «О Троице». Там он указывает, что никакая вещь, в отличие от божественной субстанции, не есть то, что она есть, поскольку в ней, помимо формы (определяющей «то, что есть»), всегда присутствует материя. Всякая вещь «есть и то, и то, т. е. сумма своих частей, а не просто то или это в отдельности. Так, поскольку земной человек состоит из души и тела, он есть душа и тело, а не душа или тело порознь. Следовательно, человек не есть то, что он есть» [78, 10]. «То, что есть» в этом рассуждении выступает как синоним простой, неделимой определенности. Сложная вещь, с одной стороны, предполагает, что есть такая определенность, которая создает форму вещи, а с другой – не совпадает с ней. «А что не есть из того и этого, но есть только это, то подлинно есть то, что есть, оно есть прекраснейшее и наиболее устойчивое, поскольку ни на что не опирается. Поэтому оно есть истинное одно, в котором нет никакого числа, ничего нет, кроме того, что есть» [там же].
Таким образом, пытаясь разрешить теологическую проблему, а именно – каким образом вещи, благодаря своему существованию, могут быть благими, – Боэций касается целого ряда вопросов, относящихся к сфере научного познания. Он бьется над решением центральной проблемы теоретического знания: ясно и недвусмысленно описать, из чего складывается единство многообразия, каков тип этого единства, в какой последовательности оно создается. Опираясь на предпосылки, выявленные античными мыслителями, Боэций в значительно большей мере, чем они, осознает специфически теоретический характер исследуемых им проблем, гораздо менее ориентирован на естественную онтологию. Он ничего не хочет заимствовать из обыденных представлений; содержание, с которым он работает, не предполагается заранее известным. Его язык – это не средство описания, а инструмент определения. В совершенстве владея этим инструментом, Боэций вводит строгое, во многих пунктах логически безупречное представление о той категориальной структуре, которая, будучи наложена на мир, заставляет его расчлениться на отдельные вещи, обладающие различными свойствами. Поскольку такого рода концептуальные структуры предопределяют специфику научного знания той или иной эпохи, Боэций, дав чисто логическое описание одной из них, игравшей доминирующую роль в миросозерцании средневекового человека (а именно вещи, единства многообразия, базирующегося на принципе тождества), стоит у истоков средневековой науки в собственном смысле этого слова.
Как же с помощью введенных различений Боэций решает теологическую проблему, сформулированную им в заглавии данного трактата? Вначале Боэций уточняет, в чем, собственно, состоит трудность. Он выделяет главное условие, при котором можно говорить о причастности вещи чему-либо: «…то, что домогается другого, само по природе таково же, как и то, чего оно домогается». Поэтому стремиться к благу могут только те вещи, которые сами суть благие. «Но следует спросить, каким образом они благие, посредством причастности или по субстанции?» [78, 41]. Предположим, что по причастности. Но «то, что является белым благодаря причастности, само по себе, через то, что есть оно само, не есть белое. Так же и с другими качествами. Значит, если они благие по причастности, то сами по себе они никоим образом не благие, следовательно, и не стремятся к благу» [там же]. Если же вещи являются субстанциальными благами, то они уже «тем самым, что они есть, являются благими и для них одно и то же быть и быть благими» [78, 43]. Тогда каждая вещь есть благо само по себе и «все вещи, которые есть, суть бог, что безбожно говорить». Поэтому вещи не являются благими ни благодаря причастности, ни тем самым, что они есть. «Значит, они вовсе не есть благие» [там же], – но такое заключение противоречит посылке, принятой в качестве допущения.
Это очень интересное рассуждение. Боэций, по сути дела, выявляет основное противоречие учения о причастности.
С одной стороны, причастность предполагает, что то, что приобретает какое-либо свойство благодаря причастности, само не обладает этим свойством. С другой стороны, нечто не может стать причастным чему-то, если оно не подобно этому «что-то», ибо в таком случае между ними никак не может установиться отношение подобия, которое составляет суть причастности. Противоречие концепции причастности состоит, следовательно, в том, что, неявно предполагая отличие того, что причастно, от того, чему оно причастно, эта концепция в явном виде постулирует только их тождество, не указывая, в чем же кроется источник их различия. Доказательство невозможности для вещей быть благими благодаря причастности опирается на показ внутренней противоречивости самого понятия причастности, – правда, Боэций ограничивается демонстрацией этого противоречия лишь в случае, когда речь идет о причастности благу.
Но как же все-таки вещи могут быть благими, не будучи ни причастными благу, ни субстанциальными благами? Боэций находит следующий выход: если бы в вещи было только «то, что она есть», то всякое свойство (в том числе и благо) могло бы быть присуще ей только в силу причастности (если, конечно, вещь не совпадает с этим свойством). Но поскольку «иное – быть, иное – то, что есть», то одно бытие может произвести другое; между первичным и вторичным бытием нет отношения причастности, так как «само бытие никоим образом ничему не причастно» [78, 40], поэтому утверждение, что одно бытие может проистекать из другого, свободно от противоречия, присущего отношению причастности. Вследствие того, что первое бытие тождественно благу, вещи, получая свое бытие от первого бытия (т. е. первого блага), являются не чем иным, как благами. Тем самым проблема решена.








