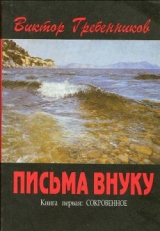
Текст книги "Письма внуку. Книга первая: Сокровенное"
Автор книги: Виктор Гребенников
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц)
Письмо восьмое:
ТВОЯ ПРАПРАБАБУШКА
Имени и отчества ее, увы, я не знаю. Вообще все, что было связано «с дворянством», от меня тщательно скрывалось. Но слишком уж много было в нашем доме «вещдоков», чтобы скрыть от меня все полностью. Прежде всего горы театральных журналов, из которых помню некий «Артистический мир», «Театр и искусство», «Рампа и жизнь», большущие папки с добротными фотографиями, наклеенными на широкие серые паспарту, сцен каких-то опер и так далее. Хорошо знал, что ни мать, ни отец, ни его предшественники (предпоследний муж матери был по фамилии Меженинов) вроде бы не имели отношения к «рампам», хотя категорически утверждать последнее не могу. Но я все-таки выпытал, что к театру имела самое прямое отношение моя бабушка, супруга В.В. Терского, коренная и постоянная в те поры москвичка (теперь меня удивляет: Виктор Викторович проживал-барствовал-охотился в далекой Таврической губернии, а его жена – в Москве. Тайны этого странного союза выяснить мне не удалось).
И еще оказалось, что два больших фотопортрета, явно театрального происхождения, один из которых висел-таки в нашей большой комнате – красавица-брюнетка с высокой прической и жгучими, точь-в-точь как у моей матери, глазами – изображали артистку Московского художественного академического театра, камерную певицу – мою родную бабушку.
Что за голос у нее был, что и когда она пела – дознаться я так и не смог. Зато уверен: из фотографий пусть нескольких сот камерных певиц враз бы нашел свою, может быть, вовсе и не знаменитую, бабушку.
Вот этот набросочек, сделанный по памяти, лишь отдаленно напоминает те, виденные в детстве, ее портреты. Как видишь, бабушкины глаза в какой-то мере "достались" и мне.

Быть может, по этим скудным данным ты когда-нибудь что-нибудь да разыщешь…
Отец, часто бывая в тридцатые годы в Москве по своим изобретательским делам, останавливался у маминой родни по проезду МХАТа, что недалеко от Красной площади, – как раз в том доме, где жил Собинов, чуть ли не на той же лестничной площадке. Не думаю, чтобы он обманывал, когда говорил, что пару раз видел там этого великого певца. Возможно, это квартира имела какое-то отношение к бабушке-певице. А может и нет…
В 1991 году кто-то из знакомых новосибирцев вроде бы слышал по московскому радио – в передаче о певице времен Неждановой – старые записи романсов певицы, чья фамилия походила на Терскую. Я заволновался, послал на радио запрос, потом еще и еще – безответно. Не нашли ее и в театральных журналах (правда, при весьма беглом просмотре некоторых из них). А вообще-то я не думаю, чтобы она выступала под дворянской фамилией супруга, хотя – кто знает…
У Терских, как это выходило из фотографий, писем, подслушанных обрывков разговоров (или громких семейных скандалов), было по меньшей мере трое детей: старшая Наталья ("Ната"), судьба которой мне неизвестна, младшая Ольга (моя мама) и еще сын. Имя его от меня было скрыто, но получалось, что он в 1922 году был выслан из СССР как интеллигент и потом банкирствовал вроде бы где-то в Румынии.
Кто-то из моих прямых или косвенных российских предков когда-то, каким-то образом породнился с американским и английским писателем и драматургом Шоломом Аш (а с какого боку-припеку – не имею понятия), о коем весьма похвально вещает даже Большая Советская Энциклопедия (том 2, стр. 471).
Может быть, у тебя появится возможность и желание распутать-разгадать сие мохом поросшее давным-давно забытое генеалогическое древо с его странными "отростками"? У меня ни возможности, ни духу на это не хватило: открыто говорить-писать о своем "наполовину аристократическом" происхождении позволили только недавно, зато реализовать поиск такого рода стало еще труднее из-за дико возросших цен на что бы то ни было. Надеюсь, когда ты станешь взрослым, хоть в чем-то станет легче…
Если в процессе твоих поисков окажется, что я в этих письмах в чем-то ошибся – не обессудь: до меня дошли лишь жалкие-прежалкие обрывочки слабых неверных теней моих предков и родственников, хотя по времени не столь уж вроде и далеких.
Да, вот еще что: никто из моих предков ни по отцовской, ни по материнской линии не пил спиртного. В нашем доме вообще не водилось ни капли не то что водки, но и вина. Только на картине – по-видимому старинного голландского письма, со скучноватым, но очень благородным серо-зеленоватым колоритом (красочный слой ее от древности был уже тронут романтической сеткой кракелюрных трещинок), мерцал блик на графине с какой-то жидкостью, налитой также в прозрачный кубок, и жидкость эта очень походила на светлое вино. Рядом лежали маслины, аппетитная рыбина на блюде и еще какая-то снедь. Говорили, что эту картину привезли когда-то из Москвы от той самой бабушки-певицы…
Письмо девятое:
ПУЛЕМЕТ
Это было в 1938 году. К нашему дому подкатил черный блестящий легковой автомобиль. Из него вышли двое в штатском, спросили отца, велели ему одеться в лучшее и немедля ехать с ними. Куда и насколько – неизвестно, хотя по всему чувствовалось, что неблизко и надолго. Тем более что повсюду арестовывали людей как «врагов народа». На вопрос, брать ли еду, люди в штатском ответили: нет, не надо, еда есть (в чем мы с братом убедились, увидев на миг в полуоткрытую дверцу ЗИСа, когда прощались с отцом, коробки с консервами, яблоками, колбасу). Всем нам настрого приказано было молчать, и «ЗИС-104» в мгновение ока исчез.
Мать рыдала, заходясь в истериках. Через день-другой к нам стали осторожно наведываться соседи (вся улица видела – из-за оконных штор, из щелей в калитках, как увозили отца) и советовать матери не убиваться так горько: это мол никак не походит на "обычную", известную уже всем горожанам, процедуру ареста. Арестовывали тихо – больше ночью дома или на службе, вызвав "к директору". Но всегда незаметно, и уж во всяком разе без яблок и колбасы.
Через десяток дней отец вернулся целым и невредимым. И вот что он рассказал. Оказывается, его вызывал лично сам нарком внутренних дел Ежов по поводу изобретенного отцом… пулемета.
Суть изобретения заключалась в следующем. Быстро вращающийся барабан с выемками должен был захватывать ими металлические шарики из бункера и посылать их в ствол с огромной скоростью, обсуловленной центробежной силой вращающегося ямчатого барабана. Шарики могли лететь, по желанию пулеметчика, либо с интервалами, либо почти сплошной металлической струей. Однако испытать модель пулемета в отцовской мастерской (по моим понятиям, высокооснащенной) не было технической возможности, и он предоставил заниматься этим соответствующим учреждениям, предусмотрительно послав копию своей заявки на изобретение (они подавались тогда в Комитет по изобретательству при СТО – Совете труда и обороны) еще и в НКВД (отец делал так всегда со своими многочисленными заявками – полная гарантия того, что он не "враг народа"; я, кстати, перенял опыт отца и нередко посылал копии своих просьб, жалоб, предложений, кроме основного адресата, еще и в обком КПСС, что нередко очень помогало, а иногда и наоборот; об этом – как-нибудь после).
Отца, оказывается, увезли на вокзал, посадили в купейный мягкий вагон, и он, вместе со своими провожатыми, вскоре оказался в приемной у Ежова. Но из-за войны в Монголии (у озера Хасан) нарком был сверхзанят, и отца продержали в его приемной два дня.
За это время эксперты разобрались, что пулемет Гребенникова работать не будет: ямки не успеют захватить шарики при бешеном вращении барабана, который и сам не вынесет такой скорости (разлетится от центробежной силы), а медленнее – не годится, ибо "пули" улетят тогда лишь на несколько метров.
…Обратный путь отец проделал тоже на курьерском поезде за казенный счет – исключая, конечно, колбасу и прочее.
Заявок на "военные" изобретения у отца было несколько: что-то "морское" (еще до революции: помню вежливый отказ какого-то императорского ведомства на гербовой бумаге), "реактивный паровоз" (пар выпускать не в цилиндр, а просто назад – в выдаче свидетельства отказали в 30-е годы) и еще что-то; однако одно изобретение этого "жанра" было-таки признано, а именно арбалет некоей хитрой конструкции (арбалетом называлось старинное оружие из стального тугого лука на деревянном ложе; стреляло короткими стрелами). Копию этого свидетельства 1931 года привожу здесь: не правда ли, по-своему занятен "научно-технический слог" той эпохи? А чего стоит отцовское "скромное": "…взамен дальнобойных винтовок"! И еще погляди на чертеж, выполненный рукою Степана Ивановича: чертил и конструировал он отменно.

Недалеко от этой "военной" серии изобретений были его "вечные двигатели" – перпетуум мобиле. Их у него было много конструкций, все они были выполнены в материале, блестели какими-то шариками, рычагами, ползунками, гирьками, и непременно должны были работать; к сожалению, для этого не хватало чуть-чуть "чего-то", и поэтому движение их после запуска замедлялось и, увы, прекращалось. Поэтому у отца рождалась новая, еще более совершенная, а значит и более сложная, конструкция, действующую модель которой он выполнял с завидным упорством и тщанием; результат был прежним…
В числе изобретений отца были и пишущие машинки (свидетельство № 49739 1934 года), и станки для насечки напильников. Дело в том, что когда-то он побывал в таком цеху, где огромной силы грохот приводил к тому, что рабочие теряли слух – вот тогда у отца родилась идея бесшумного, станка для насекания напильников, в котором зубило не ударяло бы в заготовку, а вдавливалось бы в нее.
Модель первой конструкции такого рода станка оказалась в работе настолько хорошей и надежной, что отец решил было устроить домашнее производство напильников. Однако во флигеле, где размещалась его мастерская, было лишь три комнаты, а слесарные напильники потребовали бы кузнечного, прокатного, закалочного цехов, не считая главного – насекального. Отличный выход из положения подсказала маникюрша, принесшая отцу "как-нибудь заточить" затупившийся напильничек для ногтей.
Через короткое время в самой большой комнате флигеля появился старинный дизель, работающий на керосине, у которого забавно качались и прыгали начищенные бронзовые и стальные детали; выхлопные газы уходили в железную трубу, проведенную через стену и крышу, а от большого маховика шел широкий ремень вверх к потолку.
Там, в высоте, по диагонали помещения цеха, в больших подшипниках, вделанных в стену, вращалась длинная толстая ось, на которую были насажены шкивы различного диаметра, а от них вниз, в разные стороны, шли приводные ремни, вращавшие различные станки, сделанные отцом тоже собственноручно. Я нисколько не ошибусь и не перехвалю отца, сказав, что несмотря на все его недостатки, Степан Иванович Гребенников был обладателем золотых рук Мастера с большой буквы.
Станки эти я опишу тебе потом, а сейчас скажу вот что: я научился у отца не только мастерить многое из металла, дерева, стекла и прочего, но и самозабвенно любить Труд. Не подневольный, рабский, а творческий полезный Труд, без которого, как я твердо убежден, наши обезьяноподобные предки никогда не стали бы людьми.
Нормально развитому и правильно воспитанному человеку обязательно должно хотеться что-то делать руками, притом постоянно, кроме разве сна: пилить, строгать, рисовать, писать, нажимать клавиши, рукоятки, гнуть, косить, двигать рычаги, бревна, камни, ловить мячи, грести, копать, лепить. Связь тут самая прямая: развиваются руки – совершенствуется мозг. Как-то я облил свои руки инсектицидом (что-то вроде дихлофоса) и сразу не вымыл; вскоре ладони покрылись зудящими пятнами экземы. Несколько месяцев я ходил облепленный пластырем и не мог ни рисовать, ни печатать на машинке, ни даже поиграть на гитаре. Вскоре заметил: что-то нехорошее делается с мозгами, чувствами, интеллектом – все это стало как бы медленно и болезненно усыхать. Беду удалось отвести во время поездки на родину: соленые от морской воды руки подставлял под солнышко целыми днями; хворь прошла через три недели; я снова навалился в Сибири на свои прерванные "рукодельные" занятия, и мозги "встали на место"…
На этом, мой юный друг, я закончу сегодняшнее к тебе послание. Тем более радость ручного Труда ты уже испытал как раз в том возрасте, как и я когда-то в пять-семь лет – именно тогда закладываются в растущем человеке основы трудолюбия. Побывать бы тебе в чудо-мастерской твоего прадеда Степана Ивановича…
Только вот пулеметов, бомб и тому подобного изобретать бы не надо. Ни тебе, ни всем остальным. Лучше конструировать станки для напильников и другие мирные и полезные вещи.
Да, о маникюрше. Опытными образцами своей продукции – напильничками для ногтей отменного качества – отец ее буквально завалил. Она в долгу не осталась, расширив рынок сбыта сначала на все симферопольские пункты такого рода (они были при парикмахерских и парфюмерных магазинах), а затем и на всю страну.
Но это заслуживает отдельного письма.
Письмо десятое:
ВИДЕНИЯ, СНЫ, БОЛЕЗНИ
Сегодня – а это глубокая ночь с 22 на 23 августа 1992 г. – мне очень тяжко. На многочисленные хронические хвори «лег» треклятый грипп, двое суток температурил и маялся с холодным компрессом на лбу, который постоянно меняли твоя бабушка и мой сын Сергей – твой дядя, иначе в перегретой голове начинался у меня несуразнейший бред. Но не лежать же дальше «так» – берусь за очередное тебе письмо, и, если оно получится «болезненным» – извини.
Я и в детстве часто и подолгу болел. Но поначалу расскажу о том, что я помню самое первое-препервое, будучи совсем крохотным.
…Звенело. Звон этот лился будто отовсюду – с густо-синего, какого-то сказочного неба, с высоких трав, в которых синело множество необыкновенных цветов. Больше не было ничего – только это сказочно синее небо да луг с высокими травами и тоже синими цветами. Нет, кажется было еще что-то. Кажется, была вокруг всего золотистая рама. Или не было никакой рамы, я ее потом где-то увидел или сам придумал – не помню.
А звенели, оказывается, цветы. Когда я приблизился к ним, цветы оказались вровень с моей головой, и звон усилился. Тогда я понял, или услышал, что этот нежный и красивый звук рождается в венчиках синих цветов. Тихо, но явственно, звенел каждый цветок, и слабые звуки эти сливались в многоголосый мелодичный звон, торжественный и волнующий, набегающий широкими волнами, заполняющий весь мир. Я был частицей этого мира, и звон этих цветов отдавался и трепетал во мне самом.
Так я и не знаю, что это было: одно ли из первых воспоминаний, украшенное детским воображением, первый ли сон, или же то и другое – ведь это было тогда, когда сновидения сливаются с явью, и первые образы, рожденные в детском сознании и воображении, подобны радужным искрам, вспыхивающим на миг в гранях хрустального сосуда, по которому скользнул мимолетный солнечный луч…
Все-таки, наверное, это была картина – хоть смутно, но помню золотистую раму. Но вот звон – почему же тогда звенело? Может, это звенело в ушах, когда я болел?
Как бы то ни было, это стало первым моим воспоминанием – этот чудесный узор, один из множества других узоров волшебного калейдоскопа детства, самый первый художественный образ, возникший или в моих глазах, или в моем воображении – звон синих цветов под синим небом.
Похожих цветов ни во дворе, ни в окрестностях Симферополя не было. Много десятилетий спустя, уже в Сибири, я познакомился с луговыми колокольчиками. Подивился сходству формы, цвета, и, особенно, названия: ведь те, детские, на самом деле звенели. Но цвет у них был ярче, чем у натуральных, а, главное, их были миллионы – цветок к цветку, чего с луговыми колокольчиками не бывает.
Проходят десятилетия, человек становится взрослее, серьезнее, и глаза делаются его верным помощником, умным и точным прибором, с помощью которого он познает (но часто и портит) Мир. А в волшебном калейдоскопе детства будто потускнеют стекла, затянется серым налетом окошко в сказочный мир, и останутся лишь обрывки воспоминаний, будто давно виденный красивый сон. Жаль, что эта способность именно так видеть и чувствовать гаснет уже к юности (о чем подчас скорбят многие художники). Жаль также, что о первых своих воспоминаниях "не принято" писать и говорить – люди стыдятся своего Детства (а многие и не только своего – вообще безразличны к детям, забыв, что через пару десятилетий из них вырастут, смотря по воспитанию, либо Люди, либо еще "что-то").
Маленький, оставшийся в памяти, кусочек дивной сказки… Таким я впервые увидел Мир, в который вошел, – волнующим, звенящим, синим, полным очарования. Тот самый удивительный Мир, который даже и сейчас, к старости, заставляет порой меня изумляться, продолжает открывать мне свои тайны и вызывает острую боль оттого, что его губят на моих глазах…
Следующее воспоминание более предметное. Тоже звон, вернее, звенящее гудение; я лежу, а надо мной – огромный рефлектор лампы "горное солнце" (по-нынешнему УФО); мне закрывают глаза черной лентой или повязкой, и под гудение трансформатора "горного солнца" я лежу голышом на громадном больничном столе или на чем-то подобном…
Дело в том, что я родился у матери поздновато (ей было под тридцать). Либо потому, что ни мать, ни отец не имели понятия в деле воспитания младенцев, я в самом раннем детстве заболел рахитом, а следом за ним – туберкулезом легких от недостатка солнца и витаминов. Это в солнечном-то плодородном Крыму!
Мой скелетик, говорят, был совсем мягким и слабым. Большая голова, кривые тощие ножки (когда я уже стал ходить, хорошо помню свое зеркальное отражение да и некоторые свои фотопортреты отцовской работы). Рахит к школе прошел, ноги выпрямились, зато на всю жизнь осталась кривая и узкая "куриная грудь". Туберкулез же причинял мне страдания не сам по себе (я его не чувствовал), а способы, которыми меня от него лечили: туберкулезные детские санатории (о них – после), омерзительный рыбий жир, ложку которого вливали мне в рот, схватив за руки-ноги и разжав зубы; нередко это заканчивалось жестокой рвотой.
Считалось, что все это "от простуды", поэтому даже летом я был укутан на много слоев; особенно доставалось шее, завязанной и застегнутой как можно туже, до потемнения в глазах и хрипа – это чтоб "не продуло". Отец почему-то панически боялся "сквозняков" сам, ну а для меня постарался особо. Детская кроватка, сделанная им с мастерством и любовью (даже выкрашена была в жизнерадостный канареечно-желтый цвет), представляла собой как бы ящик на ножках, дно и все четыре вертикальных стенки которого были из плотной сплошной фанеры, тоже выкрашенной желтым. Лежа в кроватке, я видел лишь часть потолка, а для ночи служила отдельная горизонтальная крышка, плотно – чтоб не продуло! – входящая в ступенчатый паз. Не помню, было ли мне там душно (а воздуха, если теперь прикинуть, там было с четверть кубометра, не больше), но уютно и спокойно – это точно: я был со всех шести сторон прочно и надежно защищен от внешнего мира! Утром (или когда я подавал голос) эта крышка снималась…
Впоследствии, когда я уже не стал помещаться в свою "желтую кроватку", ее использовали для хранения муки, закупленной в Торгсине или еще где. Хранилище было очень надежным, так как ни мучные хрущаки (жуки, питающиеся мукой), ни другие насекомые-вредители запасов не смогли бы туда проникнуть: отец сработал для меня это изделие более чем добросовестно. И все же однажды произошел конфуз: от перегруза мукою (или оттого, что мука та отсырела) днище прогнулось, вышло из пазов, и весь мучной запас низвергся на пол, подняв, к нашей с Толей радости, огромное облако пыли, медленно расходящееся по всему коридору. Картина была почти как две капли воды похожа на извержение Везувия, которым мы восторгались с братом по картинкам в "Ниве" и энциклопедиях.
Но вернусь к главному в сегодняшнем к тебе письме – к самым ранним воспоминаниям детства.
Кроме всякого прочего, на стенах нашей большой комнаты висели ковры; на одном из них были вытканы огромные (по сравнению со мной) охотничьи собаки. Так вот порою они двигались: ходили, поворачивали голову, смотрели на меня с ковра. Я этого не боялся, так как еще не понимал разницы между реальностью, видением и сном…

Симферополь, Фабричный спуск (Госпитальная площадь), лето 1930 года.
Рисунок с одного из первых отцовских фото, чудом сохранившегося у соседки Шуры Джевановой; на руках у неё тоже сосед Николай Фесков; меня поддерживает сзади мама; у меня в руке кнутик для вращения дзыги (см. письмо «Ашики»). Справа – «Бассейн» (городское подземное водохранилище, сейчас там винзавод). Сзади Красноармейская улица; за магазином темнеет переулок Скифский, ведущий к руинам знаменитого Неаполя Скифского (он рядом слева, но уже за кадром).
А потом, чуточку повзрослев, я стал кое-чего побаиваться, а затем и бояться всерьез, в первую очередь темноты. Упомянутые без злого умысла Нянею «домовые» и «бабаи» начали принимать как бы реальные формы. Это были существа наподобие людей, но небольшие, высотою и объемом с узкое ведро, покрытые страшной шерстью и могущие глянуть на меня двумя огромными, тоже страшными, глазами. Они вполне могли обитать на кухне за большой русской печкой, в двух-трех углах некоторых комнат, а также под всем полом нашего огромного дома.
…Сижу (вернее, стою на коленях на стуле) и делаю уроки. Оба родителя куда-то ушли, Толя где-то далеко со своими пацанами. И вдруг чувство того, что сейчас мне может сделаться страшно, охватывает все тело; я вижу, как тоненькие волоски на моих предплечьях оттопыриваются торчком, и чувствую, что на голове волосы, шевелясь, становятся дыбом: а вдруг, если я обернусь, Домовой уже таращит на меня из темного угла свои страшные глазищи?
Проходят минуты – какие уж тут уроки! – я не смею и пошевелиться. Страх овладевает мною окончательно. Тихий скрип сзади слева, на который не могу не обернуться. Небольшой отрезок доски, которым когда-то надставили половую доску, плотно и незыблемо сидевший в своем гнезде (прибит большущими гвоздями, шляпки которых узнаются сквозь полуистертую краску) медленно поднимается одним боком на всю свою толщину, медленно качается; затем (со скрипом!!!) поднимается другая сторона, приоткрыв черное пространство подполья, откуда сейчас кто-то "конечно" вылезет…
Что делать?!
Вне себя от ужаса, я соображаю: дверь из кухни (я обычно делал уроки на кухне, "чтоб не дуло" – кухня, как видишь на странице 9, была окружена со всех сторон другими помещениями) только одна; если бежать к ней, то придется сближаться с этим страшным кусочком пола, но другого выхода нет. Надо бежать, благо дверь не тянуть, а оттолкнуть от себя руками – и подальше от Страха!
Так я и сделал. Вылетев как пуля в прихожую, затем в коридор, я выскочил на парадное крыльцо, где и простоял в" ожидании родителей; было ветрено, холодно и сыро, и, конечно же, после всего этого я надолго слег в постель. Лечили меня только "от простуды" – нет, чтобы показать невропатологу или психиатру!
…После мы с отцом, по моей убедительной просьбе (сначала он досадливо отмахивался) внимательно осмотрели этот кусочек доски. Он сидел на своем прежнем месте абсолютно плотно, щель между ним и другими досками была заполнена древней, но прочной шпаклевкой, ставшей грязноватой; четыре больших шляпки гвоздей явственно просматривались сквозь старую истертую краску. Я настоял, чтобы отец попробовал поддеть отрезок долотом и приподнять его. Конечно же, ничего не вышло: огромные, наверено изрядно поржавевшие, гвоздищи плотно держали треклятую деревяшку. Не сломать ее при этом было невозможно.
Провоцировать эту зрительно-слуховую галлюцинацию могли самые обыкновенные мыши, которые у нас частенько скреблись под полом.
А я рос, активно знакомился с Миром – через книги, школу, через наш зеленый Двор с его большой и малой живностью, и уже стал заправским "юным энтомологом" и убежденным материалистом. Но все равно перед тем, как зайти в темную комнату, меня охватывало очень нехорошее чувство, вернее предчувствие чего-то неизвестного. Дверь в темную комнату будто бы становилась дверью в неведомый, чуждый – и враждебный мир, вступать в который было небезопасно. Этот мир нельзя было ни видеть, ни осязать, ни измерять; там становились бесполезными все органы чувств. Глаза напряженно вглядывались в темноту, руки беспомощно шарили в кромешном мраке, натыкаясь на незнакомые предметы. Это грозило потерей ориентировки, сулившей нечто совсем страшное: если заблудишься в темноте, поддавшись минутному испугу, то не найдешь в панике и двери, через которую вошел в комнату из темной прихожей.
Но я знал: стоит сделать над собою усилие, хорошенько внушив себе самому, что ничего страшного в комнате нет и быть не может, храбро туда войти, взять там какой-нибудь заранее задуманный предмет и выйти неторопливо – как все страхи снимет как рукой. Причем выходить именно не торопясь – паническое бегство, совершенное даже в самом конце такой храброй вылазки, может не только испортить все дело, а вдобавок изукрасить лоб шишкой, если дверь не удастся найти сразу.
Одолеть же этот страх было просто необходимо. Во-первых, было стыдно за себя: такой большой, а все еще боюсь темноты, во-вторых мрак этот странным образом притягивал к себе: в моем представлении темная комната, если только ее не бояться, может обернуться новым, не познанным еще, интересным миром, быть может чем-то похожим на глубокие подземелья в старинных замках, на неведомые пещеры. И это нужно было во что бы то ни стало проверить.
Вот потому однажды я набрался духу, вышел в темную прихожую, плотно прикрыв за собой дверь, нащупал рукою дверь, ведущую в небольшую, давно не обитаемую комнату (на уже упомянутом плане – та, что к улице, средняя между большой комнатой и коридором), где стояли шкафы со старыми ненужными книгами, лишними стульями, кроватью, на которой никто никогда не спал (на ней лежали горы журналов), а ставни не открывались даже днем. Отогнав все мысли о страхе, я распахнул дверь и смело вошел внутрь.
Выходя из темной комнаты, я случайно глянул на горящую лампу, и теперь в глазах мелькала светлая цепочка, каждое из звеньев которой воспроизводило пламя двадцатипятилинейной лампы, похожее на корону. Вереница этих корон плыла в темноте, то медленно спускаясь вниз, то взвиваясь вверх или в сторону, следуя за моим взглядом, скользящим по темному пространству. Я знал: это следы от яркого пламени, оставшиеся на некоторое время где-то в моих глазах, и это было совсем не страшно.
Но можно было, почти не напрягая воображения, изменить эту комнату, и она как бы делалась невообразимо огромной, причем уставленная не простыми шкафами и стульями, а какой-то диковинной, высокой мебелью. Миг – ив комнате вырастал дивный сад, со стройными рядами пальм вдоль стен, со свисающими с высоких потолков гирляндами вьющихся растений. Я тянулся рукой к ближайшим листьям, но вместо мягкого их прикосновения пальцы неожиданно натыкались на твердую шершавую стену, и видение вмиг исчезало. И.это было тоже нисколько не страшно.
Я вышел из комнаты спокойно и неторопливо, несказанно довольный собой. Еще бы – ведь это была настоящая победа: преодолеть боязнь темноты. Но мало того – я стал волшебником!
С тех пор вечерами я не раз заглядывал туда. Плотно закрыв за собою дверь, выбирал наощупь один из стульев, садился и начинал "колдовать". Я вновь и вновь раздвигал стены своей волшебной комнаты, и из мрака, почти осязаемые, возникали ряды стройных, прозрачных колонн, а с невидимых потолков свисали какие-то ажурные украшения очень сложной формы. Стоило лишь слегка "переключить" воображение, как передо мной возникал длинный коридор, обе стены которого были увешаны картинами. Или вновь появлялся волшебный сад, только уже другой, с растениями, увешанными гроздьями невиданных плодов, с многочисленными фонтанами, из которых безо всякого звука и движения струилась вода…
Видение не проходило, даже когда я закрывал глаза, и потому я сознавал, что образы эти рождены моим воображением. Но даже воображение делалось бессильным, и чудесные картины не приходили ко мне, когда я пробовал закрывать глаза, находясь в той комнате, где горел свет, или там, где кроме меня был кто-нибудь еще: нужна была тишина, темнота и уединение.
Вроде бы смешно сейчас об этом вспоминать, но совершенно точно, что минуты, проведенные тогда в темной комнате, в заметной мере обогатили мои чувства и развили воображение. И уж, конечно, была от этого и более осязаемая польза – я переборол опасно затягивающуюся боязнь темноты – отголосок слепого инстинкта далеких предков, которых спасало от диких зверей темными тревожными ночами лишь пламя первобытного костра…
Переболел я почти всеми детскими болезнями тех времен, кроме своих постоянных рахита и туберкулеза (ну и, получается, невроза): корью, дифтерией, скарлатиной, свинкой, инфлюэнцами (так называли тогда гриппы), ангинами, насморками самых различных "вариаций", из-за которых практически не дышал носом, а лишь ртом, отитами со страшными болями в ухе и еще бог знает чем. Еще раз спасибо тем, кто в эти противные туманно-жаркие дни болезней приходил ко мне, рассказывая и показывая уроки. И еще очень болели зубы, один за другим…
Чем болели в то время в южно-российских городах другие люди?
Очень обычным, даже расхожим, было например выражение "опух с голоду" – оно говорит само за себя. Ярко выделялись своими густо-лиловыми физиономиями алкоголики, хотя тогда их было много меньше нынешнего. Распространена была вшивость (педикулез): никто не удивлялся тому, что, скажем, пейсы – длинные локоны на висках молодого щеголя – были густо усеяны ярко-белыми пупырышками гнид – вшиных яиц и их оболочек, намертво приклеенных насекомыми к волосам; обыденными были картины вычесывания вечером на крылечке вшей из волос своего чада (или братишки, или сестренки) частым гребнем, или "искания в голове", которая уютно лежит на коленях ищущего, и найденные насекомые, давимые меж ногтей, издают жирный щелчок. Дети нередко страдали из-за недостатка витаминов от золотухи: кожа на их головах покрывалась рыжими обсыпающимися струпьями и проплешинами; когда же золотушный был еще и вшив, да еще страдал и стригущим лишаем, на голове получались разнокалиберные корки колтуна, которые не брал уже никакой гребень. Не были редкостью и глисты – вышедшие из кишечника здоровенные остроносые, медленно шевелящиеся аскариды. Мой рахит был болезнью редкою, равно как и мамина "дворянская болезнь" – подагра: основания больших пальцев на ногах разрослись, уводя палец в сторону меньших его собратьев. Зато в городе довольно много было горбунов, лилипутов и кретинов (малый рост, но огромная голова при резко укороченных конечностях), а также припадочных. Впрочем, на все это было принято не обращать внимания, не упоминать в разговорах и бумагах. И еще: к началу войны количество всех этих "страждущих, сирых, убогих" резко снизилось от стремительного повышения уровня жизни в результате всеобщего упоенного труда, развития образования, спорта и многих других благ, которых человечий социум в состоянии (да и обязан!) быстро создать себе после навязанных ему обнищаний и разрух.







