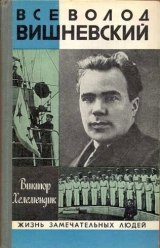
Текст книги "Всеволод Вишневский"
Автор книги: Виктор Хелемендик
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 29 страниц)
Видимо, обо всем этом Вишневский не только немало думал, но и делился своими мыслями с близкими по взглядам людьми. С Александром Фадеевым, например, во время его приезда в Ленинград в 1942 году. «Я всегда с огромным удовольствием и чувством морального удовлетворения вспоминаю наши встречи», – писал Вишневскому спустя год Фадеев. Словно продолжая когда-то начатый разговор, Александр Александрович подчеркивает: «Мы гордимся как раз тем, что история выдвинула нас в качестве передовой силы в освободительной борьбе человечества».
Нельзя не видеть основы, истоков духовной природы советского человека, – развивает мысли Фадеева Вишневский. «Россия, – пишет он 18 июля 1943 года, – именно Россия, показала во всем своем величии всю силу своей новой организации, культуры, техники. И это фактически не только от 25 октября 1917 года, а из всего тысячелетнего и более русского пути, практики, много-национальных внутренних связей и т. д… Не надо сводить спор к тому, что „русское“ – это и кнут, и Аракчеев, и реакция николаевской эпохи. Берите лучшее, главное – историческую сущность русского народа. Она – в военных и духовных качествах, в невероятной выдержке, в порыве души народа, в его мечте, в его делах…»
В начале третьего года войны в немецкой армии был распространен подготовленный ведомством Геббельса новый документ – исследование о России и ее истории. Смысл этого документа сводился к одному: чтобы победить, необходимо знать национальные традиции народов оккупированных стран, в первую очередь – русского. «Поздно, Геббельс, поздно! – восклицает Вишневский в дневниковой записи. – Понять противника – значит победить! Мы поняли вас в 1941 году! Вы пытаетесь понять нас в 1943-м. И поздно, и ума не хватает». И далее приводит мысль Белинского о том, что у всякого народа своя история, а в истории свои критические моменты, по которым можно судить о силе и величии его духа, и, разумеется, чем выше народ, тем грандиознее царственное достоинство его истории, тем поразительнее трагическое величие его критических моментов и выхода из них с честью и славой.
«Да, это – Россия! Мы в открытом поле один на один – против коалиций и окружений – век за веком», – подытоживает свои размышления Вишневский.
В эти дни, когда враг, захватив огромные территории, вырвался к Волге и занес свой кровавый меч над Сталинградом, по радио прозвучала знаменитая речь Вишневского. Устами писателя говорила сама мать-Родина, Россия: «Сын мой, тяжелый час пришел… Со дней татаро-монгольского нашествия не было такого. Бейся, чтобы государству не быть растоптанным. Бейся со святой яростью – за весь народ и за семью свою…» Выступающему внимают бойцы в окопах, матросы на боевых кораблях – те, кому он лично, каждому в отдельности, говорит сейчас: «Будет тяжелая минута – вспомни своих, различи и в шуме боя голос матери и отца: „Сынок, стой! Дерись!.. Это Родина просит и требует…“»
Чувства автора и тех, к кому он обращается, сливаются воедино: «Средневековые истязатели хотят распять русский народ. Хотят бить его, гнать его на рабий рынок. Кровь приливает к лицу… Сжимаются кулаки. Никогда мы не будем рабами! Вгоняй штык по дульный срез в немецкую пасть, балтиец!»
Когда впервые после болезни Вишневский прочел по радио речь-очерк, как выражение его чувств в дневнике появилась такая запись: «Эти беседы с ленинградцами – одна из высших моих радостей. Как они слушают и как откликаются!» (22 января 1942 года). Центральные газеты нередко запаздывали в Ленинград на несколько дней, и тогда выручало радио.
Журналисты широко использовали формы непосредственного обращения к защитникам Ленинграда; переклички трудящихся города с воинскими частями, кораблями, сухопутным фронтом и флотом; регулярно транслировались программы «Письма с фронта» и «Письма на фронт». В страшных условиях блокады радио – живая, непрерывающаяся связь с внешним миром, страной, с воинами, истекающими кровью у стен города. Когда из-за недостатка электроэнергии в отдельных районах города передачи прекращались, в радиокомитет шли письма с одной просьбой: «Без хлеба, без воды, без света трудно, но проживем, а радио пусть говорит. Без него страшно! Без него как в могиле».
Речей Вишневского ждали с особым нетерпением. Звонили в радиокомитет; если он какое-то время не выступал, справлялись: почему? Однажды ему передали такой отзыв: «Вишневский по радио выступит – на неделю зарядку даст». Александр Штейн записал: «Видел я на фабрике Клары Цеткин, в блокаде, слезы немолодых ленинградских табачниц, которые навидались, кажется, всего, и, кажется, ничто более не могло их тронуть, вывести из страшного блокадного оцепенения. Не оглядывались, если падал замертво от голода или от осколка только что шедший подле человек. Если мимо тянулись зловещие саночки с трупами. Если разрывался рядом снаряд, только отряхивали с себя землю. И они плакали, эти женщины с обледеневшими сердцами, когда из черного раструба радио шел низкий, чуть хрипловатый голос Вишневского».
Около ста речей произнесено им у микрофона. Радио, стихия которого – звук, тембр, доносило до всех почти клокочущий, то высокий, то страстно низкий голос, неповторимую интонацию балтийского моряка времен гражданской войны, ту интонацию и тот стиль, которые уже сами по себе являлись живой связью с революционной историей. В дни, когда немцы подошли к Москве, он обращается к столице – сердцу России: «Ты оставалась всегда средоточием сильного духа, русского характера. Ты, Москва, ходила во многие бои, твой голос слушает весь мир, твои труды и праздники – откровения и завтрашняя перспектива человечества…
Москва! Двигай все живое, боевое, честное в бой! Будь смела и крута в решениях. Будь неизменна в русском стоицизме!..»
Все – от мала до велика, призывает Вишневский, вспомните историю своего народа, сущность и натура которого – в терпеливой, скромной, всевыносливой работе. Героизм русского народа – в беспримерном упорстве, которое потрясло сейчас весь мир. «Прими, Москва, наш братский привет! Гул орудий на подступах к Москве сливается с гулом орудий на Балтике, на подступах к Ленинграду, как сливаются воля и мысли наши с твоими, Москва!
Пусть два с половиной миллиарда людей – все человечество – скажут и повторяют веками: „Да, они бились как русские, они бились, как Москва и Ленинград!“» – таков финал этой пламенной речи.
…Привычная картина: воздушная тревога, лихорадочно стучит метроном радио. Ревут самолеты. Все как обычно. Наконец, отбой. Зовут к микрофону. Как обычно, Вишневский немного жестикулирует, движением помогая речи, и каждая его интонация становится еще более убедительной, волевой, энергичной. Он говорит, обращаясь не к микрофону, а к людям, которых он видит в эти мгновения – видит их запавшие щеки, их живые глаза. Голос его звучит негромко, проникновенно – признание в любви к городу с железной волей и знаменитой историей:
«Были дни, когда немцы шли на город как осеннее наводнение. Но наш город пережил много наводнений – вода отхлынула мутными потоками, а город по-прежнему стоял на просторе, открытый ветрам, могучий, победный… И сейчас он стоит – величественный, с потемневшим от пороха ликом, покрытый шрамами, как ветеран-гвардеец… Ветры, воды, огонь – стихии штурмуют город, враги у его стен, а город стоит, и над арками и воротами его бешеные квадриги и шестерки бронзовых коней, летящих на запад и на север… Бурно дышат эти кони, летящие в будущее… Это воинственный и грозный Ленинград – это раскаленный дух его, победная судьба!.. Копыта коней раздавят фашистских карликов… Сверкнут бешено мелькающие спицы колес – и история помчит дальше, вперед и вперед – к коммунизму!»
Какая несокрушимость духа, какой блестящий образец публицистики! Эти лирические отступления, авторские монологи исследователи творчества В. В. Вишневского справедливо сравнивают с лучшими образцами поэтической прозы русских писателей-классиков.
Сегодня для нас привычны радиоциклы, охватывающие определенный круг проблем с одним, постоянным ведущим. На Ленинградском радио в годы войны таким ведущим, входящим в каждую семью, в каждую ячейку фронта и тыла, был Всеволод Вишневский. Убедительность его речей многократно усиливалась тем, что все знали: он здесь, вместе с ними, борется с голодом, морозами, напрягает голос, чтобы перекрыть грохот близких разрывов.
«Была осень, – вспоминал Всеволод Азаров. – Ночь. Утихли зенитки, луна, белая, демаскирующая город, выплыла из-за черных, разодранных боем облаков. Радио, оно только что передавало отчетливый, убыстренный стук метронома, снова заговорило страстно… Новый налет бомбардировщиков, новый шквал огня. Но речь не прекращается. Всеволод Вишневский зовет в бой – „за свое счастье, за народ, за наши семьи, за все, что нам мило, дорого, за наше советское, русское!..“».
Новогоднее выступление по радио… Это большая честь, и она по праву предоставлялась Всеволоду Вишневскому. 31 декабря 1942 года, поздравляя ленинградцев с годом грядущим, словно предчувствуя скорый прорыв блокады, он призывает их собрать все силы:
– Одна поглощающая мысль да владеет нами: отбили пять гитлеровских попыток взять Ленинград… В шестой же раз пусть будет: громовой наш удар и прорыв блокады. Готовить удар ночью и днем, упорно, самозабвенно, не жалея сил! Мы должны трудиться как никогда. Каждый на своем участке. Всю волю миллионного города – в один узел… И ударить так, чтобы гитлеровцы не оправились!
Как-то в студию пришла женщина, чудом выбравшаяся с оккупированной территории. Ее рассказ записали и срочно вызвали Вишневского. Прочитав запись, он сказал: «Пустите меня сейчас вот с этим… – он потряс пачкой листков, – прямо к микрофону. Нечего тут готовиться!» Вишневский разоблачает изуверство, жестокость фашистов, приводит документальное, страшное в своих подробностях свидетельство женщины, вырвавшейся из немецкого плена: «У Надюшки, и у той кровь взяли. Прямо выпили из нее. Кожу взяли у ребенка – кружочков десять. Со спины, с груди… Дети умерли…»
В другой радиоречи («Русских не сломить», 3 октября 1942 года) он приводит цитаты из приказа по Восточному фронту, изданного генералом Рейкснау: «Солдат Гитлера! У тебя нет нервов и сердца. На войне они не нужны. Уничтожь в себе жалость и сострадание, убивай всякого русского, советского, не останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик…» И немецкие солдаты следовали этим приказам.
Немыслимой ценой овладевал тогда народ наукой ненависти. И Вишневский заключает коротко, сильно: «И пусть хоть один геббельсовский наемный писака опровергнет вот эту правду! Это страшнее, чем то, что до сих пор мы знали о немцах… Ненависть наполняет нас – горячая, страшная… Ее хватит надолго…»
Радио – это не только сообщение, но и общение на расстоянии, диалог, установление доверительных отношений между говорящим у микрофона и слушателями. Этого никогда не забывал Вишневский. Но, чтобы такая атмосфера возникала во время радиопередачи, ему как воздух нужно было и непосредственное общение с людьми, непрерывающаяся обратная связь с аудиторией.
27 октября 1943 года Вишневский выступил, с полуторачасовым докладом перед молодыми офицерами в Доме Красной Армии, а вечером в дневниковой записи так запечатлел свои ощущения: «Мне было хорошо от людей, от времени, от силы, которая переполняет нас всех; от того, что мы – мы! Это иначе не объяснишь… Да, я временами взлетал, и аудитория взлетала – это восторг бытия, воображения, надежд… Я говорил открыто, прямо, брал широко и жил каждой секундой этой речи, этой встречи. Я хотел праздника!.. Страшная внутренняя устремленность, восторг, видение будущего передавались аудитории, волновали души людей…»
И у микрофона Вишневский сохранял это чувство слитности, единства с согражданами, так же жил – мыслил, переживал, волновался, убеждал, звал к победе. Бойцовский темперамент, эмоциональная обостренность восприятия жизни, редкий дар импровизации, отточенное ораторское мастерство, живая разговорная речь, умение повторить важную мысль еще и еще раз, но всегда по-новому, – счастливое сочетание этих сторон своеобразного таланта говорило само за себя: казалось, что он был рожден для радио.
Именно Всеволод Вишневский одним из первых показал, какие огромные выразительные возможности заложены в природе эфира [42]42
Выступления Вишневского по радио, находящиеся в архивах и фонотеках, не утратили своего значения и сегодня. К сожалению, они остаются неизвестными не только для широкой аудитории, но и для многочисленного отряда профессиональных работников радиовещания и телевидения. Будь тексты этих образцов собраны и изданы, да в придачу с пластинками – записями речей, они «работали» бы и теперь, показывая, как может раскрываться у микрофона богатая, духовно красивая личность гражданина, бойца, труженика, как могущественно и всесильно ее воздействие на умы и сердца людей.
[Закрыть]. Как это ему удавалось? Прежде всего благодаря привлекательности самой личности писателя – человека целеустремленного, преданного партии и народу, ищущего, несгибаемого, постоянно растущего и совершенствующегося.
И в годы Отечественной войны он оставался неутомимым читателем: целые груды книг, журналов, газет «перевариваются» им, как правило, в ночное время.
Могучие силы сокрыты в народе, их пробудила революция, и теперь мы непобедимы. С таким внутренним настроем перечитывает Вишневский Горького и Успенского, Чехова и Бунина, сличая русское «вчера» и «сегодня». Он видит и противоречивость творчества И. Бунина а не случайно записывает для себя: «Сильно, злобно, талантливо». И дальше: «Читаю Бунина… Мизантроп! Какая тяжкая, тупая, безнадежная жизнь изображена им в „Деревне“. Если бы Россия была такой, разве мыслима была бы нынешняя победа?.. Наш Человек оказался выше, умнее, отчаяннее, шире и глубже…»
В «Дневниках» встречаются пометки: «Вернул сорок прочитанных мною книг»; «Отослал в публичную библиотеку двадцать семь книг. Поработал над ними! Прошу библиотеку прислать книги по истории Германии, о Гитлере, книгу Черчилля „World Crisis“ („Мировой кризис“), книги о США, политике Рузвельта и пр., а также Паскаля, Монтеня и Дидро». Таков по объему обычный разовый заказ читателя Вишневского.
Чтобы успешно бороться с врагом, надо хорошо знать его. Один из самых обширных пластов чтения Вишневского военного времени можно так и назвать: «Все о Германии». Знакомясь с «Историей немецкой литературы» В. Шерера, он выбирает оттуда нужные сведения: «Мы и эту литературу приспособим для дела». Разоблачение агрессивной политики Германии, фашистской теории расового «превосходства» и вместе с тем утверждение гуманного отношения к немецкому народу велось им на неопровержимой документальной основе.
Так, в начале статьи «Мысли в день 22 июня» («Красный Балтийский флот», 1943 год) автор приводит слова Гитлера, произнесенные накануне вторжения в СССР: «Я готовлюсь к войне с большевиками. Если понадобится, я начну летом. Это будет вершина моей жизни и деятельности. На этом кончится также моя война с Англией. И позиция американцев тоже изменится…» Показав, как «вершина жизни и деятельности» фюрера выглядит через два года войны (даже преданный Геббельс замечает, что «испытания наложили печать на лицо фюрера, он изменился, он страдает…»), Вишневский дает крепкий русский комментарий: «У старого волка, видимо, морда сохнет и лезет шерсть…»
Развертывая историческую панораму судеб «хищных броской» германских агрессоров, писатель развенчивает тех, кого фашистская пропаганда представляла как «великих людей», «героев» немецкого народа: Арминия и Карла Великого, Генриха-Льва и Фридриха II, Бисмарка и Вильгельма. Публицистический накал достигается множеством язвительных, убийственных и одновременно исторически достоверных деталей: вероломный Арминий готов был посягнуть на всякий принцип; Фридрих, разбитый наголову русскими, при бегстве потерял шляпу, она хранится в Ленинградском Эрмитаже…
Вот лишь некоторые источники, которыми пользовался Вишневский при написании этой статьи: запись беседы Гитлера с югославским регентом Павлом, одна из радиоречей Геббельса, эпос «Песнь о Нибелунгах», труды немецкого историка Брама, «брюзжание отставного канцлера» Бисмарка («Мысли и воспоминания» в трех томах), мемуары Людендорфа, теоретическое исследование генерал-майора Гофмана «Война упущенных возможностей»… На примере последней книги видна методика работы Вишневского: чтение, множество выписок и заметок, убедительные сопоставления событий истории и сегодняшнего дня. И обязательно общая принципиальная оценка: «Взгляды Гофмана легли в основу многих стратегических и оперативных построений Гитлера и его военных советников». И характеристика литературной формы: «язык суховатый, военный, прусский, кое-где тяжеловатый юмор». На конспект книги Гофмана и соответствующие выводы ушло полдня.
Основательность подготовительной работы – за какую бы тему ни брался Вишневский, его незыблемое правило. Обдумывая статью для газеты к юбилею Октября, он просит принести из библиотеки статистические таблицы за 25 лет!
Задания Пубалта – самые трудные, самые оперативные – всегда брал на себя начальник оперативной группы. Нередко его вызывали в Смольный, в городской комитет партии, где обычно, как в этот день, 20 октября 1942 года, задачу ставил Андрей Александрович Жданов. Сжато, сопровождая свою речь энергичными жестами, он сказал:
– Надо срочно подготовить листовку к солдатам испанской дивизии. Всеволод Витальевич, пожалуйста, не стесняйтесь: отразите действительное положение дел, но дайте как следует, с перцем…
Вот запись в дневнике, рассказывающая о том, как развивались события: «Время – 21 час 15 минут… У меня только два часа… Быстро ознакомился с материалами. Потом стал писать… Три-четыре страницы… Нащупывал солдатский язык; писал с некоторой грубоватостью, язвительностью, с точностью…»
Закончил он работу к пяти утра. Три переводчика сразу сели за перевод на испанский язык, срочно был набран и отпечатан пятнадцатитысячный тираж листовки, и уже днем ее сбросят с самолетов. Текст листовки передадут по радио, и она начнет свою очистительную работу в сознании обманутых солдат.
Чаще всего листовки адресованы немецким войскам: «119 250 тонн бомб на Германию», «Повторение Вердена, или Новый Сталинград?», «Что должен знать немецкий солдат под Ленинградом» и десятки других написаны Всеволодом Вишневским с удивительным умением на малом пространстве уместить мощный заряд убедительной, наполненной страсти, несущей правду информации. «Написал ядовитую листовку „Военный путь Гитлера“ и листовку „Что ждет германскую рать?“ – широкий обзор того, как биологически и психологически влияет тяжелая долгая война на народ (потери, смертность, самоубийства, болезни и т. д.)…» – отмечено в дневнике 28 мая 1943 года.
А вот листовка «Гитлер – великий стратег». Как обычно, набрана крупным шрифтом, с выделением цифр и заверстанными в текст диаграммами и рисунком. На нем изображен светящийся, как призрак во мраке ночи, кладбищенский крест с выбитыми на нем цифрами крупнейших потерь фашистских войск («6-я армия под Сталинградом», «4-я танковая армия под Сталинградом», «Африканский корпус Роммеля» и т. д.). Тексты Вишневского отличались удивительной прозрачностью, ясностью языки, неотразимой логикой и точностью определений, силой чувств. В них явственно ощущается духовное родство автора с неутомимым агитатором В. В. Маяковским. Так, живо напоминает стилистику «Окон РОСТА» листовка «Кому поставить памятник», в которой с убийственной иронией обыгрывается сообщение шведской газеты о том, что германское правительство до сих пор все еще не востребовало заказанный в начале войны в Швеции гранит для памятника победы. Видимо, гранит этот, предполагает публицист, предназначен для памятника тем немцам, которые выступят против Гитлера и тем самым спасут немецкий народ. Листовка «Что такое Сталинград?», подзаголовок которой тут же отвечает на этот вопрос – 330 тысяч немецких солдат и офицеров окружены, – заканчивается фразой, которая не может не поразить захватчика в самое сердце: «Помните, Германии – новой Германии! – вы нужны живые…»
Не случайно летом 1944 года, оглядываясь назад, лучшим из того, что опубликовано им за войну, Вишневский назвал радиоречи 1941–1942-го и листовки. А еще, казалось ему, лучшим из написанного им являются его дневники, несмотря на всю их незавершенность.
4
Оперативная группа писателей Балтфлота – боевая единица, аналогичной которой не было на других флотах и фронтах, за исключением действующих по соседству ленинградских армейских писателей во главе с Николаем Тихоновым, – не раз испытывала на себе косые взгляды военного руководства, особенно приезжего. Что это за группа? На каком основании создана? Каковы обязанности членов группы по уставу?
И всякий раз, когда Всеволоду Витальевичу приходилось защищать свое детище, делал он это прямо, принципиально, хотя и не без некоторых колебаний – до того, как приходилось выступать публично. В этом внутреннем диалоге писателя и профессионального военного побеждал первый и отважно устремлялся в спор, в бой за то, чтобы и в условиях войны сохранить литературную среду, предоставив писателям возможность исполнять свой долг журналиста, агитатора и художника.
Выразительны воспоминания соратников Вишневского по блокаде, раскрывающие облик старшего друга и товарища. Вот он, чисто выбритый, праздничный, в феврале 1942 года выступает с докладом на совещании в Пубалте. «Сейчас Всеволод произнесет одну из своих магических речей, – писал позже Анатолий Тарасенков, – доклад об итогах работы писателей на Балтике. Блестящий доклад, умный, аналитичный, о каждом из нас он сумел сказать хорошее, доброе слово, и в то же время каждому хитрый, скрытый укор – на будущее».
Вишневский говорил о традициях литературной группы, о задачах, встающих перед писателями на современном этапе войны:
– Если не успеваешь писать, надо положить перо и идти говорить. Прийти перед боем за полчаса, дать бойцам необходимую зарядку, двинуть людей и, когда надо, пойти вместе с ними…
Александр Яшин, присутствовавший на совещании, запомнил такие слова:
– Будем подражать Льву Толстому. На смертном одре у него еще двигались три пальца, которые держали ручку… Приказываю: за 12 месяцев 1942 года напишите 12 толстых тетрадей записей. Живой эпос фиксировать день и ночь неустанно. Надо знать, как выглядел рынок, город, морозы. Запомнить о трупах на дорогах. Болеть, но не выходить из строя. Иметь право сказать о себе: «Я это видел, перенес, пережил и записал…»
«Пубалт очень признателен писателям за проделанную работу, – сказал в заключение его начальник В. А. Лебедев. – Писатели прошли боевую проверку, оказались людьми смелыми».
Вишневский был доволен и горд, он чувствовал себя продолжателем восходящих к Марлинскому, Гончарову, Станюковичу, Новикову-Прибою традиций русской литературной маринистики.
– Балтфлот входит в меня, – говорил Яшин, – вместе с именем Вишневского, благодаря ему. Мы мерзли, болели, чтобы полюбить флот и стать любимыми, чтобы иметь право писать о флоте как рядовой боец…
Спустя некоторое время Яшин был вынужден покинуть Ленинград из-за болезни. Он продолжал войну на Волге, был счастлив оттого, что снова попал к морякам, участвовал в Сталинградской битве. Однако духовные связи с Вишневским, возникшие в блокадные месяцы, не порывались, он помнил Всеволода Витальевича и писал ему 20 декабря 1942 года: «В устных выступлениях учусь организации речи у Вас…»
Должно быть, ораторское мастерство и сила речей Вишневского оставляли глубокий след в памяти людей, потому что и годы не стирали его. Много позднее Александр Яшин дополнил дневниковую запись военных лет следующими строками: «Самое яркое воспоминание у меня о Всеволоде Вишневском оставил день 5 апреля 1942 года. Мы с ним выступали по Ленинградскому радио. Предполагалось, что я прочитаю стихи, а Всеволод Витальевич – заготовленную заранее и процензурованную речь. Но во время нашего выступления на Ленинград посыпались бомбы, сигналы воздушной тревоги сбили размеренный ход передачи. Сидевший у микрофона Вишневский отодвинул текст речи и начал говорить без бумажки, к ужасу ведущего диктора. Он не говорил – он рубил, бил, вдалбливал – кулак его застучал по столу…»
Несмотря на большую популярность выступлений Вишневского по радио, прямых откликов на них, кроме воспоминаний более позднего времени, практически не сохранилось. И это естественно. Зато история сберегла другие, куда более ценные документы – личные письма, дневники, в которых упоминается его имя. Вот хотя бы такая, светящаяся угловатой непосредственностью запись ленинградской школьницы Майи Бубновой от 23 января года: «Вчера Всеволод Вишневский по радио выступал. Прямо молодец парень, в моем духе. Всегда вовремя выступит и скажет, скажет прямо, ясно, хорошо, по-ленинградски, по-большевистски…»
В другой раз на улице кто-то неожиданно сказал ему: «Почет вам и уважение…» От неожиданности Вишневский смутился и по-военному отдал честь. А в мае года на золотисто-зеленой от игры теней и солнечных пятен набережной Невы к нему подошла незнакомая женщина и спросила:
– Вы товарищ Вишневский?
– Да.
Она пожала руку:
– Как писателю…
Подобного рода признания-благодарности будут приходить к нему до самых последних дней жизни: одно его имя вызывало у многих воспоминания о Ленинграде, о блокаде.
Военные дневники Вишневского раскрывают многообразие и насыщенность взаимоотношений их автора с людьми. Не было случая, чтобы Всеволод Витальевич кому-либо не ответил на письмо, не поддержал дружеским словом, советом. Если он чувствовал, что кто-то в нем нуждается, откликался немедля.
…Навестил товарища Иголкина в госпитале. Это необыкновенной душевной силы простой русский моряк. Ранен, без ноги и с простреленной второй ногой, но рвется на фронт: «Я ведь пишу двумя пальцами, могу и из автомата стрелять, в засаде могу быть». «Взволновала меня встреча с ним до невероятия, – записал в тот день Вишневский. – Святые люди! Терпят боль, одиночество… Иголкин обрадовался мне: „Всеволод Витальевич! Ты мне самый дорогой человек!“ Много раз повторял эту фразу, мы крепко обнялись».
В другом месте дневника – скупые строки о том, что в самые голодные дни зимы сорок второго года он делится скудным пайком. Из воспоминаний 3. Венгеровой, опубликованных в сборнике «Писатель-боец», выяснилось, что речь шла, в частности, и о ней.
…Однажды по пути на службу (она работала вольнонаемной машинисткой в Пубалте) почувствовала, что теряет силы. На мосту Лейтенанта Шмидта присела и не смогла встать. К ней подошел какой-то военный, насильно поднял и помог дойти до штаба. А на другой день в пустынном коридоре четвертого этажа Венгерова снова встретила вчерашнего военного: он молча, ни о чем не спрашивая, дал ей кусок сахару.
Позже она узнала фамилию и, как многие в те времена, пришла в его холодный кабинет – за духовной, нравственной поддержкой. Трое детей эвакуированы со школой в тыл, от них нет вестей. Умирает муж. Сгорела квартира… Она говорила, и плакала, и снова говорила. Это был первый за время войны разговор без утайки, без боязни быть неправильно понятой. До этого не к кому пойти было со всеми бедами, слезами, с материнским горем. И разговор с Вишневским, считает З. Венгерова, был решающим в ее жизни. Он долго молчал: не успокаивал, не задавал вопросов. А затем сказал – очень мало и очень много:
– Вы мать-ленинградка, вы нужны и своим и чужим детям, вы советская женщина; вы молоды, сил душевных у вас много, а физические – наберете. Город оживет, городу помогут. Мы не одни – с нами вся Россия…
Вишневский возвращал людям веру в жизнь. Потребность в этом возникала каждый день, и когда его товарищи жаловались на усталость, Всеволод Витальевич говорил им и себе: «Уставать нам нельзя!! И у меня усталость – общая, многолетняя… Хочется сесть, закрыть глаза… Но сам себя убеждаешь: нет, у тебя есть силы, больше, чем у многих других, – действуй, действуй!»
И правда, разве мало у него самого поводов для уныния? Стоит лишь вспомнить о так называемых «друзьях», в которых он горько разочаровался во время войны. Рухнули многие иллюзии, и ему самому еще непонятно, что с людьми происходит, как. А может, все дело в нем самом? Он ведь знает свои слабины: излишняя доверчивость, открытость, внутренняя нетерпеливость, а порой и нетерпимость…
Как бы там ни было, ясно одно: в нем, Всеволоде Вишневском, постоянно, каждую минуту и секунду живет голос, образ мышления и чувствования, образ действия увиденного им в искусстве идеала – его балтийского героя, коммуниста. И в самые трудные мгновения писатель, слитый воедино со своим вторым «я», говорит себе: «Идти, терпеть до конца».
Ты «витаешь в небесах», говорят ему иные, любящие эмпирику, факты, людские пересуды… Возможно… Большой мир идей, романтики, страстей ему ближе, понятнее обывательского, мещанского мира. Впрочем, он достаточно зряч, чтобы видеть и этот «мирок». Видеть, как некоторые «товарищи» делают подарки своим любовницам – посылки с черной икрой (в голодном Ленинграде!); видеть, как некоторые берут дважды большой автономный паек (без оснований), как снабжают им «нужных» людей. Все это он видит, и ему глубоко противно.
Или вот письмо – настоящий вопль одного писателя: «Не могу работать, тоскую о детях, жене. Умоляю дать отпуск…» Разве не назовут его, Вишневского, нетерпимым – и за то, что отпуска не предоставит, и за то, что при случае прямо, в открытую, объяснит свое решение? Хотя ведь всего и не объяснишь…
«О, эти интеллигенты, „инженеры душ“, зрелые составители идеологических романов, пьес! – с гневом и презрением изливает душу в дневнике тот, кого до войны называли искусственным, придумавшим себе маску; тот, кто на самом деле не терпел фальши и конъюнктурщины. – Меня давно мутит от этих людей, хлипких, дряблых, подделывающихся и в кино, и в литературе, и в живописи под советский, большевистский, героический стиль, не имея на то прав и внутренних волевых данных. Сколько этих интеллигентов „полиняло“, залезло в разные провинциальные щели, где и отсиживаются, выжидая…
Пусть какие-нибудь философы оправдают мне это „право“ писателей сидеть вдали, в укрытиях, где тепло и сытно, и советовать другим идти и умирать…»
На ту же тему, хотя и по-иному, спокойнее, сдержаннее, писал Н. С. Тихонов Всеволоду Рождественскому: «Сейчас хотя и не время для особых размышлений, но невольно в однообразном уединении осажденного города перебираешь прошлое и подытоживаешь всякое: война так обнажила людей, что все прояснилось самое непонятное и все оказалось проще. Не думал я, что придется так упорно заниматься газетной работой за неимением людей… Сколько наших знакомых – и бряцавших и не бряцавших оружием – смылись из Ленинграда. У меня к ним нет даже неприязни. Тот, кто уехал, бог с ними! „Была без радости любовь – разлука будет без печали“. Факт – мы с тобою стали армейцами и съели пуд соли, начинаем второй».
Как видим, интонации разные, суть одна.
Испытание войной выдержали далеко не все. Зато те, кто выстоял, раскрылись по-новому, по-настоящему для всех окружающих. Именно таким, постоянно являвшим нравственный пример, был Вишневский. Не зря же один из его соратников уже тогда, в 1942 году, мог сказать: «Он один из тех, в ком для меня воплощены высокие черты русского советского человека» (Из письма Вс. Рождественского – Вс. Азарову).








