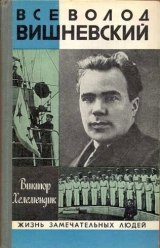
Текст книги "Всеволод Вишневский"
Автор книги: Виктор Хелемендик
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 29 страниц)
2
Почти весь январь 1915 года Егерский полк провел в походах. После нескольких операций на фронте в Радомской и Варшавской губерниях его решили перебросить к границе Восточной Пруссии. Доброволец с нетерпением ждал первого боя, а пока основательно врастал в военный быт. При переходах снаряжение у него пригнано отличнейше – даже опытные солдаты одобрительно похлопывают по плечу. Ранец упакован так, чтобы тяжесть распределялась равномерно; патроны – в непромокаемом патронташе и кожаных подсумках; сбоку – мешок с сухарями, фляга и лопата. К ранцу накрепко прихвачена скатанная палатка.
В письме к матери Всеволод сожалеет о том, что у него нет бинокля – «для стрельбы на 1 версту цель надо в бинокль разглядеть, а потом уже стрелять в нее…».
Стремление гимназиста как можно скорее постичь «науку воевать» выливалось иной раз в такие формы, что окружающие лишь разводили руками. Как-то Емельян Козлов поднял его ранец и от неожиданности даже присел – словно камнями набит. Всеволод же в ответ на его удивленный взгляд опрокинул ранец, и оттуда на землю посыпались пустые гильзы, части затвора, головки от снарядов – в основном неотечественного производства.
– Зачем тебе все это? – по-прежнему ничего не понимая, спросил Козлов.
– Вычищу, а потом постараюсь по головке снаряда определить расстояние до батареи, из которой он был выпущен. – И Всеволод стал искать какие-то номера на этой головке и что-то объяснять.
– Но ведь батареи десять раз изменили позиции…
Всеволод молча наклонился, тщательно собрал все и водворил на прежнее место. На пятнадцатом году жизни он был все еще, по его же более позднему выражению, «во власти детских фантазий, которые бывают… так серьезны».
Прошла неделя, Всеволод все-таки прислушался к голосу старшего товарища и опорожнил рюкзак. Но как он это сделал! Дорогая его сердцу «техника» зарыта в землю, место «клада» обозначено. Он явно надеялся сюда вернуться…
Как связист-ординарец для связи роты со штабом батальона, Вишневский первым узнавал все новости. Здесь же, в офицерском блиндаже, подбирал газеты и журналы, изучал привезенные из Петрограда карты, рисовал схемы боевых действий, всячески стараясь разобраться в обстановке по всей линии фронта. С удовольствием вытаскивал из ранца, из своего «арсенала», репродукции картин и собственные зарисовки.
– Вот эта – бой на Шипке, в Болгарии. Другая – продвижение наших войск у Казанлыка. А эта – царь Петр в Полтавской баталии, – пояснял он своим товарищам.
Рассказывал и об истории их собственного лейб-гвардии Егерского полка, образованного, как он знал, еще при Павле и входившего в состав Гатчинского гарнизона. Героическая оборона Смоленска, Бородинская битва – егеря покрыли себя славой в кампанию 1812 года. В бою под Кульмом, в Богемии, они сумели сдержать напор французов, полку вручили прусский орден за храбрость – Железный крест. Этот постоянный полковой нагрудный знак носил теперь каждый, но немногие знали о его происхождении.
Неизменная просьба в письмах к матери, брату Борису: присылайте газеты, географические карты, бумаги, карандаши. И чего-нибудь съестного. Воля питает неодолимую слабость к сладкому, которая нет-нет да и прорвется у «солдата» сквозь маску напускного равнодушия. Как в этом письме к матери: «…пришли еще 1 мыло и шоколаду – 2–3 плитки. Если хочешь. А если нет, то не надо…»
На марше пели песни, иной раз – на злобу дня:
Пишет, пишет царь германский,
Пишет русскому царю:
«Разорю я всю Расею,
Сам в Расею жить пойду…»
Особенно любили «Горы-вершины, вас я вижу вновь, карпатские долины, кладбища удальцов». И, несмотря на явно неудачные слова, старались как можно громче петь свою, гвардейскую:
Колонна за колонной полем, лесом, вброд
Могуче, неуклонно гвардия идет.
Зеленые рубахи, зеленые штаны.
Штыков стальные взмахи, моторы как слоны…
Какие уж там моторы, думал Всеволод, даже конных повозок негусто. Но пел с удовольствием.
По железной дороге полк прибыл на станцию Червоный Бор. Спешно, при свете электрических фонарей, выгрузились, и начался долгий переход – сорок верст по заснеженным проселочным дорогам. Егеря – не только рядовые, но и их командиры – не подозревали, что противник также спешно перебрасывает войска встречным маршем. Прячем немцы первыми повели наступление, нанеся удар по авангарду русских – Измайловскому полку.
…Егерей подняли среди ночи. Во всем чувствовалась неразбериха, нервозность, построились и пошли, а куда? На душе тоскливо: ясное дело, отступаем. Впервые Всеволод услышал близкую артиллерийскую стрельбу: снаряды – свои или их? – пролетали с особым, постепенно затихавшим шипением. Кажется, что противник уже обошел полк. Идут то строем, то цепью, по одному. Молчат, каждый думает свое.
Утро разрядило ночное напряжение, а краюха хлеба и кружка кипятка с куском сахара восстановили силы. Лица посветлели. После короткого привала полк вновь двинулся: как выяснилось, вперед, к позициям, где шли стычки с немцами.
Остановились у какого-то леса и стали рыть окопы: настроение у Всеволода на редкость бодрое. Вот она, война, рядом, а совсем не страшно. Вечером полк развернулся к западу от шоссе, перекрывая Ломжинское направление. Впереди пылала какая-то деревня. В темном небе непрерывно сверкали разрывы вражеской шрапнели. Солдаты вели огонь из винтовок, откинув прицельные рамки. Но редко у кого хватало терпения прицелиться как следует. Почему-то все спешили…
Постепенно стрельба затихла. Ничего особенного в первом бою Вишневский не испытал: «Я сразу принял, ощутил войну как-то проще, примитивнее; без потрясений были вытеснены ложные представления… – писал он много позже, в 1928 году. – Я не испытал отвращения и страха, познав войну. Были, конечно, разочарования, но они сводились к недовольству отступлением, позиционной войной…»
Настоящее боевое крещение Всеволода состоялось в начале февраля, когда он, зажав в кулаке донесение, во время жестокой перестрелки несколько раз бегом преодолевал смертоносную зону. Тонко визжали пули, рвалась шрапнель. Впервые, пожалуй, навязчиво стучали слова: «Вот убьют, вот убьют, вот сейчас, вот сейчас…» Но держался он не хуже других. Во всяком случае, дело свое делал. Теперь Всеволод с полным правом мог считать себя егерем.
«Сейчас идет 3-й день бой, – с гордостью сообщает он матери. – Я был в разведке и в перестрелке… И под шрапнелями ходил с донесениями. Жив и здоров… Ничего немцы не могут с нами сделать…
Не беспокойся, Воля».
Но вскоре произошло непредвиденное. Командир батальона обратил внимание на истощенный вид подростка. Сказывались общая усталость, морозы, недоедание и, главное, непрерывное раздражение, вызываемое чесоткой. Пришлось выбирать: либо домой на поправку, либо в госпиталь.
Да тут еще масла в огонь подлил преподававший в мирное время в гимназии, где учился Всеволод, полковой священник. Он узнал своего питомца и потребовал, чтобы его отправили в тыл. Спустя несколько дней после того, как Всеволод уехал в Петроград (вместе с получившим отпуск ротным командиром), священник Добровольский с облегчением писал Анне Александровне Вишневской: «Хотя он себя и хорошо зарекомендовал, и будет представлен на медаль, и храбрый, но все-таки не место ему среди ада страданий и лишений. Я сам, как отец, больше других чувствую это, и потому Вы поймете и мою радость при отправлении Вашего сына в Петроград…»
Судьба в первый раз оказалась благосклонна к Всеволоду Вишневскому. Вскоре после его отъезда, начиная с 19 февраля, немецкая артиллерия всех калибров на протяжении трех суток беспрерывно вела огонь по позициям егерей: рота почти сплошь полегла, вместе с нестроевыми осталось двенадцать человек. Об этом сообщил один из однополчан, обстоятельный Семен Кабанов, в своем письме в Петроград:
«Приветствую Вас, дорогой мой Воля. От лица своего взвода приношу искреннюю благодарность. Спасибо! За подарочки Ваши к Пасхе.
Письмо и подарки получили 21 марта в 5 ч. веч., даю ответ на Ваши вопросы: всех нас, адресаторов, которых Вы поставили на конверте Вашем, – нет, лишь я только милостью Божией и Царя, Отечества и Св. Веры, я жив и здоров, и мне было вручено Ваше письмо.
В 3-м взводе есть убитые и раненые и без вести пропавшие, извиняйте, что я не стал перечислять, их много, взводного Гнидкина нет, вероятно, в числе пропавших, которые есть часть и в плену.
…Да! мой друг Воля: семеновцы все дело попортили, дрогнули, бежали, и мы через них пострадали: нам во фланг ударил противник, жив буду, устно объясню все происшедшее.
Любящий друг Семен Кабанов.1915 год, 23 марта. Жду ответа».
Читая это письмо, Всеволод представил себе Семена Кабанова, уже немолодого, медлительного. Вот он сидит в окопе, крестится, – смотрит на образок, потом на немецкие окопы, неторопливо стреляет. Вспомнил и то, как раздражала его набожность Кабанова, как в таких случаях хотелось сказать ему: «Сиди тихо, а уж если веруешь – молись про себя…»
А теперь вот Всеволод ужасно расстроился и не мог удержаться от слез. Как он казнит себя за то, что уехал! Хоть и по болезни, а уехал, остальные же сражались, стояли насмерть.
Скорей бы весна – и снова на позиции.
Дома его встретили с радостью. Походное обмундирование бабушка сразу запрятала на чердак. Отмылся как следует в бане, и в домашних условиях чесотка, слегка посопротивлявшись, быстро сошла. Снова надел гимназическую форму, пошел на занятия.
Прошло всего два с лишним месяца, но как заметно изменился за это время Всеволод! Лицо обветренное, похудевшее, весь он какой-то серьезный, будто хранящий что-то такое, что известно лишь немногим. Да и ростом стал выше, по крайней мере, так казалось его одноклассникам. А один из них, почтительно потрогав Кульмский крест, поздравил Всеволода с заслуженным отличием… Тот смутился, сдержанно поблагодарил и закурил папиросу. Теперь курение ему уже если и не приносило удовольствия, то, по крайней мере, не было противным. А когда на фронте в морозный день, изрядно утомившись, впервые затянулся махорочным дымом – сразу круги поплыли перед глазами – чистый обморок.
Как и прежде, учебные успехи Всеволода имели явно гуманитарную окраску: история, география, литература и языки – пятерки и четверки, по естественным же наукам отметки ниже.
Окопы у прусской границы и гимназические занятия… Неужели так легко войти совсем в другую, мирную жизнь? Во всяком случае, уже 25 февраля он корпит над сочинением на тему «Образ русского летописца» (по летописям и по монологу Пимена из пушкинского «Бориса Годунова»). Всеволода по-настоящему увлекает это «действительно живое лицо из далекого прошлого России», его удивительно скромный и одновременно величественный подвиг. Оставить потомкам подлинный документ эпохи – не только описание фактов, событий, но и сплав собственных мыслей и чувств – не благороднейшая ли это задача? Образ Пимена был близок Всеволоду еще и потому, что сам он уже тогда считал всякую точную запись событий – пусть хотя бы в дневнике – крайне важным и нужным делом.
Почему юноша, все помыслы которого были всецело заняты войной, помнил об учении? В дневнике сохранилась запись, относящаяся к 1916 году и проливающая свет на этот вопрос: «…Я учусь для себя, это я осознал, то есть не для себя, а для своей жизни, так как без учения очень трудно будет в жизни». Предшествуют этому обобщению суждения о пользе различных наук. Любопытно, что для себя будущий писатель выделяет психологию: «Это замечательный предмет. Благодаря знанию психологии можно разобраться в других людях…» Всеволод сетует на то, что все науки в гимназии преподаются «чересчур сухо, неинтересно, формально», и уж если учиться чему, то серьезно, а не для аттестата. Главный недостаток гимназического учения – необходимость в «такой ненужной форме» заучивать целые страницы из учебников…
Несколько забегая вперед, скажем, что в свои семнадцать лет Всеволод Вишневский прошел войну – был ранен, контужен, получил три георгиевские награды (без «Георгия», как мечтал в дневнике, собираясь бежать на фронт, не вернулся!). Он приобрел огромный жизненный опыт. Но при этом обстоятельства (часть переведена в резерв, ранение, контузия и т. п.) складывались так, что Вишневский периодически приезжал в Петроград, наверстывал все, что упущено по учебной программе, и переходил из класса в класс. И гимназию окончил вместе с однокашниками. В аттестате зрелости, полученном 3 февраля 1918 года, его познания были оценены следующим образом: русский язык и словесность, законоведение, география – «отлично», история, немецкий и французский язык – «хорошо». Характерно примечание в этом документе: «Отметку по закону божьему, согласно прошения гр. В. В. Вишневского, педагогическим советом поставлено не обозначать».
Прекрасная память, сознательный подход к занятиям в гимназии, преуспевание в любимых предметах – все вместе позволило Всеволоду Вишневскому получить образование поистине уникальным образом – «без отрыва» от солдатской службы, в условиях жестокой войны.
В весенний майский день 1915 года, досрочно сдав экзамены за 5-й класс, Всеволод прибыл в Червоный Бор, Откуда уже рукой подать до Ломжи, до позиций 4-го батальона. Едва сдерживая возбуждение, взбежал на гребень холма: вот наконец окопы. Встретили его тепло, особенно те, с кем уже довелось быть в бою. Курносый глазастый подросток с георгиевской медалью на груди, из-за голенища торчит солдатская ложка, он чувствовал себя чуть ли не ветераном и снисходительно посматривал на еще не нюхавших пороху новичков. Ему не терпелось быстрее войти в обстановку, он без устали расспрашивал Емельяна Козлова и Семена Кабанова о немцах, о том, как они себя ведут, что слышно о наступлении.
– А немцы – вот они, рядом, – кивнул Кабанов на лес, напоминавший собой свалку обгоревших и покалеченных столбов. – Вечером заступим на первую линию – там и разглядишь…
И в самом деле, бывалый солдат оказался прав: подобно тому как в роте велся точный и справедливый учет очередности, кому в секрет на ночь, кому за супом и почтой, так и применительно к самой роте выдерживался свой график: когда на передовую, а когда на передышку, во второй эшелон.
Смена происходила в темноте. Между окопами противных сторон всего сорок-пятьдесят шагов. Вспыхивали ракеты. Все держались настороженно, тихо. Всеволод надеялся высмотреть немцев, но разве это возможно в лесу, где в хаотическом беспорядке переплелись поваленные и расщепленные снарядами деревья, рогатки и проволока? Иногда ракеты взлетали над самой головой, и в их мертвенном свете можно было до мельчайших деталей различить изуродованные силуэты деревьев. Обуглившиеся пни и стволы успели обрасти белым мхом, словно поседели.
Жестокий смерч войны обрушился на природу, и теперь вместо зелени, возвещающей о весеннем – пробуждении жизни, – мрачное кладбище деревьев.
Много лет пройдет, но Вишневскому не забудется этот мертвый лес, подобный зловещему лесу из Дантова «Ада». Не только не забудется, но станет для него символом войны, разрушения, уничтожения всего сущего на земле.
Картины мертвого леса писатель воспроизведет много позже в эпопее «Война»: «Мертвый лес покинули птицы и насекомые… Только шелестящие рои комаров не покидают лес. Они грызут, сосут и терзают солдат… Закутанные во что попало от сырости и комаров, солдаты ютятся на островке гнилой земли… Они ползут по доскам, держась за жерди и полусгнившие пни, чтобы не провалиться в трясину.
Иногда бугры, взрываясь, выбрасывают на поверхность полуистлевшие скелеты погибших здесь солдат прошлых войн…»
Всеволод числился теперь в составе группы пеших разведчиков батальона и всегда вызывался в ночной поиск. Во время затишья бывали артиллерийские дуэли, и с ними связывались неприятные ощущения: прижимайся к земле, старайся слиться с нею, моли бога, чтобы пронесло. Разведка же получала конкретные, хотя и опасные, задачи. Скажем, обнаружить и обезвредить немецкий секрет – крохотный, умело замаскированный окоп, выдвинутый вперед и окруженный редким проволочным заграждением.
Иногда подползали к окопам противника так близко, что слышны были даже кашель, приглушенная речь. А что, если попытаться поговорить с немцами, заодно и разведать, как и что там у них?
Эта мысль не давала покоя Всеволоду, но командир разведчиков, подпоручик Гапонов, был категорически против. На заре, в один из последних дней мая, когда офицеры ушли в блиндаж, Всеволод решился сделать это самовольно. После предупреждения немцам: «Nicht schissen!» [3]3
«Не стрелять!»
[Закрыть] [3]3
«Не стрелять!»
[Закрыть], он вылез из окопа и, преодолевая робость, стал пробираться через сожженный лес. Подошел к самому брустверу: оттуда показались круглые шапочки с красными околышами, удивленные лица. Отдал честь, немцы ответили. Всеволод заговорил по-немецки, как умел, и осторожно косил взглядом вправо, вниз, где, как подозревали разведчики, находилась минная галерея. Но ничего не смог рассмотреть. Да и объяснение происходило с трудом: немцы говорили быстро и на малопонятном ему, как потом выяснилось, баварском диалекте. Возвращался к своим Всеволод медленно, время от времени оборачивался и говорил: «Nicht schissen!» Немцы вторили ему: «Nicht schissen!» И все же сердце билось так сильно, что вот-вот выскочит из груди, до тех пор, пока не ввалился в свой окон. Но страх не помешал ему совершить еще один переход, принести немцам угощение – хлеб и сахар, которые ему набросали в шапку егеря. Баварцы были весьма довольны, добродушно посмеивались и не остались в долгу, а, в свою очередь, презентовали необычному гостю пачку сигарет и флягу с вином.
«Дружественный визит», к счастью, не окончился трагически. А вполне мог бы: заметив оживление в окопах противника, соседи-пулеметчики слева открыли огонь…
Больше Всеволод к немцам не ходил. Но этот эпизод, хотя побудительными мотивами, как он себя убеждал, были «тактические разведывательные цели», на самом деле значил и для него, и не только для него гораздо больше. В солдатской среде все чаще и чаще задумывались о том, что немцы такие же люди, как и они, русские солдаты, – крестьяне, рабочие. И это общение с немцами, пусть кратковременное и не очень внятное, оставило в душе юноши глубокий, непонятный, не осознанный тогда им самим след.
Летом 1915 года взамен Гапонова (вражеская пуля угодила ему в горло, и он сразу же скончался) у разведчиков появился новый командир. С первой же встречи между прапорщиком Ниротморцевым и разведчиком Вишневским возникла взаимная неприязнь. Первый – новичок на фронте, видимо, никак не мог простить юноше его «обстрелянность», отличное, не по возрасту знание службы, второй же, чувствуя враждебное к себе отношение, как мог старался платить той же монетой. Однако силы были неравны, и Ниротморцев ужесточил требования к Всеволоду. Тому бы присмиреть, а он – нет. Однажды допустил и вовсе ребячью выходку – искупался в речке вопреки воле командира. Прапорщик остервенел: за ослушание приказал Вишневскому встать под ружье… на бруствере окопа.
Немцы не стреляли. Так иной раз случалось и раньше: видимо, они догадывались, сколь жестоким может быть дисциплинарное наказание. Всеволод уцелел, но пережитые им ужасные минуты, когда всем своим естеством он ощутил близость, возможность верной смерти, запомнились навсегда. Пройдут годы, и на сценах советских и зарубежных театров с триумфом будет поставлен спектакль по пьесе Всеволода Вишневского «Первая Конная». Зрители, наверное, не подозревали, что эпизод «Нихт шиссен!» написан автором и на основе пережитого им самим.
Обстановка на Юго-Западном фронте ухудшилась, и началась переброска войск на участки, испытывающие потребность в резервах: егеря совершили трехдневный переход по направлению к Белостоку. Здесь погрузились в вагоны и двинулись на Брест-Литовск, на Холм. Им предстояло сменить истрепанный в непрерывных боях с наседающим противником 3-й Кавказский корпус.
Снова марш, десятки верст по избитой дороге и бездорожью, когда плотная туча пыли все окрашивает в серый цвет: усы, бороды, брови, виски, затылки. Ощущение пыли даже не раздражает, она проникла всюду. Лица изменились до неузнаваемости, только зубы да белки глаз блестят.
Наконец долгожданная стоянка. Рота занимается то строем, то элементарной тактикой, то стрельбой. У разведчиков же учеба поинтереснее да и жизнь посвободнее: лежа в дозревающих хлебах, они болтали, курили в ожидании предполагаемого «противника». Простояли здесь несколько суток, и затем гвардия двинулась на позиции. Без грусти прощался Всеволод с лесом, полями и пашнями – с молодым пренебрежением к опасностям рвался в бой.
Однако общая ситуация складывалась так, что войскам Юго-Западного фронта пришлось вновь отступить, дабы не подвергать себя опасности флангового удара противника. В дневнике Вишневского запись: «16-го во время отхода на Реповец – Павлово оставался для отстреливания».
Спустя полгода после возвращения в Петроград Всеволод напишет свой первый рассказ, который так и назовет – «Отступление». Собственно говоря, никакой это не рассказ, а заметки типа «что вижу, то и пишу». Но именно своей документальностью, свидетельствующей о том, что и как видел автор, они и представляют для нас интерес.
«В пустынных окопах не было ни одного солдата, и только разведчики, прикрывавшие отступление, недвижно лежали в кустах на опушке леса. Немцы изредка постреливали, и пули с жалобным звуком впивались в деревья, заставляя листья осыпаться… Догорающий костер в лесу, объятые пламенем избы, суровые беженцы-крестьяне, идущие молча, угрюмо смотря в землю… Маленький мальчик, удивленно уставившийся на дым…»
Детали, штрихи выявляют цепкость взгляда пишущего. Заканчиваются же заметки (не выдержала-таки воинственная душа автора!) описанием ответной неожиданной атаки: «Наши кололи беспощадно, немцы отступили… Уставшие солдаты спали, и только разведчики, неутомимые герои, подбирали раненых и убитых…»
Так было на бумаге. А в жизни продолжалось передвижение русских войск, походившее если не на отступление, то на топтание на месте. Однако именно тогда, 27 июля 1915 года, и случилось событие, которое помогло Всеволоду утолить жажду подвига, не дававшую ему покоя. Впоследствии Вишневский постарается с наибольшей тщательностью описать разведку, за которую он был награжден Георгиевским крестом 4-й степени.
Вместе с Журавлевым, смекалистым и крепким парнем, Вишневский получил задание провести разведку в лесу. Углубившись в чащу, набрели на просеку. Прошли какое-то время ею, и тут Журавлев заметил немцев. Конский топот быстро приближался, разведчики отскочили в сторону, встали у деревьев. «Почему не спрятались? – описывая этот случай, недоумевает и сам Вишневский. – Черт его знает! Стали – стоим и ждем. Немцы, не замечая нас, подъехали вплотную. В первый раз за всю войну я столкнулся лицом к лицу с реальным врагом (ломжинские братания тут, конечно, в счет не идут). Вот они! Впереди – офицер на здоровенном коне. За офицером в касках два солдата. Увидев нас, они растерялись от неожиданности и остановились. Журавлев взял наизготовку. Немцы-солдаты возились с притороченными к седлам винтовками, офицер вытащил из кобуры револьвер. Мы стояли перед германским кирасирским разъездом. Хорошая встреча! Все длилось несколько секунд. Я первый направил на офицера свой карабин и увидел его испуг, мольбу. Офицер что-то сказал. Я не разобрал его слов…
Если бы растерявшиеся кирасиры первыми нас взяли на мушку, то были бы мы изрублены, расстреляны или взяты в плен. Но три здоровяка на конях упустили момент. Может, от самостоятельного удара их удерживала дисциплина? Не знаю. Я целился в офицера, Журавлев – в ближнего кирасира, и вдруг мы завопили „ура!“. Это был непроизвольно вырвавшийся бодрый клич атаки. Грянули два наших выстрела. Кирасирский разъезд перестал существовать. Я видел тяжелое тело, летевшее в кусты, топот, мелькание… Двое убиты или ранены. Лошади без седоков летели к немецкой заставе. Одного кирасира мы взяли в плен и немедленно доставили в окопы…»
Осмысление психологического состояния пришло много позже, но острота столкновения и понимание неизбежности поединка, в котором «ты – его» либо «он – тебя» и где все зависит от самообладания, решительности и быстроты действий, наверняка уже тогда были глубоко пережиты и выстраданы юным солдатом.
В своих дневниках и литературных набросках Всеволод дает не только подробное описание событий, различных ситуаций, складывающихся в боевой обстановке, но и пытается раскрыть психологическую подоплеку, побуждения и интересы, которые обусловливают и объясняют поступки людей.
Может быть, уже тогда у Всеволода появлялись мысли о своем призвании. Во всяком случае, соседство в блокнотах того времени карандашных зарисовок егерей, кирасиров, лесных опушек, полян и записей, пусть и наивно-угловатых, о том, что долг художественной литературы «доставлять людям радость», а писатель «обязан уметь выражать душу, ее переживания точно, убедительно», – символично.
Гвардию вновь перебросили на другой участок – через Барановичи, Минск, Полоцк под Вильно. Для наступления здесь сосредоточена сильная армейская группа, и, хотя старший разведчик 14-й роты Всеволод Вишневский этого не знал, настроение у него было приподнятое. Но неприятель снова опередил, разрушил замысел русского командования, захватив крепость Ковно и начав обход с фланга. Снова встречные бои с немецкими частями. И снова отступление по сильно пересеченной местности – леса, возвышенности, болота.
Однажды Всеволод, будучи в разведке, облюбовал себе для наблюдения высокое дерево: позиция немцев оттуда видна как на ладони. Доложил ротному командиру, где, сколько вражеских солдат. Тут бы их и «накрыть» артиллерией, но оказалось, что снарядов нет. Да и патронов не хватало. А немцы, словно догадавшись, пошли в атаку. Продвигались они не спеша, методично вскидывая винтовки, целясь как в тире. Это было похоже на расстрел с дистанции 20–25 метров… Пули свистели. Один раненый истошно закричал, моля о помощи: «Братцы, возьмите… Братцы, не бросайте…» Надвигалась ночь, темнота и лес стали спасением егерей.
Вскоре положение на фронте стабилизировалось. Полк был определен в резерв, и Вишневский получил разрешение командования возвратиться в Петроград, чтобы продолжить учебу в гимназии.








