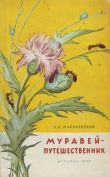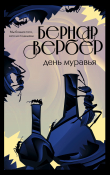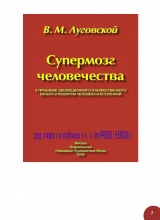
Текст книги "Супермозг человечества"
Автор книги: Виктор Луговской
Жанры:
Самопознание
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц)
Связь особи с популяцией и «проблема альтруизма»
Приведенные выше примеры – это лишь малая доля из тех, которые можно привести, чтобы обратить внимание на проблему информационной связи особи с популяцией не только для коллективных насекомых, леммингов и птиц.
Сегодня в науке, обычно в неявном виде, принимается точка зрения, в соответствии с которой каждый член популяции сам решает весь комплекс проблем выживания. И самосохранение на уровне особи, и выживание популяции в целом являются его и только его заботой.
В самом деле, для того, чтобы доказательно утверждать, что выживание в целом – это проблема, которая решается целенаправленными действиями популяции в целом, необходимо признать наличие целого ряда факторов.
Во-первых, необходимо признать наличие достаточно мощных каналов связи между членами популяции для передачи в режиме реального времени информации о состоянии особи и ее окружения, а также сигналов о необходимых действиях.
Во-вторых, надо признать наличие у популяции некоего «интеллектуального центра», в котором информация, полученная от отдельных особей, обрабатывается, и вырабатываются управляющие сигналы для действий отдельных членов популяции, которые полезны для нее в целом. Но ничего подобного в биологии даже не рассматривается, и поэтому можно считать, что в ней принят тезис об «индивидуальной ответственности» каждого члена популяции за ее судьбу в целом.
Следовательно, и поиски корма, и поддержание равновесия со средой – задачи, которые каждый член популяции должен решать сам, и от того, как он решит их, зависит и его судьба, и судьба популяции. Но если задачи личного выживания каждая особь может решать на основе той информации, которой она обладает, то корректировать свое поведение с учетом нужд популяции в целом она не может – у нее нет информации о популяции в целом.
Иногда такое решение должен принимать не каждый член популяции, а вожак семьи или стаи. Однако это не вносит существенных различий в ситуацию – проблемы, связанные с популяцией в целом решаются и в этом варианте одной особой – вожаком. И также непонятно, как он получает информацию о популяции в целом. Об этом уже говорилось выше и при анализе поведения муравьиной семьи и описании феномена самоубийств леммингов. Было показано, что особенности этого поведения невозможно объяснить в рамках традиционного подхода. Как это не удивительно, внешне полностью независимая от популяции особь выбирает обычно такую линию поведения, которая наиболее выгодна для популяции в целом.
При этом, как правило, нельзя обнаружить никаких сигналов, управляющих действиями особи – создается впечатление, что она действует, подчиняясь каким-то внутренним приказам. И остается загадкой, как особь узнает о нуждах сообщества в целом и что заставляет ее действовать в интересах этого сообщества. В критических для популяции условиях особь может вести себя парадоксально – оптимально для сообщества, но во вред себе.
Сегодня можно считать установленным, что альтруистическое поведение наследуется. Но с точки зрения естественного отбора оно является нерациональным и такие «альтруистические поступки» должны им строго наказываться. Ведь особи-«альтруисты», склонные к жертвам ради популяции, имеют заметно меньше шансов оставить потомство, чем те, которые заботятся только о самосохранении. Но на самом деле во всех популяциях животного мира Земли альтруисты живут и «ген альтруизма» сохраняется во всех поколениях. Такая ситуация противоречит теории естественного отбора, и поэтому классическая точка зрения была скорректирована в первую очередь для того, чтобы объяснить феномен сохранение «альтруистов».
Базой для этой коррекции стало очень элегантное и неожиданное предположение английского биолога Гамильтона, высказанное им более сорока лет назад, которое в настоящее время получило всеобщее признание.
Гамильтон предположил, что целью отбора является специфический комплекс генов особи, выделяющий ее из других особей вида. Другими словами, гипотеза «близкородственного отбора» или «кин-гипотеза» предполагает, что инстинкт самосохранения ориентирован не на сохранение жизни особи, а на сохранение ее специфического генофонда. При такой постановке получается, что сохранение своей жизни – не всегда наилучший способ сохранения специфического генома. С точки зрения «генной гипотезы отбора» часто выгоднее сохранить жизнь нескольким родственникам, чем заботиться о самосохранении.
Хорошим примером тут может быть поведение птицы-сторожа, которая дает сигнал охраняемой стае о появлении хищника. Самое безопасное для сторожа – сразу скрыться при появлении хищника, не подавая какого-либо сигнала, который может демаскировать его. Такое поведение гарантирует ему максимальную вероятность выживания и, с точки зрения классической версии естественного отбора, он должен выбирать именно такой образ действий. Однако наблюдения показывают, что существует некая избирательность в действиях сторожа: в некоторых случаях он подает сигнал, а в некоторых – убегает, не подав его. Такое поведение сторожа хорошо объясняется «генной гипотезой»: перед подачей сигнала сторож оценивает ситуацию, и, если его собственный риск меньше, чем вероятность выживания для охраняемых, то он подает сигнал тревоги. В противном случае сторож попросту убегает. Такая стратегия поведения действительно гарантирует сохранение и распространение «специфического генома» в том числе и «гена альтруизма», но при этом очень важно, чтобы «альтруист» правильно оценивал «генетические выгоды и потери». Естественно, что подача сигнала с точки зрения «генной гипотезы» оправдана только в том случае, если эта величина больше нуля, т. е. если вероятность сохранения генома возрастает при его подаче по сравнению с ситуацией, возникающей при отсутствии сигнала.
Таким образом, в этой гипотезе Гамильтона неявно предполагается, что «альтруист» имеет возможность достаточно точно определять как вероятности рисков, так и родственный состав опекаемых.
Другими словами, чтобы адекватно реагировать на ситуацию, «альтруист» должен иметь гораздо больше информации, чем это требуется в классической версии естественного отбора, Но зато при этом появляется возможность включить «альтруистическое» поведение в общую схему естественного отбора.
Однако более подробный анализ показывает, что «генная гипотеза» вовсе не «закрывает» проблему «альтруизма», т. е. таких действий особи, которые идут на пользу популяции, но вредят лично ей.
Дело в том, что в большинстве случаев совершенно непонятно, как «альтруист» может получить информацию, необходимую для правильной реакции. И степени родства опекаемых, и изменения вероятностей рисков, различные в разных жизненных ситуациях, не могут быть известны сколько-нибудь точно.
Иногда высказываются предположения, что некоторые средние оценки типичных ситуаций могут храниться на инстинктивном уровне. Но очевидно, что в этом случае ошибки в оценках ситуаций могут быть очень большими. И степени родства опекаемых и уровни рисков, которые сохраняются на инстинктивном уровне, будут неизбежно сильно отличаться от величин, реализуемых в каждом конкретном случае. Эти неизбежные ошибки в оценках ситуации могут полностью дезориентировать «альтруиста».
Видно, что отклонения даже в одном предустановленном параметре существенно искажают поведение альтруиста и снижают эффективность его жертвования. На самом же деле достаточно большие ошибки будут возникать при определении не только степеней родства, но также и уровней рисков. Как показывает вероятностный анализ, при определенном уровне ошибок в оценке степеней родства и уровней риска, решение принимаемое «альтруистом» будет практически не связано с реальной действительностью. При вполне реальном уровне ошибок «генная гипотеза» перестает работать, и линию поведения можно выбирать вместо оценок по (1) любым случайным образом, например, просто бросанием монеты. И результаты будут сходными, потому что ошибки данных, необходимых альтруисту для оценки, слишком велики для обоснованного выбора. Другими словами, при превышении некоторого достаточно низкого уровня ошибок определения родства и рисков, который, безусловно, превышается в реальной жизни, решение, принимаемое «альтруистом», не будет связано с жизненной ситуацией, а будет определяться «информационным шумом», который создают эти ошибки*.
Вышеприведенный анализ заставляет сомневаться в достаточности одной гипотезы Гамильтона для объяснения «альтруистического» поведения. Сама гипотеза очень важна и перспективна, т. к. снимает противоречие между дарвиновской схемой естественного отбора и многочисленными фактами альтруистического поведения в живой природе. Но она одна не снимает всей проблемы «альтруистического поведения» – не менее важной проблемой становятся источники получения достаточно надежной информации, по которой можно принять решение о целесообразности «альтруистического поступка». Без указания этих источников «генная гипотеза» уже ничего объяснить не может, и ее принятие просто «меняет неизвестные» и вместо вопроса – «Как выживают альтруисты?» возникает вопрос – «Откуда альтруист получает информацию о целесообразности альтруистического поступка?» И остается нерешенным главный вопрос, частью которого является проблема «альтруистического» поведения – как популяция управляет поведением своих отдельных членов.
*) Здесь необходимо отметить, что в некоторых специальных случаях выполнение условия (1) заведомо гарантировано, и «альтруистическое поведение» хорошо объясняется «генной гипотезой». Такая ситуация, например, типична для поведения муравьев. Генетическая структура муравьиной семьи характерна тем, что все муравьи-работники связаны тесным родством и при любом, даже очень малом, снижении рисков для многих тысяч родственников оправдана любая степень риска «альтруиста».
Отметим здесь, что одним из достоинств гипотезы «распределенного мозга» является то, что она, как будет показано ниже, просто объясняет феномен «альтруистического поведения».
Что дает популяции распределенный мозг?
Трудности в объяснении связи «особь – популяция» отпадают, если принять концепцию «распределенного мозга», то есть предположить, что по аналогии с муравейником, сообщества животных также могут быть «коллективным субъектом», сегменты общего мозга которого распределены между всеми членами сообщества. И так же, как у коллективных насекомых, здесь каждая особь имеет свой набор «трудовых макроопераций», которые, однако, настолько сложнее и обширнее, чем у муравья, что создают иллюзию независимости этой особи от сообщества.
Структура сообщества с «распределенным мозгом» хорошо вписывается в особенности борьбы за существование. Супермозг не имеет тех ограничений по мощности, которые возникают, если, в соответствии с традиционной точкой зрения, задачи выживания популяции решаются каждой особью самостоятельно. Весь комплекс задач, связанных с поведением популяции как целого в этом случае решается уже не на базе весьма ограниченных возможностей особи, а совокупными интеллектуальными усилиями всех членов популяции. Так как супермозг оперирует с информацией, получаемой от всех членов популяции, то ему известно как состояние популяции в целом, так и состояние окружающей среды. Поэтому он может, обладая достаточно полной информацией, эффективно решать сложные задачи взаимодействия популяции со средой. Кроме того, частные интересы отдельных особей и их стремление к самосохранению находятся на периферии его внимания и не мешают решению основных задач, направленных на выживание популяции как целого. Все это позволяет ему более правильно управлять поведением отдельных особей и улучшать качество прогноза ситуации, повышая тем самым конкурентоспособность популяции в целом.
Высокая же надежность «распределенного мозга» обеспечивается многократным резервированием, программными средствами самовосстановления и повышением «надежности» особей – носителей особо важных сегментов супермозга. В целом это приводит к тому, что «интеллектуальный опыт» популяции сохраняется и возрастает, несмотря на гибель ее отдельных членов. В модели же сообщества без коллективного мозга этот «опыт» распределяется по множеству отдельных членов популяции, и гибель каждой особи приводит к уменьшению общего «интеллектуального багажа».
Наличие «распределенного мозга» существенно упрощает образование полезных для особи инстинктов, а в некоторых случаях, вообще, бывает единственным объяснением механизма его образования и проявления. Так, эта гипотеза просто объясняет, например: «…невероятно утонченный инстинкт размножения у бабочки юкка. Цветы растения юкка раскрываются только на одну ночь. Бабочка берет пыльцу из одного цветка и делает из нее маленький шарик, затем она садится на второй цветок, раскрывает его пестик, откладывает свои яйца между тычинками и затем вводит шарик в воронкообразное отверстие пестика. Эту сложную операцию бабочка проделывает всего один раз в своей жизни. Такие случаи трудно объяснить при помощи гипотезы о возникновении инстинкта за счет заучивания и тренировки» [10].
Такого рода явления, а подобных примеров можно привести много, приходится объяснять интуицией, понятием, которое до настоящего времени не имеет сколько-нибудь надежного физического истолкования. Так, например, К. Юнг вслед за А. Бергсоном [11] пишет: «Интуиция – это бессознательный процесс, результат которого представляет собой вторжение бессознательного содержимого – внезапной идеи или предчувствия – в сознание».
Естественно, что при таких определениях интуиции никакого физического источника «бессознательного содержимого» не указывается. И, вообще, в рамках принятого в современной науке подхода его указать затруднительно. С точки же зрения гипотезы «распределенного мозга» задача решается просто – «бессознательное…., внезапно вторгающееся в сознание» это просто информация, передаваемая от супермозга «собственному сегменту».
В системе с «распределенным мозгом» поведение каждой особи на достаточно большом промежутке времени становится целенаправленным и подчиненным решению единой задачи. Естественно, что в этом случае «коэффициент полезного действия» индивидуальных усилий на пользу сообщества существенно возрастает и неизмеримо повышается их эффективность с точки зрения популяции в целом. Кроме того, появляется возможность приспособления системы к требованиям среды просто за счет увеличения численности тех членов сообщества, у которых набор «трудовых макроопераций» соответствует требуемому направлению деятельности. Причем это увеличение численности можно выполнять не только за счет направленного размножения, но и просто частичным «перепрограммированием» уже живущих особей по командам центрального мозга (ср., например, эксперимент с разделением муравьиной семьи на «ленивых» и работающих членов, стр. 25).
В рамках гипотезы «супермозга» находит естественное объяснение и проявления альтруизма в животном мире. Альтруизм является мощным фактором поддержания жизнеспособности популяции. Поэтому супермозг «заинтересован» в поддержании генофонда альтруистов. Решения же, которые принимает «альтруист», «подсказываются» ему через каналы супермозга после получения сигнала об опасной ситуации.
Эволюция не проходит мимо таких заманчивых свойств, которые имеет популяция, управляемая супермозгом. Но животные заметно крупнее насекомых и поэтому посмотрим, как будут меняться основные характеристики сообщества с «распределенным мозгом» при увеличении размеров его членов-«муравьев».
С увеличением размеров тела увеличивается объем нервной системы, и тем самым увеличивается ее емкость, и могут увеличиться объемы как программ распределенного мозга, так и программ «трудовых макроопераций».
При увеличении объема программ «трудовых макроопераций» возрастает их автономность и уменьшается нагрузка на центральный мозг, так как оперативная работа в большей степени передается на уровень «муравьев».
Это приводит к снижению загрузки линий связи, уменьшению ошибок передачи и ускорению реакций системы на внешние и внутренние возмущения.
Увеличение набора и сложности «трудовых макроопераций» разгружает центральный мозг, позволяет ему более глубоко анализировать ситуации, строить более обоснованные прогнозы, повышая тем самым шансы сообщества на выживание. Увеличение размеров тела отдельного члена семьи резко меняет ее наблюдаемое поведение. Совместное проживание по типу муравейника становится невозможным, так как размеры жилья становятся слишком большими, а его возведение и поддержание в жилом состоянии требует чрезмерных усилий. Кроме того, потребность в пище возрастает в прямой зависимости от линейных размеров особи. Соответственно увеличивается площадь, необходимая для добывания пищи, что требует рассредоточения мест жительства. Как говорилось выше, больший объем собственного сегмента позволяет разместить в нем и больший набор достаточно сложных «трудовых макроопераций». Это позволяет каждому отдельному «муравью» самостоятельно выполнять значительную часть работ по самообеспечению без участия центрального мозга. При этом роль центрального мозга еще более смещается в сторону поддержания симбиоза популяции с окружением, и его влияние на отдельную особь все больше ограничивается адаптацией набора «трудовых макроопераций» к изменяющихся внешним условиям. Естественно, что такое вмешательство не бывает частым, и поэтому поведение отдельных членов сообщества приобретает черты самостоятельности и независимости от популяции в целом.
На самом деле связи внутри сообщества не становятся слабее, и связь между сегментами центрального мозга, расположенными в отдельных существах, не ослабляется, просто вмешательство центрального мозга в жизнь отдельных членов становится незаметнее. При возникновении сообществ со все более крупными членами, обладающими все большим объемом нервной системы, степень самостоятельности каждой особи растет, хотя они и остаются элементами одного целого.
Более редкие регулирующие воздействия центрального мозга, которые направлены на изменения характера поведения особи, а не на коррекцию отдельных ее поступков, могут осуществляться через тонкие изменения, например, гормонального регулирования, в результате чего будут меняться такие параметры, как уровни агрессивности, самосохранения, размножения и т. п.
Это может приводить к самым различным изменениям поведения, как отдельных особей, так и сообщества в целом. Так, например, снижение агрессивности и уровня фертильности* при повышении уровня самосохранения приведет к снижению активности популяции в целом, приближая ее к состоянию «спячки». И наоборот, некоторое повышение агрессивности и темпов размножения с соответствующим снижением уровня самосохранения придаст поведению сообщества явно экспансионистский характер.
*) Фертильность – здесь – способность к размножению.
Работа центрального мозга сообщества остается за пределами сознания каждой особи (если таковое есть) и не ощущается ею, несмотря на то, что один из сегментов этого мозга находится в ее нервной системе. В результате поведение членов популяции сочетает в себе два рода действий: самостоятельные (под управлением собственного сегмента) и управляемые – коллективные или индивидуальные (по сигналам центрального мозга). Очень наглядно использовать эту концепцию к объяснению особенностей поведения леммингов, которые были описаны выше.
С точки зрения экологии сообщество леммингов будет частью биогеоценоза** и поддержание в этом биогеоценозе экологического равновесия является для сообщества леммингов одной из основных задач с точки зрения выживания популяции. Как уже говорилось, при совпадении ряда оптимальных для выживания потомства природных условий происходит взрывное увеличение численности популяции леммингов.
**) Биогеоценоз – эволюционно сложившаяся, пространственно ограниченная, длительно самоподдерживающаяся, однородная экологическая система, в которой функционально взаимосвязаны живые организмы и окружающая их абиотическая среда.
Биогеоценоз характеризуется относительно самостоятельным обменом веществ и особым типом использования потока солнечной энергии. Биогеоценозами являются: луга, леса, поля, водоемы
Почему «распределенный мозг» допускает такое, явно губительное с точки зрения популяции, событие, как взрывное увеличение численности?
Чтобы ответить на этот вопрос достаточно сказать, что супермозг – это не интеллектуальный титан, некий всезнающий гений, распределенный по всей популяции, а просто орган, который создан эволюцией для решения одной сугубо специализированной задачи – поддержания равновесия во взаимоотношениях популяции со средой обитания. Всю информацию о состоянии этих отношений супермозг получает через органы чувств отдельных особей, и его задача – оптимизировать взаимоотношение популяции со средой. До тех пор, пока достаточно большая часть членов популяции не начинает испытывать голод, супермозг не может знать об истощении кормовых запасов. Поэтому и меры принимать он не может, нет сигнала о неблагополучии. При увеличении численности дефицит кормов возникает не сразу – происходит запаздывание аварийного сигнала. А при очень быстром, «взрывном» возрастании численности леммингов супермозг получает сигнал о недостатке кормов уже тогда, когда регулировать рождаемость поздно. Из-за этого запаздывания и возникает катастрофическая ситуация, которую супермозг решает кардинальными мерами.
Увеличение численности популяции в 300–500 раз грозит разрушением биогеоценоза, и поэтому центральный мозг дает команду на «миграционный бросок», при котором избыточное количество особей просто гибнет.
Непрерывно получая информацию о состоянии сообщества, центральный мозг прекращает самоуничтожение, когда численность популяции снижается до безопасных пределов.
Информацию о том, что численность популяции переходит допустимый предел, центральный мозг может получать без проведения анализа состояния биотопа. Непрерывно получая, например, информацию об уровне насыщения всех членов сообщества, он в режиме реального времени определяет долю голодающих особей. Когда доля голодающих достигает некоторого предела, «мозг» дает сигнал на снижение уровня самосохранения и сигнал на немедленную эвакуацию в каком-то направлении. В результате все лемминги, входящие в сообщество, начинают двигаться в этом направлении.
Они образуют огромные стаи, и сниженный уровень самосохранения уже не удерживает их от гибели в море или реке. Когда из-за гибели части леммингов численность сообщества возвращается к норме, дается сигнал на повышение уровня самосохранения и на прекращение миграции, и самоубийства прекращаются. Так с точки зрения гипотезы супермозга объясняются феномены образования стаи и поддержания необходимой численности популяции. При принятии гипотезы «распределенного мозга» также просто снимаются трудности и в объяснении особенностей миграции птиц.
Если предположить наличие у стаи воронов, которые ведут полуперелетный образ жизни, «распределенного мозга», то просто объясняется особенности их расселения. Выше отмечалось, что трудно объяснить с точки зрения «генной гипотезы» поведение южной часть стаи, которая перелетает далее на юг для того, чтобы освободить место для зимовки северной части стаи. В этом случае приходится жертвовать интересами близких родственников – птиц «южной» стаи – ради интересов дальних родственников – птиц «северной» стаи, что противоречит гипотезе Гамильтона. Однако для «распределенного мозга», который рассматривает стаю в целом, как единый объект, «полуперелетный» вариант расселения является одним из вполне возможных оптимальных вариантов. И именно супермозг, а не отдельные птицы принимают решение о таком виде перелета. То же можно сказать и о феномене «угасания перелетного инстинкта». Известно, что при улучшении зимних условий обитания птицы, ранее перелетные, могут остаться на зимовку на летних гнездовьях. Как уже говорилось выше, сложность объяснения этого феномена в том, что условия жизни птиц по ареалу расселения неодинаковы, и часто лишь в среднем они улучшаются настолько, что перелет становится нецелесообразен. Однако оценки «в среднем по ареалу расселения» отдельная птица сделать не в состоянии, т. к. она знакома лишь с условиями своего окружения. Возникает вопрос: как происходит на уровне одной птицы оценка условий проживания «в среднем».
Классический подход не дает на него ответа, гипотеза же «распределенного мозга» просто отвечает на него. Так как «распределенный мозг» стаи (или нескольких стай, живущих рядом) получает информацию от всех своих членов, то по этой информации он может оценивать ситуацию «в среднем».
Когда условия в ареале расселения улучшаются и перелет становится нецелесообразен, то инстинкт перелета подавляется (или не дается сигнал на предперелетную подготовку).
Завершая эту главу, хочу отметить, что в ней собрано, по моему мнению, достаточно много подтверждений допустимости гипотезы супермозга для животного мира Земли. Однако большинство проблем тут не решены, а просто поставлены. Например, и можно, и нужно обсуждать, особенности структур «распределенного мозга» у животных, которые живут стаями и теми, которые ведут одиночный образ жизни. Многие стороны гипотезы допускают экспериментальную проверку, и она должна быть проведена. И нерешенных вопросов здесь гораздо больше, чем тех, в которых есть хотя бы некоторая ясность. Но важно, что сам феномен супермозга, достаточно хорошо подтверждается приведенными фактами и на этой базе можно вести дальнейшие исследования.