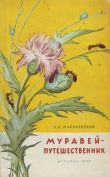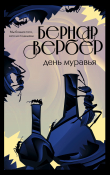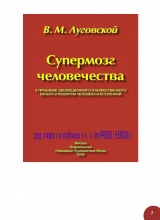
Текст книги "Супермозг человечества"
Автор книги: Виктор Луговской
Жанры:
Самопознание
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
К. Юнг и «коллективное бессознательное».
В психологии и психиатрии есть еще несколько моментов, которые необходимо отметить в рамках нашей темы. В первую очередь надо обратить внимание на работы известного швейцарского психиатра Карла Юнга, ученика и одного из ближайших соратников З. Фрейда, впоследствии разошедшегося с ним по ряду базовых аспектов психоанализа.
Для нас особый интерес представляет сформулированное К. Юнгом представление о том, что та часть психики человека, которая называется «бессознательное», состоит из двух частей: «личного бессознательного» и «коллективного бессознательного». «…Бессознательное содержит в себе не только личностное, но и неличностное, коллективное в форме наследственных категорий или архетипов. …бессознательное в своих самых глубинных слоях некоторым образом имеет частично ожившие коллективные содержания. Вот почему я говорю о коллективном бессознательном»[27].
Если «личное бессознательное» является результатом личного опыта человека, то «коллективное бессознательное» – самый глубокий уровень психики – это передаваемый по наследству опыт предыдущих поколений, базовая информация, которая в совокупности и определяет особенности народа/расы. «Коллективное бессознательное» не является результатом личного опыта и является, кроме прочего, хранителем архетипов – «образцов инстинктивного поведения».
Исследование фольклора разных народов, проведенное К. Юнгом, не только подтвердило существование в психике слоя «коллективного бессознательного», но и позволило выделить отдельные типы инстинктивного поведения. Интересно, что он, в отличие от З. Фрейда, утверждал, что личность формируется не только в раннем детстве, а на всем протяжении жизни идет борьба личности за утверждение ее «самости», реализации своего единственного и неповторимого «я». Этот процесс Юнг считал основой психической жизни человека. Эта подмеченная Юнгом особенность психики человека, как будет показано ниже, тоже очень важна для нашего рассмотрения и хорошо укладывается в гипотезу центрального мозга.
Г. Ле Бон и «организованная толпа».
Очень интересно для нашей темы поведение человека в так называемой «организованной толпе», которое резко отличается от его обычного поведения. Это отличие столь сильно, что психологи говорят о «психологии толпы» так, как будто речь идет о некотором едином существе, психологические особенности которого резко отличаются от психологии отдельного человека. Один из основателей социальной психологии Густав Ле Бон в своей знаменитой работе «Психология народов и масс» подробно рассматривает эти особенности [28]. Он пишет «Исчезновение сознательной личности и ориентирование чувств и мыслей в известном направлении – главные черты, характеризующие толпу, вступившую на путь организации. Самый поразительный факт, наблюдающийся в одухотворенной толпе, следующий: каковы бы ни были индивиды, составляющие ее, каков бы ни был их образ жизни, занятия, их характер или ум, одного их превращения в толпу достаточно для того, чтобы у них образовался род коллективной души, заставляющей их чувствовать, думать и действовать совершенно иначе, чем думал бы, действовал и чувствовал каждый из них в отдельности».
Ле Бон утверждает, что есть три основные причины, которые определяют поведение толпы и индивидуума в толпе. «Первая из этих причин заключается в том, что индивид в толпе приобретает, благодаря только численности, сознание непреодолимой силы, и это сознание позволяет ему поддаться таким инстинктам, которым он никогда не дает воли, когда он бывает один. Толпа анонимна и потому не несет на себе ответственности. Чувство ответственности, сдерживающее всегда отдельных индивидов, совершенно исчезает в толпе». «Вторая причина, – зараза, также способствует образованию в толпе специальных свойств и определяет их направление. Зараза представляет такое явление, которое легко указать, но не объяснить… В толпе всякое чувство, всякое действие заразительно, и притом в такой степени, что индивид очень легко приносит в жертву свои личные интересы интересу коллективному». «Третья причина, и притом самая важная, обусловливающая появление у индивидов в толпе таких специальных свойств, которые могут не встречаться у них в изолированном положении, – это восприимчивость к внушению. Зараза, о которой мы только что говорили, служит лишь следствием этой восприимчивости. <…> Он (индивид в толпе В. Л.) уже не сознает своих поступков, и у него, как у загипнотизированного, одни способности исчезают, другие же доходят до крайней степени напряжения. Под влиянием внушения такой субъект будет совершать известные действия с неудержимой стремительностью; в толпе же эта неудержимая стремительность проявляется с еще большей силой, так как влияние внушения, одинакового для всех, увеличивается путем взаимности».
Подводя итог этому описанию, Ле Бон пишет: «Итак, исчезновение сознательной личности, преобладание личности бессознательной, одинаковое направление чувств и идей, определяемое внушением, и стремление превратить немедленно в действие внушенные идеи – вот главные черты, характеризующие индивида в толпе. Он уже перестает быть сам собою и становится автоматом, у которого своей воли не существует».
При возникновении «организованный толпы» ведущая роль принадлежит вожаку или лидеру. При этом лидер вовсе не должен быть высокоинтеллектуальной личностью. Его призывы являются некими гипнотизирующими командами, он заставляет верить себе и следовать за ним. Ле Бон и за ним Фрейд видят в процессе образования и жизни толпы проявление некоего особого вида гипноза.
«Зараза», о которой говорит Ле Бон и которую он считает одной из основных причин возникновения толпы, и является проявлением этой гипнотической силы. Лидеры толпы обладают силой внушения в очень высокой степени, но, кроме этого, сама масса толпы создает очень мощное «поле внушения», под действием которого вначале малая группа разрастается, превращаясь в огромную толпу.
По Ле Бону, в толпе исчезает личность, чувства и мысли людей, из которых состоит толпа, нивелируются, и индивидуумы с высокой психической организацией опускаются до уровня личностей с низким уровнем психического развития. Возникает «коллективная душа» толпы, причем она бессознательна, и в этом бессознательном одну из главных ролей играют расовые наследственные компоненты. Объединение индивидов в толпу может происходить только на основе бессознательного начала, сознательное их разъединяет. «В толпе может происходить накопление только глупости, а не ума», – говорит Ле Бон.
Продолжительность «жизни» толпы и ее размеры могут сильно различаться, а ее члены могут быть территориально разъединены. Для образования толпы важно единообразие мыслей и чувств ее будущих компонентов.
И само возникновение «организованной толпы» и особенности поведения «коллективного субъекта – толпы» до настоящего времени не находят рационального объяснения. Однако использование гипотезы супермозга позволяет, как будет показано ниже, найти надежные подходы к расшифровке этого явления.
Подведем краткий итог
нашего рассмотрения некоторых результатов современной психологии и психиатрии. Эти результаты будут в дальнейшем использоваться при анализе основных положений гипотезы супермозга, и поэтому их полезно еще раз конспективно повторить здесь.
Установлено, что наша психика состоит из двух частей: мощной области бессознательного («Оно» и «Сверх-Я») и внешней осознаваемой области сознания («Я»). «Оно» направляет в «Я» для выполнения поток импульсов, которые в значительной части своей не могут быть реализованы «Я» и поэтому отвергаются неосознаваемым «контрольным органом» – «Сверх-Я» или переформулируются к виду, приемлемому для «Я». Вся психическая жизнь личности наполнена борьбой «Я» с «запретными желаниями», генерируемыми «Оно». Эта борьба личности («Я») продолжается на протяжении всей жизни человека и может приводить к расстройствам психики разной тяжести. С другой, стороны вся созидательная деятельность человека (стало быть, и человечества в целом) – это реализация через «Я» активизирующих стимулов, которые дает психике «Оно». Основные стратегические жизненные решения задаются «Оно» и в той или иной форме реализуются «Я».
Выше (см. «Как возник интеллект человека») было высказано предположение, что в процессе эволюции «Я» отошло от «Оно», и этим объясняется конфликтность их взаимодействия. Дальше этот вопрос будет рассмотрен подробнее.
По Юнгу, «бессознательное» состоит из «личного бессознательного» и «коллективного бессознательного». «Личное бессознательное» является результатом личного опыта человека, а «коллективное бессознательное» – самый глубокий уровень психики – это передаваемый по наследству опыт предыдущих поколений, который и определяет особенности народа/расы. «Коллективное бессознательное» не является результатом личного опыта и является, помимо прочего, хранителем архетипов – «образцов инстинктивного поведения».
Переходя к «феномену толпы», надо сказать, что он ставит перед исследователем непростые проблемы. Во-первых, с точки зрения современной науки необъяснимы само возникновение толпы и особенности поведения каждого её члена. Толпа возникает внезапно и подчиняет своему контролю сотни (а иногда и тысячи) человек. Толпа является как бы единым существом со своей этикой и интеллектом. Толпа импульсивна, беспощадна и внушаема, легко управляема «вождями». Её интеллект низок, а этика находится на уровне этики первобытного племени. Распадается толпа так же внезапно, как и возникает.
Все вышеприведенные результаты, не всегда объяснимые с точки зрения современной науки, хорошо соответствуют и основным положениям, и следствиям гипотезы супермозга. В следующем параграфе они будут подробно рассмотрены с этой точки зрения.
Что можно сказать в доказательство…
В соответствии с обсуждаемой гипотезой предполагается, что «коллективный субъект» Homo sapiens состоит из большого количества отдельных людей, принадлежащих к одному этносу (цивилизации, культуре и т. п.). Эта группа людей объединена общим супермозгом, части которого (интеллектуальные субцентры) располагаются в психике (т. е. в части мозга) каждого человека, входящего в эту группу и работают вне его сознания. В соответствие с гипотезой, повседневная жизнь человека управляется той частью мозга, которая не занята сегментом супермозга. Эту часть мозга мы называем собственным сегментом.
Собственный сегмент (или «сегмент») – часть мозга, которая ответственна за сознание человека, а часть супермозга – по принятой выше терминологии «интеллектуальный субцентр» или просто субцентр – является вместилищем неосознаваемой части психики, бессознательной ее частью.
Субцентр активно обменивается информацией с собственным сегментом мозга, принимая от него данные от органов чувств и некоторую другую информацию, и передает директивы супермозга, определяющие поведение особи, как члена популяции. Этот диалог особью не осознается и проявляется через поведенческие императивы, часто противоречащие привычной линии действий личности.
Сигнал опознания «свой-чужой».
По поводу физической основы линий связи, соединяющих интеллектуальные субцентры в единый супермозг говорилось в разделе, посвященном муравьиной семье. Здесь нужно лишь добавить, что для нормального функционирования «распределенного мозга» очень важно, чтобы каждый его субцентр мог идентифицировать «чужих» и «своих»*.
*) Сегодня мало что можно сказать о физической природе сигнала, при помощи которого суб-центры могут опознавать источник передачи и поэтому нельзя скольконибудь надежно предполагать, как кодируется этот сигнал: кодовой последовательностью, частотными характеристиками или как-нибудь по-другому. Надежно говорить можно только об одном его свойстве – позволять отделять «своих» от «чужих».
Ниже будет показано, что эта особенность взаимной идентификации членов одного «коллективного субъекта» ярко проявляется в процессах возникновения «организованной толпы» и на начальных этапах образования этносов. Поэтому остановимся на механизме этого опознавания. На примерах поведения людей в своем и чужих этносах можно описать некоторые особенности сигнала, по которому происходит опознание «свой-чужой». Во-первых, четко проявляется разная степень «тесноты связи» человека со своим этносом. Грубо говоря, о некоторых людях можно сказать, что они являются «типичными представителя» этноса, в то время, как другие представляются явно маргинальными этническими единицами.
Естественно считать, что сила связи с этносом, которая отображается в первую очередь параметрами «сигнала опознания», у всех членов этноса различна. Известно, что, например, такой идентификационный признак человека, как запах, варьируется в зависимости от его психического состояния и изменяется, например, при сильных эмоциях. По аналогии с этим можем считать, что и «сигнал опознания» может несколько варьироваться в зависимости от вариаций психофизических характеристик личности.
Известны случаи, когда отдельные личности переходили из своего этноса в чужой – иногда достаточно легко, а иногда с большими трудностями.
От них известно, что на начальных этапах перехода они чувствовали себя чужими, даже несмотря на то, что окружающие были настроены крайне дружелюбно. Через некоторое время это ощущение «чужеродности» окружения проходило, но в своем этносе человек начинал чувствовать себя посторонним.
Разные степени трудности приспособления к новому этносу можно объяснить тем, что «сигналы опознания» у этих людей различались по своим характеристикам, При этом сигнал у одного был ближе к сигналам нового этноса, чем у другого.
Сложность коммуникации с супермозгом нового этноса вызывает у человека ощущение того, что он «чужак». Но под влиянием волевого усилия человека и изменения стереотипов его поведения «сигнал опознания» постепенно модифицируется, и человек становится «своим» в новом этносе. Естественно, что при этом он будет чужаком в своем прежнем этносе.
Правда, известны немногочисленные случаи, когда человек имел как бы два «сигнала опознания».
Так, знаменитый русский ученый Миклухо-Маклай был принят в сообщество папуасов Новой Гвинеи, стал членом их племени, и, в то же время, оставался представителем европейской цивилизации. Известный американский этнограф Морган был принят в племя ирокезов и без какого-либо внутреннего конфликта, как и Миклухо-Маклай, вернулся обратно в свою цивилизацию. Французский путешественник Э. Брюле был принят гуронами и жил с ними до конца жизни.
Все это свидетельствует о некоторой двойственности природы «сигнала опознания». С одной стороны, это надежный инструмент поддержания связи со своим этносом, обеспечивающим защиту супермозга от посторонних информационных вторжений. С другой стороны, параметры этого сигнала у разных членов этноса могут значительно отличаться друг от друга и обладание «пограничным» вариантом такого сигнала позволяет, хотя и со значительными трудностями, общаться с другим супермозгом. При переходе такого человека в другой этнос «сигнал опознания» может изменяться, приближаясь к параметрам «сигналов опознания» этого этноса.
О структуре супермозга.
Вернемся к предполагаемой структуре системы супермозга. Как говорилось выше, все субцентры связаны линиями связи. Можно предположить также, что каждый субцентр связан линиями связи с несколькими другими субцентрами, образуя ячеистую сеть (типа сети Интернета). Такая архитектура сети делает передачу по ней устойчивой к исчезновению (уничтожению) отдельных субцентров – узлов сети.
При исчезновении каких-либо узлов, через которые шла связь между удаленными узлами, изменяется (и, может быть, удлиняется) маршрут пакетов сообщений, но связь остается ненарушенной. Только катастрофические потери узлов в сети могут помешать циркуляции информации, но известно, что нет систем и конструкций, которые способны работать в любых условиях. При умеренных же потерях узлов информационные возможности сети останутся практически неизменными.
В каждом узле – субцентре хранится часть информации, входящая в общую базу программ и данных популяции. В этой базе хранится информация, как о генетических, так и поведенческих особенностях популяции, данные, характеризующие ареал расселения, и другая информация, необходимая для выработки поведения, оптимального с точки зрения поддержания равновесия со средой. Для обеспечения надежности работы «распределенного мозга» эти данные многократно дублируются и располагаются в различных субцентрах. Часть данных в этой базе изменяется (актуализируется) достаточно редко, так что квантом времени в этом процессе является поколение. Это может относиться, в первую очередь, к данным, связанным с генетическими особенностями членов популяции, особенностями их быта и врожденных реакций на стрессовые ситуации. В эту же группу попадают редко меняющиеся ландшафтные данные ареала расселения и другая подобная высоко статичная информация об окружающей среде. Другая часть базы данных актуализируется с высокой частотой, и единицей времени здесь могут быть дни и часы. Сюда относится информация о состоянии членов популяции, такие быстро меняющие данные, как, например, погода в ареале расселения (параметры климата являются медленно меняющимися переменными и хранятся в «статической» части базы данных) и т. п.
Представляется весьма вероятным, что основная часть данных, получаемых от органов чувств и собственных сегментов членов популяции хранится в принадлежащих им субцентрах. Это сокращает информационные потоки в сети, повышает скорость обмена информацией и надежность передачи.
Поэтому сеть как бы «привязывается» к топографическим ориентирам. Так как рядом живущие члены популяции с большой вероятностью ассоциируются с близкими узлами в сети, то и информация о топографии местности, например, будет хорошо соответствовать ландшафту при мысленном наложении сети на местность. Другими словами, информация о местности в соседних узлах сети в основном будет соответствовать местности, в которой живут члены популяции, ассоциированные с этими узлами. В равной степени это относится и к другим данным, которые могут быть привязаны к определенным точкам ареала расселения. Эти данные касаются и других сторон биогеоценоза: климатических и погодных условий, особенностей проживания, других животных и т. д. На уровне сознания такое соответствие приводит к феномену «родного края», когда ландшафты, отличающиеся от ландшафтов, сохраняемых в интеллектуальном субцентре воспринимаются как чужие и вызывающие отрицательные эмоции. Это соответствие нарушается при быстрых миграциях больших масс, но при достаточно стабильном пространственном распределении населения ареала указанное соответствие будет сохраняться.
В субцентрах – узлах сети происходит обработка всей информации о состоянии популяции в целом и о каждом отдельном члене популяции. Кроме того, идет интенсивный информационный обмен с собственным сегментом мозга. В рамках этого обмена передаются корректирующие команды супермозга, обеспечивающие оптимальное с точки зрения популяции поведение субъекта. Такие команды могут выходить в сознание в виде неких поведенческих импульсов и стремлений, но могут и напрямую передаваться внутренним органам, например, гормональной системе человека и таким образом корректировать поведение особи.
От собственного сегмента мозга в субцентр передается актуальная «картина мира», такая, как ее видит данная особь. Для выбора оптимальной стратегии поведения этноса, что и является основной функцией супермозга, необходимы не только конкретные данные о среде и членах «коллективного субъекта», но и усредненные характеристики этих данных. Поэтому одной из важных функций супермозга является определение «усредненных параметров» среды обитания и состояния этноса. Опираясь на такие усредненные данные, супермозг может правильно оценивать состояние и окружающей среды и популяции и, опираясь на эти оценки, формировать оптимальное поведение «коллективного субъекта». Очень интересен вопрос об иерархии в сети супермозга. Наличие иерархических уровней обработки информации значительно упрощает задачи «усреднения» данных о состоянии популяции и оптимизацию ее поведения. Наиболее простые алгоритмы этих операций получаются, когда все данные передаются на один наивысший уровень и там обрабатываются. Но такое очевидное решение для сети супермозга неприемлемо, по крайней мере, по двум причинам. Во-первых, для выполнения этой работы в разумные сроки в одном центре необходимы очень большие вычислительные мощности. Но большие вычислительные мощности связаны с большими физическими объемами субцентров, а все субцентры располагаются в нервных системах физически одинаковых особей и поэтому ограничены по размерам. Но есть и второе очень веское возражение против такой концентрации вычислительных ресурсов сети. Для обеспечения достаточной живучести сети таких центров обработки должно быть достаточно много, и это сразу запрещает концентрацию ресурсов. Раз центров обработки должно быть много, на первое место выходит структура меньшей степени иерархичности, например, с двумя уровнями. В такой сети один из нескольких (например, из десяти – двадцати) узлов, который считается узлом верхнего уровня, «усредняет» информацию от подчиненных узлов и вырабатывает для них оптимальную линию поведения. При аварийном выпадении узла верхнего уровня из сети (например, при гибели особи) подчиненные узлы нижнего уровня могут автоматически подключаться, например, к соседним узлам верхнего уровня. В узлах верхнего уровня работает алгоритм поиска коллективного решения в сети из узлов верхнего уровня, и по результатам работы этого алгоритма корректируется поведение особей обоих уровней. При такой схеме работы сети обеспечивается ее высокая живучесть, т. к. выпадение нескольких узлов первого или второго уровней практически не скажется всей системе.
Для узла второго уровня нет необходимости в использовании больших вычислительных ресурсов, т. к. объем перерабатываемой информации относительно невелик. Уменьшение же на порядок числа узлов сети, участвующих в оптимизации, как минимум на два – три порядка ускоряет выбор оптимального поведения.
Говоря о субцентрах второго уровня применительно к живучести сети, нельзя не вспомнить о «ленивых муравьях», описанных в разделе, посвященном муравьиной семье. Предполагалось, что в нервной системе «ленивых муравьев» находятся особо важные блоки программ «распределенного мозга» муравейника. Можно предположить, что в собственных сегментах этих муравьев располагаются программные комплексы верхнего уровня.
Освобождение этой части муравьев от «производственной деятельности» муравейника исключало дополнительные риски, которые могли встречаться работающим муравьям, и это повышало надежность заключенных в «лентяях» программных блоков.
Надежность работы субцентров второго уровня в сети коллективного субъекта Homo sapiens также может решаться повышением «надежности существования» носителей этих сегментов, и у супермозга есть возможность сделать это.
«Надежность существования» особи в этой сети может выполняться, например, следующим образом. Для каждого человека прогноз развития конкретной жизненной ситуации является основой выбора правильной линии поведения. Другими словами, повышение качества такого прогноза позволяет ему более удачно разрешать конфликтные ситуации, что в свою очередь повышает его «выживаемость». Вот тут у мозга и появляется возможность заметно повысить «надежность» тех людей – элементов системы, которые являются носителями особо ценных блоков его «программного обеспечения».
Для этого супермозгу, прогностические возможности которого намного выше, чем у собственного сегмента, достаточно передавать особи свои более точные прогнозы развития актуальных ситуаций. Человек же, который получает эту информацию, ощущает ее как интуитивно возникающую оценку проблемы, полученную не на основе размышления и анализа, а под влиянием «озарения».
Даже краткосрочный прогноз, если он достаточно верен, позволяет в подавляющем большинстве случаев успешно выходить из достаточно сложных конфликтных ситуаций, если не за один, то за несколько шагов-решений. Человек, который является носителем особо важного «программного блока» автоматически становится «счастливчиком». Его интуитивные решения, подсказанные супермозгом, позволяют выбирать оптимальную линию поведения, т. е. говоря другими словами, повышают его «выживаемость».
Можно ли считать, что группы цивилизаций объединяются неким супермозгом второго уровня или «коллективные» на уровне супермозга взаимодействия цивилизаций отсутствуют? Несмотря на интерес и перспективность, вопрос этот ставить, видимо, преждевременно, и здесь его рассматривать не будем. В дальнейшем будем просто считать, что «коллективный субъект» Homo sapiens состоит из большого количества отдельных людей, принадлежащих к одному этносу (цивилизации, культуре и т. п.).