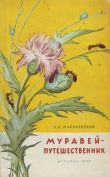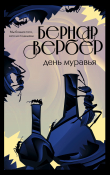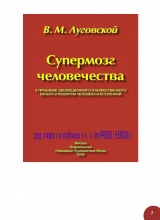
Текст книги "Супермозг человечества"
Автор книги: Виктор Луговской
Жанры:
Самопознание
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
Скорость накопления информации обществом примерно пропорциональна объему уже накопленной информации, причем эта закономерность, просто получаемая из общих соображений, хорошо подтверждается статистическими данными по информационному обмену человечества. Такой характер возрастания известен как экспоненциальный рост и характерен тем, что в начальный период, когда накопленных знаний еще мало, увеличение идет, хоть и с постоянно возрастающей, но достаточно малой скоростью. Но, начиная с некоторого момента, возрастание объема информации идет стремительно, с огромной и все возрастающей быстротой. И хотя проведенные исследования относятся к информации, получаемой не супермозгом от собственных сегментов, а обществом по каналам науки, техники и общественной жизни, можно считать, что характер возрастания объема информации, получаемой супермозгом, будет тот же.
Что может делать супермозг, когда возможности хранения и обработки информации становятся близкими к исчерпанию? Он может сократить поток информации, который идет к нему от собственных сегментов. Для этого супермозг начинает реже подавать сигналы, инициирующие поиски и исследования, сокращая объем получаемой информации. Но неконтролируемое поступление новой информации при этом не прекращается, так как не прекращаются импульсы от собственного сегмента, которые супермозг не в состоянии подавить. Но поток информации заметно уменьшается и снижается уровень «пионерско-экспансионистской» настройки общества. Экспансия всегда требует особой внутренней настройки человеческой массы и, как показывает история, внешние обстоятельства являются источником таких импульсов лишь в том смысле, что создаются условия, при которых экспансия становится желательной. Стимул для начала любого рода экспансии задается сигналами супермозга. Снижение же уровня «поисковых», исследовательских устремлений приводит к апатии общества и переводит интеллектуальные и физические усилия сообщества с познавания нового на использование уже накопленного, что требует заметно меньше информационных затрат. Вместо новых форм и методов, которые создают новые измерения в жизни общества, интеллектуальные силы направляются на повышение комфорта уже найденных жизненных ниш. Развивается культ мелочей, как в интеллектуальной, так и материальной жизни общества, истинные испытания и опасности начинают заменяться эмоциями просмотра кинофильмов или писутствия на спортивных состязаниях. Очень похожую картину последних этапов жизни общества дают исторические исследования.
О нравственной стагнации говорит и Н. Я. Данилевский, когда он отмечает, что последний этап в жизни «культурно-исторического типа» «может проходить под знаком либо апатии самодовольства, либо апатии отчаяния».
О. Шпенглер проводит четкую грань между использованными им понятиями «культура» и «цивилизация». Под развитием «культуры» он понимает стремление к развитию, познание и построение нового, а под построением «цивилизации» – использование уже ранее накопленного знания и умения.
По О. Шпенглеру, переход от культуры к цивилизации – признак начала упадка и гибели культуры. «…Когда цель (культуры В. Л.) достигнута и идея, т. е. все изобилие внутренних возможностей, завершена и осуществлена во внешнем, тогда культура вдруг застывает, отмирает, ее кровь свертывается, силы ее надламываются – она становится цивилизацией при наступлении старости начинающейся цивилизации огонь души угасает; усталая, вялая и остывшая, она (культура В. Л.) теряет радость бытия и стремится – как в римскую эпоху – из тысячелетнего света обратно в потемки перводушевной мистики, назад в материнское лоно, в могилу…»
Л. Н. Гумилев говорит о том, что развитие этноса тесно связано с «пассио нарным напряжением», понимая под ним долю пассионариев в обществе. Под пассионарностью понимается состояние «необоримого внутреннего стремления к целенаправленной деятельности, всегда связанной с изменением окружения, общественного или природного, причем достижение намеченной цели, <…> представляется ему ценнее даже собственной жизни» [23].
В рамках обсуждаемой гипотезы пассионарность можно трактовать как повышенную чувствительность к сигналом супермозга, которые инициируют экспансионистскую, исследовательскую деятельность и объемы информационных потоков в «коллективном субъекте» прямо зависят от того, что у
Л. Н. Гумилева понимается как «пассионарное напряжение». По Л. Н. Гумилеву, все стадии развития этноса связаны и определяются «пассионарным состоянием» сообщества. Поэтому, в терминах гипотезы супермозга, все этапы развития этноса у него косвенно связаны с объемами информационных потоков в нем.
Переполнение информационных хранилищ этноса и связанное с этим сокращение экспансионистской стимуляции приводит к уменьшению «пассионарного напряжения», т. е. снижению уровня активирующих сигналов супермозга, и, при снижении этого напряжения ниже некоторого уровня, происходит катастрофа. «Устойчивость этноса неожиданно теряется, когда пассионариев становится настолько мало, что системные связи, поддерживаемые их энергией, ослабевают и обрываются»[23].
Надо отметить, что здесь Л. Н. Гумилев говорит о следствии как о причине. Уменьшение количества пассионариев возникает как следствие информационной перегрузки, защищаясь от которой супермозг и уменьшает число пассионариев. Только гипотеза супермозга позволяет здесь правильно расставить акценты и адекватно объяснить описываемые Л. Н. Гумилевым явления.
Л. Н. Гумилев также утверждает, что в некоторых случаях, когда удается резко сократить информационный обмен, и когда внешние условия это позволяют, этнос вступает в фазу равновесия со средой. «Эта фаза гомеостаза, в которой изолированный этнос может существовать сколь угодно долго. Остаются только гармоничные особи, нашедшие равновесие с вмещающим и кормящим их ландшафтом…»[23]. Под «гармоничными особами «у Л. Н. Гумилева понимаются лица, лишенные экспансионистских, исследовательских стремлений, которые экономно пользуются накопленным багажом знаний и умений. Информационное заполнение супермозга при таком состоянии этноса не возрастает, точнее, возрастает крайне медленно, а изоляция спасает от агрессии соседей».
Как видно из проведенного сравнения предсказанных особенностей поведения этноса с особенностями, зафиксированными в исторических исследованиях, предположение о связи информационного переполнения с распадом этноса представляется весьма правдоподобным.
В гипотезе супермозга предполагается, что высокая надежность связи субцентров мозга обеспечивается ячеистой структурой сети, связывающей субцентры, в которой каждый субцентр связан с несколькими соседними.
Эта структура, в отличие, например, от линейной сети, обеспечивает надежность передачи сигнала и при гибели нескольких промежуточных субцентров, но при очень больших потерях узлов она распадается. История также дает примеры распада цивилизаций при больших потерях в людях за счет катастроф или агрессии соседей. Можно предположить, что такой распад вызывается разрушением сети, соединяющей сегменты супермозга и потерей информационного контакта между членами этого «коллективного субъекта».
Возникновение этноса по Л. Н. Гумилеву.
Еще одним подтверждением жизненности гипотезы супермозга является разработанная Л. Н. Гумилевым картина рождения этноса. По Л.Н.Гумилеву, процесс возникновения нового этноса идет следующим образом [23]: Из субэтнического или племенного субстрата на фоне значительного пассионарного напряжения возникают временные объединения людей, объединенные, по его словам, «…одной исторической судьбой», которые он называет «консорции». В качестве примера возможных консорций приводятся «…»кружки, артели, секты, банды и тому подобные нестойкие объединения». Это объединения людей, близко живущих друг к другу, обычно имеющих сходные занятия, и они, эти объединения, являются первым этапом создания этноса.
Консорции легко распадаются и редко живут поколение или более, но «тогда они становятся конвиксиями, т. е. группами людей с однохарактерным бытом и семейными связями». Но конвиксии, в которые переходят наиболее стойки консорции, тоже не являются особо стойкими объединениями. «Их разъедает экзогамия* и перетасовывает сукцессия, т. е. резкое изменение исторического окружения. Уцелевшие конвиксии вырастают в субэтносы». Субэтносы, по Л. Н. Гумилеву, это составные части этноса, которые делят между собой функции внутри этноса, находясь в состоянии симбиоза. Один из субэтносов может быть доминирующим, и неантогонистическая конкуренция субэтносов повышает функциональную гибкость этноса и делает его устойчивым.
*) Характерный для первобытно общинного строя обычай, запрещающий браки между мужчинами и женщинами одного и того же рода, племени.
Ярким историческим описаниям Л. Н. Гумилева хорошо соответствуют расшифровки внутренних причин этих процессов этногенеза, которые возникают при применении к ним гипотезы супермозга. С точки зрения этой гипотезы, консорции образуются под влиянием двух факторов. Во-первых, это высокое пассионарное напряжение, характерное для руководителей, которые объединяют вокруг себя людей, близких по своим психофизическим качествам или параметрам «сигналов опознания». Это напряжение поддерживается высоким уровнем активирующей стимуляции практически свободных от запасов информации «интеллектуальных субцентров».
Во-вторых, это непрерывно излучаемые «сигналы опознания» сегментов супермозга людей, входящих в субэтнический субстрат. Параметры «сигналов опознания», излучаемых «интеллектуальными субцентрами», тесно связаны с особенностями психофизической настройки человека, и «близкие» сигналы принадлежат людям с близкой настройкой психики. Образованию консорций способствует то, что субцентры людей из племени или остатков распавшихся этносов, живущих рядом, вероятнее всего, находятся рядом и в сети супермозга. Это облегчает подсознательную коммуникацию субцентров этих людей и ускоряет образование зародышей этноса.
У Л. Н. Гумилева вводится специальное понятие, связанное с процессом «сортировки» по «сигналу опознания». Он говорит о «…комплиментарности, связанной с подсознательной взаимной симпатией особей. На этом принципе (комплиментарности – В. Л.) заключаются браки по любви, но нельзя ограничивать комплиментарность сферой секса, которая является лишь вариантом проявления этого принципа. В становлении первичного коллектива, зародыша этноса, главную роль играет неосознанная тяга людей определенного склада друг к другу.»
Гипотеза супермозга дает понятию комплиментарности физическую основу. Об аналогии между запахами у животных и «сигналами опознания» у Homo sapiens говорилось выше. Запах, общий для всех животных данного вида, в то же время достаточно изменчив для того, чтобы идентифицировать каждое отдельное животное. Естественно предполагать, что и «сигнал опознания» будет в достаточной степени изменчивым. Но запах – это средство идентификации, которое работает, в основном, при контактах, а поисковый сигнал «интеллектуального субцентра» действует дистанционно и ускоряет отбор и объединение людей со сходными психотипами.
У людей, относящихся к обломкам разных распавшихся этносов, сегменты супермозга, вообще говоря, «не слышат» друг друга, так как у них различаются «сигналы опознания». Однако как уже говорилось выше, параметры поискового сигнала супермозга достаточно изменчивы, и «пограничные» случаи этого сигнала могут восприниматься субцентрами другого супермозга, если те тоже находятся «на краю» разброса параметров своего сигнала. Поэтому в консорции могут объединяться и люди с экстремальными параметрами «сигнала опознания», относящиеся к другим этносам или племенам.
В начале возникновения консорции представляют собою достаточно «рыхлые» образования, и переходы членов одной консорции в другую по признаку близости «сигнала опознания», становятся одним из важных факторов их формирования. Чем более «информационно компактна» консорция, т. е. чем ближе между собой «сигналы опознания» ее членов, тем более она устойчива и тем быстрее она растет.
Продолжительное существование консорции и ее рост за счет периферийных членов других консорций переводит ее в конвиксию, т. е. более однородную общность с однохарактерным бытом и семейными связями. Но только у некоторых конвиксий процесс «сближения» параметров «сигнала опознания» пойдет достаточно быстро для превращения в субэтнос.
Достаточно устойчивая и стабильно растущая в течение долгого времени конвиксия становится субэтносом – составной частью этноса или, разрастаясь и укрепляясь, может превратиться в этнос.
Таким образом, формирование субэтноса и далее этноса происходит на фоне унификации множества «сигналов опознания» их членов, набираемых из полиэтнического и племенного субстрата. При образовании нового этноса, с новым укладом жизни и новыми архетипами, первоначальные «сигналы опознания» его членов деформируются, уходя от прежней формы к новой индивидуальности. Судьбы начальных этнических образований – от консорции до субэтноса – зависят от того, насколько однородны «сигналы опознания» их членов и как быстро они унифицируются параллельно с построением нового супермозга. Процесс формирования этнического «сигнала опознания» идет параллельно сближению обычаев и условий быта, обогащению фольклора и созданию этнических архетипов.
Как видно, и в этом случае использование гипотезы супермозга позволило наглядно и с единой точки зрения объяснить внутренние причины и особенности протекания сложного исторического процесса – возникновение этноса и его первоначальных элементов.
Культурологи и лингвисты.
Гипотеза супермозга позволяет объяснить и такое, не очень понятное, явление, как сохранение популяцией своих этнических и культурных черт. У каждого этноса есть свои особенности, которые проявляются в образе жизни, характере реакции на внешние импульсы, психической структуре и фольклоре. Ниже будем называть комплекс этих особенностей этническими характеристиками. Этнические характеристики имеют обычно несколько расплывчатые границы, но в комплексе своем они позволяют достаточно четко определять и различать те или иные этносы.
Очень важно то, что отдельный представитель этноса ни в коей мере не содержит все компоненты характеристик этноса. Не содержит их и малая группа членов этноса. Только весь этнос может демонстрировать полный набор этнических особенностей.
Расовые особенности популяции хранятся в генетической памяти и механизм их сохранения достаточно ясен. С этническими особенностями дело обстоит по-другому. Эти особенности возникают при жизни этноса, и период их образования составляет, в лучшем случае, десяток столетий.
За это время этнические особенности, в отличие от расовых, не успевают «опуститься» в генетическую память, и механизм их сохранения не очень понятен. В связи с этим возникает вопрос: где хранится информация об этнических особенностях поведения популяции? История свидетельствует, что этносы распадаются в массу субэтнического субстрата и из него создаются новые этносы со своими этническими характеристиками, не совпадающими с характеристиками прежних этносов. Как объяснить сохранность основных этнических признаков – архетипов – на всем протяжении жизни этноса, если они не хранятся в наследственной памяти? Принятое в настоящее время предположение о сохранении этих характеристик передачей от поколения к поколению через обучение и воспитание не очень убедительно. По утверждению К. Юнга, формирование человека идет не только в детстве, а продолжается всю жизнь. Того же мнения придерживался и известный американский антрополог и психолог Кларк Висслер (Clark Wi-ssler) и ряд других исследователей-психологов и антропологов. Очевидно, что передача этнических характеристик обучением и воспитанием – процесс длительный. При большой длительности этой передачи только при помощи воспитания неизбежно постепенное обеднение набора архетипов из-за гибели отдельных их носителей, выступающих в роли воспитателей.
Особенно интенсивно процесс обеднения шел бы в ранние периоды истории этносов, когда смертность и военная, и бытовая была очень велика, а средняя продолжительность жизни – мала. Дублирование, т. е. сохранение одного частного набора архетипов в нескольких носителях замедляет процесс обеднения, но не исключает его. Поэтому представляется, что нужен еще какой-то механизм хранения и передачи этнических характеристик, независимый от передачи обучением или через хромосомы.
Трудности, связанные с представлением о передаче этнических характеристик только через обучение и воспитание заставляют ученых изменять взгляды на процесс передачи этнических характеристик, включая в него наследственные элементы. Очень наглядно эти новые подходы проявились в работах знаменитого американского лингвиста Ноама Хомского и известного антрополога и психолога Кларка Висслера.
Постановка задачи исследования Н. Хомского кардинально отличалась от принятой в лингвистике первой половины ХХ века. Н. Хомский не стремился исследовать язык как самостоятельный объект – целью его исследования был ответ на вопрос о том, каким образом человек усваивает язык[32]. Речь рассматривалась Хомским как врожденная особенность, свойственная человеку как биологическому виду. Изучить, каким образом человек усваивает язык, значило, по Хомскому, расшифровать эту важнейшую сторону работы человеческого мозга.
Загадочность процесса овладения языком хорошо видна при анализе особенностей его освоения ребенком. С одной стороны, язык позволяет сформулировать бесконечное множество грамматически правильных предложений, которые в принципе невозможно все услышать и запомнить.
Любой реализованный набор таких предложений будет заведомо включать лишь часть возможных выражений. С другой стороны, ребенок достаточно быстро овладевает грамматикой родного языка и может отличить грамматически правильное предложение на этом языке от неправильного, несмотря на то, что его языковый багаж еще очень мал. То, что предложений, о правильности или неправильности которых ребенок непосредственно узнает от окружающих, недостаточно для овладения грамматикой родного языка, сегодня признают все лингвисты, занимающиеся проблемой изучения языка. Школа Хомского предполагает, что Homo sapiens обладает врожденной «языковой компетенцией», которая позволяет овладевать и пользоваться языком.
В теории Н. Хомского постулируется наличие врожденных универсальных базовых правил и ограничений на их использование, которые получили название принципов. Различия между грамматиками разных языков в пределах, разрешенных принципами, были названы параметрами. Принципы, по Н. Хомскому, являются наследственными компонентами языковой компетенции и свойственны Homo sapiens как виду, а параметры могут передаваться, например, обучением.
Надо отметить, что в лингвистике существуют и другие направления, которые объясняют особенности процесса усвоения языка без привлечения наследственной компоненты. Но представляется очень показательным, что представления о наследственной передаче важнейшего компонента этнических характеристик – языка – не только появились в современной науке, но и развиваются крупнейшими научными авторитетами.
Показательным также является и то, что в современной психологии и культурологии также появились направления, которые утверждают, что этнические характеристики в значительной части своей являются врожденными особенностями человека. Так, еще в первой половине ХХ века американский психолог Кларк Висслер сформулировал понятие о «врожденной культурной экипировки». Известный российский ученый Светлана Лурье в книге «Метаморфозы традиционного сознания» [33] так пишет о взглядах Висслера: «Висслер начинает разделять универсальные культурные модели и конкретное историческое содержание, с которым эти универсальные модели сопрягались. Универсальные культурные модели человека включают речь, материальные черты (жилище, одежду, орудия труда и т. п.), искусство, мифологию, научное познание, религиозную практику, семейную и социальные системы, систему управления, собственность, войну и т. п.
Внутри пределов культурных моделей существует, однако, пространство для бесконечных вариаций. Исторически приобретенные вариации содержания отличают одну культуру от другой. Источником происхождения культурных моделей является культурная экипировка человека, которая предает культурно-специфическую форму его инстинктами и побуждениями и провоцирует человека включаться в культурный процесс и участвовать в культуре, в которой он родился. Как полагает Висслер, человек строит культуру, потому что он не может избежать этого; в его протоплазме существуют побуждения, которые ведут его к этому даже вопреки его воле. Из этого следует, что если в какое-либо время преемственность культуры будет нарушена, человеческая группа начнет конструировать ее заново на основании старых моделей. Культура не является «объективным конструктом», чье существование независимо от человека; она зависит от врожденной экипировки человека и биологической наследственности. Подход, который закрывает глаза на биологические основание культуры и особенно на рефлективный ответ, – с точки зрения Висслера, – неадекватен.» Говоря о позднейшем развитии идей Висслера, С. Лурье пишет: «Эти идеи получили широкое развитие в культурной психологии, прежде всего у Майкла Коула, одного из ведущих ее современных представителей, и быстро проникли в психологическую антропологию. Толчок к развитию этих идей дала лингвистическая концепция Наума Хомского о врожденности языковых парадигм.
Эта концепция Висслера-Коула представляет несомненную важность для современной этнопсихологии. Важным для этнопсихологии представляется также положение, что если по какой-либо причине преемственность культуры будет нарушена, человеческая группа начнет конструировать ее заново на основании старых моделей.»
Как видно, в современной науке четко прослеживается стремление связать базовые этнические характеристики сообщества с процессом их наследственной передачи. Однако при этом не рассматривается и даже не ставится вопрос о механизме наследственного хранения этнических характеристик. Как уже говорилось выше, эти характеристики не являются такими же устойчивыми, как, например, расовые признаки, и формируются они за время жизни этноса, т. е. за период, продолжительность которого явно недостаточна для включения генетической памяти. И опять возникает вопрос: где во время жизни этноса хранятся базовые этнические характеристики, где физически расположено это хранилище, ответственное как за стабильность, так и за изменчивость этнических характеристик? Гипотеза супермозга дает четкий ответ на эти вопросы.
Хранилищем архетипов или базовых этнических характеристик является то, что, по терминологии К. Юнга, называется «коллективное бессознательное». Выше говорилось, что хранилищем «коллективного бессознательного» является супермозг, и именно в структурах супермозга хранятся те базовые культурные и поведенческие характеристики, которые отличают один этнос от другого. Собственные сегменты членов популяции получают наборы поведенческих особенностей от супермозга, и они хранятся в «личном подсознательном», «не достигающем пороговой отметки сознания»[27]. Воспитание и обучение только инициируют, выводят из подсознания эти особенности. При этом понятно, что инициализация имеющихся архетипов занимает значительно меньшее время и требует заметно меньших усилий, чем внедрение этих архетипов воспитанием и обучением. В этом случае обеднения набора архетипов не происходит, так как копии архетипов хранятся в памяти супермозга и могут инициироваться в любом поколении. Видно, что при использовании гипотезы супермозга процесс накопления этнических особенностей, их хранения и распространения теряет черты загадочности и укладывается в достаточно простую и физически обоснованную схему.