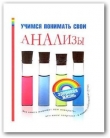Текст книги "Записки Шанхайского Врача"
Автор книги: Виктор Смольников
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 21 страниц)
Конец войны в Шанхае означал немедленное освобождение заключенных из всех концлагерей. Японцы по приказу императора Хирохито немедленно сложили оружие и исчезли. В это время я и поехал со своим другом детства Б.И. Степановым в лагерь Лунгхуа. У ворот стоял стол, а за ним сидела комиссия по приему гостей, все в одних трусах, так как было жарко, да и рубах чистых не было. Будучи в отличном настроении, они пропускали на территорию всех без разбора.
Бертона я нашел в его бараке. Он сидел без рубашки, курил какую-то сигарету и ругался: «Проклятая капуста, а не табак». Кожа его была покрыта тропической сыпью, так как с купаньем в лагере было плохо.
Одна из моих русских пациенток, жена англичанина, рассказала мне о торжественном подъеме флагов всех союзных наций в честь победы. В лагере уже были иностранцы, мыслившие в духе «холодной войны», и они запротестовали против подъема советского флага. Однако взяла верх более разумная группа. Спешно были вызваны русские жены англичан, и им поручили сшить советский флаг. Они его сшили, но возникло новое затруднение: у самодеятельного оркестра не было нот советского гимна. Англичане пошли на компромисс и подняли советский флаг под звуки «Боже, царя храни». Бертон мне ничего об этом инциденте не рассказывал. Очевидно, ему было неловко. Но все это было уже по окончании войны. Мы же вернемся вновь к событиям военного времени.
Выехав из гетто, я поселился в пустом доме иезуитов Чанзинг род. Иезуиты сдали мне три комнаты, расположенные в разных концах длиннющего коридора. Перед окном, выходившим на тихую улицу, находилось футбольное поле католической средней школы Франсуа Ксавье и длинный навес для игр в дождливую погоду, покрытый большими листами кровельного железа. Здесь каждый день соседи-японцы занимались «фехтованием» бамбуковыми палками, и в шесть часов утра нас будили их крики.
Японцы заставили всех жителей Шанхая выращивать у себя в садах и на пустых участках касторку: касторовое масло, как нам говорили, вполне заменяет в самолетах какое-то другое масло. Заросли касторки удивительно красивы. Участок покрывается этими гигантскими, в два раза выше человеческого роста, растениями с большими листьями очень быстро. Если они густо посажены, то получается непроницаемая живая изгородь. Однако о том, что бы японцы убирали урожай касторки, я что-то не слышал, и, наверное, ни один японский самолет с шанхайской касторкой не взлетел.
На Шанхай периодически налетали американские самолеты Б-29 и бомбили стратегически важные пункты. Делалось это довольно точно, и жертв среди населения от этих бомбежек не было. Однажды американцы предприняли так называемую «ковровую бомбежку» в центре того района, где жили мы. С какой-то определенной целью они разбомбили здание английской табачной компании, а также разрушили еврейскую школу, расположенную рядом. Но в школе жертв не было: был то ли праздник, то ли летние каникулы. Не помню.
В основном же, американские самолеты бомбили заводы на окраине города. Это не сравнимо с тем, что сделал китайский летчик в начале японо-китайской войны (она началась 13 августа 1937 года), и до сих пор неизвестна причина того страшного поступка. Это случилось в середине ясного солнечного дня. Большая площадь рядом с ипподромом, расположенным в центре города, была заполнена людьми. Китайский бомбардировщик пролетал над ипподромом. Возможно, аэроплан был подбит, и летчик хотел избавиться от бомб, но он сбросил их прямо в эту толпу. В результате – около шестисот убитых и более тысячи раненых. Машины скорой помощи развозили раненых по всем больницам Шанхая. Мест не хватало. В университетскую клинику привозили раненых и клали на голый пол, а мы, студенты, ходили между ними, лили на раны йод и перевязывали. В один день мы израсходовали весь перевязочный материал большой университетской больницы. Шанхай совсем не был готов к войне.
Со временем американцы чаще стали делать налеты на район, где жили мы. Там располагалось несколько фабрик, очевидно, представлявших собой военные объекты. Я начал искать квартиру на территории французской концессии. Мне помогла настоятельница францисканских монашек, работавших медсестрами в Дженерал. Сделать это не представляло особого труда, поскольку я был их врачом. Жену с двумя детьми она поселила в небольшой двухкомнатный домик на крыше колледжа Святого Сердца – женский католический монастырь со средней школой для девочек. Я же переехал в колледж св. Михаила, который находился рядом. В мирное время в колледже размещалось общежитие для русских студентов университета «Аврора». Теперь здесь жил только отец Чаймберс, ирландец по национальности, высокий красавец-блондин. Здание пустовало, но японцы им долго не интересовались: с Ирландией Япония не воевала. Я снял комнату, и сюда же, по моей рекомендации, переехали В.М. Шнеер-сон и Ю. Сдобников. Оба они сейчас в Советском Союзе. Прожили мы в этом монашеском общежитии месяца два.
Как-то ночью мы проснулись от равномерного топота ног: мимо дома проходили японские солдаты. Они направлялись в сторону европейской части международного сеттльмента. Солдат было так много, что их колонны мы могли наблюдать почти до утра. На следующий день на территории французской концессии началось выселение жителей нижних этажей высотных зданий. Доктор Лем-перт был среди этих жертв. Поскольку никакого жилья взамен не предоставляли, он поместил свою жену в еврейскую больницу, заплатив большие деньги за палату первого класса (то есть рассчитанную на одного человека), а сам переехал в свою лабораторию, где и жил один, рядом с бараном, поставлявшим кровь для реакции Вассермана.
Освободив нижние этажи высотного здания, японцы забили их артиллерийскими снарядами, а на верхних, над этими складами, оставили жить иностранцев. Японцы считали, что об этом станет известно американцам и те не станут бомбить здания, в которых живут европейцы, потому что количество жертв тогда было бы ужасным. От американских бомб тогда взлетели бы на воздух не только сами эти высотные дома, но и все вокруг. Впрочем, думаю, японцы ошибались: сбросили ведь американцы бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Не дрогнули.
Вскоре японцы забрали здание колледжа, выселив и отца Чаймберса, и нас. Тогда монашки пустили меня в домик на крыше к моей семье. Я был единственным мужчиной, жившим в женском монастыре. Вообще мужчины в монастыре появлялись: садовник, слесарь, электрик и другие. Они здесь работали, но жили в отдельном домике в глубине парка. В нарушение монастырского устава меня пустили в сам монастырь. Правда, тут уже было не до устава. Половину помещений к тому времени забрали японские солдаты. Одна из моих комнат большим стеклянным окном выходила на оккупированную японцами часть здания. Монашки велели заделать стекло фанерой, но эта фанера не давала мне спать. Ночью японцы, очевидно, кутили, и через фанеру слышался смех, песни, женский визг.
В монастырь Святого Сердца переместили и другие женские католические ордена и конгрегации «вражеской национальности». В общем, очень большое здание было забито женщинами. Орден Святого Сердца считался самым интеллектуальным из всех женских орденов. Одна монашка, мать Фицджералд, говорила мне: «Мы равны ордену иезуитов». Я это рассказал одному из моих профессоров, французскому иезуиту. Он презрительно усмехнулся (возможно, в уме даже плюнул) и ответил: «Как бы не так. Эти дуры могут воображать и болтать все, что им угодно. Они знают, что все равно с ними ничего поделать нельзя». Но о католических монахах и монашках я пишу в отдельной главе моей книги. Очень интересный народ.
Американцы оправились от первоначального шока и начали теснить японцев. Великая японская империя затрещала по швам.
Девятого сентября 1943 года, приехав в Дженерал Гос-питал, я заметил, что на велосипеде медсестры из Италии мисс Миллер нет итальянского флажка. Мой пациент, полицейский английской полиции Майер (немец, наверное, член нацистской партии), встретив меня, сообщил, что Италия вышла из войны и итальянцы потопили в Вампу два своих судна: гигантский океанский лайнер «Конте Верде» и одну из военных канонерок – или «Лепанто», или «Эрмано Карлотто». Именно эти две канонерки по очереди несли службу в китайских водах. Очевидно, их офицерский состав специализировался по дальневосточным кабакам, и итальянское адмиралтейство считало целесообразным посылать на Дальний Восток только их.
Ночью пришла радиограмма на эти корабли из Рима с приказом открыть кингстоны и затопить корабли. Итальянцы это выполнили. Канонерка, конечно, сразу ушла под воду, а гигант-лайнер повалился на бок и высоко выдавался над водой. Из окна моего кабинета черный борт «Конте Верде», по которому ходили итальянские моряки, выглядел, как чудо-юдо рыба-кит. Потом на моторных лодках пришли японцы, арестовали всех итальянцев, и по борту корабля зашагал японский часовой.
Моряки с итальянской канонерки, стоявшей у набережной французской концессии, пытались подняться на берег, но японские солдаты и французские полицейские спихивали их назад в воду. Удивительно странная тактическая «акция». Формально итальянцы стали врагами Японии. Ну и прекрасно. Следовательно, их надо брать в плен, а не спихивать в воду. Правда, поиздевавшись, японцы все же забрали их в плен.
О дальнейшей судьбе итальянской канонерки я ничего не знаю: наверное, ее подняли. А вот с «Конте Верде» японцам пришлось повозиться. Сначала они долго ничего не делали. Подъем судна начался, пожалуй, через год. Вокруг какого-то здания на набережной обвили толстую стальную цепь, прикрепили ее концы к кораблю, а потом, используя машины, стали наматывать эту цепь, придавая «Конте Верде» вертикальное положение. После подъема его очень долго сушили и чистили, привели в порядок, подняли японский флаг и отправили в Японию. При выходе из Вампу корабль потопила американская подводная лодка, на сей раз настоящая.
Все граждане вражеских стран должны были носить красные повязки с большими буквами: «Б» – британец, «А» – американец и т.д. Итальянцам надо было спешно сшить нарукавные повязки с буквой «И». В итальянском клубе большая сцена закрывалась занавесом из красного бархата. Японцы велели сшить повязки из этого занавеса, и итальянцы щеголяли с красивыми бархатными повязками. Вряд ли они были от этого счастливы.
Наконец сопротивление японской армии было сломлено. Президент США Трумэн приказал сбросить на два беззащитных японских города – Хиросиму и Нагасаки – по атомной бомбе. Это было б августа 1945 года. Формально война еще не окончилась, когда на здании Британско-американской табачной компании, напротив Дженерал Гос-питал, взвился английский флаг. Его поднял китаец-сторож, которому приказали сделать это в день окончания войны. Это была роковая ошибка: тут же пришли японские жандармы, флаг сорвали, а китайца увели. Никто о нем больше ничего не слышал: расстреляли, наверное.
В Дженерал Госпитал, где у меня лежало человек сто интернированных врагов Японии, царило сплошное веселье. Иностранцы пустили в ход запасы водки, которую, как я уже писал, держали в термосах. Кстати, этот очень хороший метод можно рекомендовать всем. Даже в тропическую шанхайскую жару, когда температура доходила до сорока двух градусов Цельсия, водка оставалась ледяной. После очередной ночной попойки – дежурные монашки делали вид, что они ничего не замечают, – доктор Андреев, заместитель директора больницы, мой друг и однокурсник, повторил ошибку китайца-сторожа: поднялся на крышу больницы и также поднял английский флаг. К крыше вела одна лестница, видимо, кто-то видел, как Андреев лез по ней с флагом, и донес на него.
Утром, подъезжая на велосипеде к госпиталю, я увидел, как вооруженные японские жандармы выводят на улицу бледного Андреева. Ничего не понимая, я спросил у дежурного русского телефониста, что произошло. Тот ничего не знал. Вскоре прибежал китаец-бой и сообщил, что Андреева расстреляли у стены Бридж Хауза (тюрьма японской жандармерии, находившаяся как раз за углом госпиталя). Андреев был женат на моей двоюродной сестре, и я не знал, что мне делать, как сказать Кате, что его только что расстреляли. Пока я раздумывал, сидя в приемной, явился сам «расстрелянный». Оказывается, японские жандармы стукнули его по голове и сказали, чтобы он убирался ко всем чертям. Японцы тоже уже понимали, что их власть кончилась. В полной боевой готовности у них оставалась только Квантунская армия в Манчжурии, которую они готовили в подарок нам. О том, как эта армия была разгромлена советскими войсками за двенадцать дней, можно прочитать в книге воспоминаний маршала Советского Союза П.А. Мерецкова.
В тот день, когда Советский Союз объявил войну Японии, во двор Общества граждан СССР въехал японский военный грузовик. Навстречу ему вышел секретарь общества Виктор Рублев, прекрасно говоривший по-китайски и по-японски. Из машины выскочил японский лейтенант и сказал, что генерал такой-то любезно прислал перевязочные материалы и медикаменты для советских граждан, так как японцы Шанхая никогда не сдадут. Шанхай будет вторым Сталинградом. Рублев, проживший всю жизнь в Китае и привыкший к китайским церемониям и японской вежливости, всегда говорил спокойным, мягким голосом. Он вежливо спросил, знает ли уважаемый господин лейтенант, что СССР объявил войну Японии и наши войска уже в Манчжурии. Лейтенант обалдело посмотрел на Рублева, вскочил в грузовик и быстро уехал вместе с подарками.
Некоторые хозяйственники говорили, что Рублев поступил неправильно. Надо было весь перевязочный материал принять, а о войне лейтенант мог бы узнать и у себя в казарме. Впрочем, у хозяйственников другой точки зрения не могло и быть. Но, скорее всего, все кончилось бы тем, что вслед за лейтенантом приехали бы японские солдаты, чтобы расстрелять Рублева, забрать свои вещи и разрушить советский клуб.
Идея «второго Сталинграда» за время войны распространялась в Шанхае дважды: один раз японцами – «японский Сталинград», а позже, в 1949 году, гоминьдановцами, то есть чанкайшистами, – «гоминьдановский Сталинград».
Японцы, готовясь ко «второму Сталинграду», прямо на тротуарах городских магистралей, рядом с заборами рыли окопы глубиной метра в полтора. Многочисленное китайское население использовало их в качестве общественных туалетов. А так как в Шанхае часто идут дожди, то читатель легко может себе представить, какой вонючей жижей довольно быстро наполнились эти окопы.
Жертвой этого японского «второго Сталинграда» стал всего один человек: мой друг, доктор Ганс Данцигер. Сейчас ему семьдесят лет, он живет с семьей в Канаде и, наверное, с ужасом вспоминает ту кошмарную ночь.
Данцигер, блестящий врач, был тогда молодым человеком, лет тридцати пяти, но совершенно лысым. Он уверял меня, что в студенческие годы имел чудные кудри и его везде принимали за Шуберта. В компаниях он был очень общительным и веселым, его любили все. Однажды Данцигера пригласили на русскую свадьбу – выходила замуж какая-то русская медсестра из «Кантри Гос-питал». Он отправился в гости в сопровождении польской акушерки и русской медсестры из той же больницы. На свадьбе много ели, много пели, а главное – много пили, а пить в те годы Данцигер умел. Часа в два ночи вместе со своими спутницами он отправился домой по главной улице французской концессии. Из-за военного времени в городе было полное затемнение, и они, маневрируя между окопами, для равновесия держались за заборы. Случилось неизбежное: сначала в окоп упала польская акушерка, на нее – Данцигер, а сверху – русская медсестра. Приняв зловонную ванну, все трое быстро выбрались на тротуар, но Данцигер в этой жиже потерял свои очки. Они были в золотой оправе, но не золото было причиной его дальнейших действий. Сильно близорукий, он вообще ничего не видел без очков. Как человек мужественный Данцигер храбро бросился в пучину, долго барахтался там на четвереньках, но очки нашел. Когда он выбрался из канавы, все трое отправились домой к польской акушерке. Дамы сразу же удалились в ванную комнату, помылись, надели чистые халаты и вышли свежие, как розы. Но что было делать с Данцингером? Его новый белый летний костюм стал какого-то зеленовато-желтого цвета. Сначала дамы оттирали его мокрыми полотенцами с мылом – ничего не получилось. Переодеться в зеленое дамское платье Данцигер наотрез отказался. Тогда польская акушерка взяла флакон с духами и вылила его на пострадавшего. Тоже умница! Если бы она знала, какую медвежью услугу оказывает ему! Домой Данцигер шел пешком: никакого транспорта ночью в то время не было. Жил он в другой части Шанхая и явился домой на рассвете, в костюме странного цвета, с запахом чужих женских духов и еще чего-то подозрительного... После этого эпизода жена не разговаривала с ним целый месяц.
Объявление об окончании войны застало меня на главной улице французской концессии авеню Жоффр, по которой я проезжал на своем велосипеде. Улицу заполнила разношерстная толпа – японцы, китайцы, европейцы. Полиция перекрыла в городе движение, и я слез с велосипеда... Из динамиков, установленных на всех перекрестках, гремел голос, говоривший по-японски. После речи заиграл японский гимн, все японцы повалились на колени и прижались лицами к тротуару. Затем кто-то снова заговорил. Это был Хирохито, приказавший всем своим соотечественникам, где бы они ни находились, прекратить сопротивление. Так я узнал о конце войны.
В дневнике у меня есть запись от 12 августа 1945 года: «—10-го августа ночью шанхайцы узнали о капитуляции Японии. Русская колония буквально сошла с ума. Не обошлось, конечно, и без хулиганства. Группа энтузиастов раздела догола японского жандарма».
На другой день, стоя на крыше монастыря, я вдруг увидел низко летящий американский Б-29. Никогда до сих пор мы не видели таких гигантских самолетов, и он казался чем-то сказочным. Это был первый американский десант, прибывший разоружать японцев.
Японцы быстро покидали Шанхай: перевозили артиллерийские снаряды из высотных домов, выводили войска. Я видел, как через всю территорию французской концессии шла какая-то японская воинская часть. Солдат было много, все без оружия, офицеры без мечей. Мне запомнилось лицо молодого офицера с черной бородой. Он шел, глядя прямо перед собой, и на лице его было написано страдание.
Японцы сдавались молча, без единого инцидента. Мне пришлось выехать из женского монастыря, и я временно вернулся в монашеский дом на Нанзингроуд. Моя спальная большой раздвигающейся дверью отделялась от аудитории, которая пустовала всю войну, а теперь неожиданно оказалась переполненной. Я невольно слышал все, что там происходило. В аудитории собрались японские католики, и к ним обращался американский священник. Он говорил об опасности коммунизма и о том, что с Советским Союзом придется бороться и, конечно, мощные США победят, так как бог именно на их стороне.
На улицах Шанхая появились американские солдаты и гоминдановские части, а также американская военная полиция в белых касках. Один такой блюститель порядка зашел в иностранный магазин на авеню Жоффр и, наведя дуло револьвера на кассиршу, ограбил кассу. Война окончилась. Снова начиналась эра западной цивилизации.
ШАНХАЙ ПОСЛЕВОЕННЫЙ
Во время войны в конце ноября 1943 года в Каире имела место встреча представителей трех держав: Китая (Чан Кайши), США (Рузвельт) и Великобритании (Черчилль). СССР не принимал участие в Каирской конференции, но был поставлен в известность обо всем, что там происходило. На конференции рассматривались вопросы о возвращении Китаю территорий, захваченных японцами (например, острова Тайвань), а также об упразднении права экстерриториальности для иностранцев и о ликвидации концессий в Китае. Собственно говоря, именно на этой конференции и решился вопрос о будущем международного сеттльмента и французской концессии в Шанхае. Мне неизвестно, знали ли об этом иностранцы, сидевшие в шанхайских лагерях, я что-то не помню разговоров на эту тему с моими пациентами, и в дневнике у меня по этому поводу нет никаких записей. Наверное, не знали. Но судьба иностранного Шанхая была решена.
Дела в Шанхае пошли не так хорошо, как это предсказывали оптимисты. Международный сеттльмент и французская концессия больше не существовали. Для сеттльмента это означало закрытие секретариата отдела здравоохранения, а также многих других отделов, о которых я даже не знал ничего (бухгалтерия, архив, отдел коммунального хозяйства), полиции, тюремной полиции, речной полиции, пожарной команды, русского полка. В общем, «правительство» с армией и всеми своими службами оказалось за бортом. То же самое произошло и в других городах, где были иностранные концессии (Тяньцзинь, Ханькоу): в большинстве случаев иностранцы остались без работы, и в первую очередь пострадали служащие администраций иностранных концессий. Безработица коснулась и большинства русских шанхайцев, в частности, служащих муниципалитета и полиции, остался без работы и русский полк. Китайцы не могли предоставить работу русским, да и не хотели этого делать, потому что те не знали китайского языка. Кроме того, и заработная плата, которую могли предложить китайцы, не могла устроить русского человека, потому что была невозможно низкой.
Безработица. Это и есть ответ на вопрос, почему все стали разбегаться из Шанхая, если там так хорошо жилось. У меня нет точных данных, но, наверное, это означало для русских потерю более пяти тысяч рабочих мест, для англичан – около десяти тысяч. Более сорока тысяч иностранцев оказались безработными.
Конечно, правительства разных стран, как умели, заботились о своих гражданах, находившихся в Китае: началась репатриация. Англичан посылали в Англию или в какие-либо английские колонии. Я знаю, что много английских полицейских уехали служить в полицию в британскую зону Западного Берлина. Подобным же образом поступали Франция, Бельгия, Голландия.
Что касается русских, то после войны в Шанхае возникла антисоветская организация «ПРО» (Международная организация помощи беженцам), уговаривавшая и помогавшая русским уезжать куда угодно, только не в Советский Союз. Ее услугами и решили воспользоваться многие русские эмигранты. Деятельность этой организации заключалась в том, что всех отъезжающих сначала отправляли на Филиппины, на остров Самар, где находился специально созданный лагерь, в котором они ожидали визы для въезда в США, Австралию и Канаду. Именно тогда на этот несчастный остров обрушился тайфун. Пережившие его рассказывали, что это было нечто страшное. Человеческих жертв, кажется, не было, но все, что ветер мог снести, а снести он мог все, кроме гор, он снес, и лагерь пришлось восстанавливать заново.
Процесс массового отъезда иностранцев из Шанхая не затронул лишь торговые фирмы, которые собирались продолжать в Китае свою деятельность, что гоминдановский Китай всячески приветствовал. Иностранцам вернули их фабрики и заводы, домовладельческие компании получили назад свои дома. Служащие этих компаний стали возвращаться на свои рабочие места, началось их переселение из лагерей. Чтобы вывезти всех оттуда до осени, в многокомнатных квартирах размещали сразу по несколько семей. Я бывал в этих квартирах и видел, что там творилось: в большой комнате стояло десять, а то и больше, раскладушек. Такая теснота, наверное, влекла за собой бытовые ссоры, но я не был их свидетелем. В присутствии врача, особенно не англичанина, ругаться неудобно -обычное человеческое лицемерие, присущее всем народам.
Война для заключенных окончилась, но появились новые сложные проблемы. Жилой фонд международного сеттльмента стал принадлежать китайцам, и часть людей в связи с этим лишилась жилья, у другой части – квартиры заняли другие люди, у третьей – японцы во время оккупации вывезли из квартир все: мебель, картины, посуду. Зайдя к одному англичанину, я увидел его лежащим на голом матрасе, поставленном на четыре жестяные банки из-под бисквитов. Кровать японцы забрали, а матрас почему-то оставили, исчезли одежда и обувь. Большинству служащих сеттльмента некуда было выехать из концлагерей, и многие заключенные после освобождения по несколько месяцев продолжали жить там. Обеспечить свое существование, постоянно проживая в лагере, было, видимо, непросто. Например, из лагеря Лунгхуа в город не ходил никакой транспорт, а расстояние было приличное. Как-то я встретил своего английского пациента на авеню Жоффр (главной улице французской концессии): он шел в одних трусах, держа на плече палочку, на которой висел узелок, не знаю с чем.
Послевоенный период в Шанхае можно охарактеризовать как период экономической оккупации американцами. Город был наводнен американскими товарами наихудшего качества. Голодный Шанхай впитывал в себя все, что американские бизнесмены собирались выбросить в мусорные ящики у себя дома. Во всех точках города возникали маленькие бары для американских солдат. И это касалось всех портов Китая. Власть перешла в руки Чан Кайши.
В Шанхай тихо, как саранча, вошла многочисленная армия «УНРРА» (Организация объединенных наций для помощи беженцам). Не знаю, каким беженцам они помогали в Шанхае. Беженцев там просто не было. Одна половина иностранцев сидела по концлагерям, но это были не беженцы, а резиденты Шанхая, другая – не сидела, но они никуда и не бежали: во-первых, невозможно, а во-вторых – куда? Но деятелей из УНРРА это отсутствие логики ничуть не беспокоило. Одетые в полувоенную форму, они шныряли по городу в джипах, которые привозили сотнями. В большинстве своем это были американцы или иностранцы, принявшие гражданство США, но были среди них и канадцы. На одном джипе я видел надпись «Канада», по-английски и по-русски.
Фирме «М» пришлось столкнуться с УНРРА очень близко. Поразительно, но, посылая в Шанхай несколько сот мужчин и женщин, американцы (а никто в Шанхае и не считал УНРРА организацией объединенных наций) не позаботились об их медицинском обслуживании. Впрочем, это, скорее, подчеркивало тот дух авантюризма, которым была пропитана вся их организация. Поскольку УНРРА было дешевле иметь дело с организацией врачей, а не с отдельными врачами, то ее представители оказались нашими пациентами. Их разместили по разным гостиницам Шанхая, и мне часто приходилось ездить из одного отеля в другой, навещая заболевших. Многие из них говорили откровенно, что раньше служили в ОСС (Американская военная разведка). Наверное, кто-то из них и в Шанхае продолжал работать по той же линии. А другие были просто авантюристами, которые позарились на хорошую зарплату и возможность ничего не делать.
Даже в таком прожженном городе, как Шанхай, эти господа выглядели жуликами. В УНРРА были и профессора медицины, неизвестно чем занимавшиеся. Бертон их просто не переносил. Как-то одна моя пациентка заболела, у нее поднялась температура. Диагноз был неясен, и я вызвал Бертона на консилиум. Американцы, со своей стороны, пригласили английского профессора из УНРРА. Профессор осмотрел больную и в тот момент, когда вошел Бертон, пытался стряхнуть термометр. У него ничего не получалось. Бертон попросил у профессора термометр и в несколько приемов его стряхнул. Профессор с напускным восхищением воскликнул: «Просто удивляюсь, как это вам удается!?» – «Двадцать лет практической медицины, мой мальчик», – сухо ответил ему Бертон. В целом работа с УНРРА была неинтересной: главным образом, это были истеричные люди, готовые вызвать врача только потому, что им не удавалось выпустить газы из кишечника. Мне запомнился всего один клинический случай. Заболел француз из УНРРА и вызвал меня к себе в гостиницу. У него оказался обычный насморк, и единственное, что я увидел интересного, – моя пациентка-американка, тоже из УНРРА, лежавшая в его постели.
В это время для фирмы началась эра искусственного «бума». Все лица, уезжавшие в США, должны были проходить медицинское обследование у нас. В Австралию -тоже. От всех отъезжающих китайская таможня требовала свидетельство о прививках (прививки делали мы). Китайское правительство прислало нам на обследование восемьсот китайских кадетов, которых гоминдановское правительство направляло в Англию для изучения мореплавания. Мы с ними провозились все лето, работая сутками. Чтобы справиться побыстрее, пришлось прибегнуть к разделению труда: каждый осматривал определенные органы тела. Мне поручили уши, горло, нос и зубы. Бедному доктору Ие досталась прямая кишка. За два летних месяца он произвел восемьсот ректальных исследований и потом жаловался, что у него на правом указательном пальце образовалась мозоль, мешающая проводить тонкие ортопедические операции.
Наступало время моего отпуска, который я собирался провести в Шотландии. Нервное напряжение у меня росло: очень уж неопределенной была обстановка. Мою тревогу подогревал доктор Ие, который пессимистически заявлял, что обратно в Китай меня, скорее всего, не пустят.
Я должен был убедиться, что смогу получить в Лондоне обратную визу, поскольку в Шанхае оставалась моя семья, и отправился в Нанкин, тогдашнюю столицу Китая, в министерство иностранных дел. В дороге я не спал всю ночь. Поезд часто останавливался, на неизвестных станциях около вагонов толпились продавцы. Громко крича, они предлагали купить жареных уток, с виду прекрасных – толстых и зарумяненных, блестевших, словно лакированные. Но на самом деле эти утки не так хороши: китайцы надувают их через соломинку воздухом, чтобы они выглядели жирными. Кроме того, продавали всякие сладости, кто-то слезал с поезда, кто-то садился: на каждой остановке – шум и суета.
Утром я прибыл в Нанкин. Этот город, больше похожий на огромную пыльную деревню, только начинал становиться столицей, хотя это уже было с ним много столетий назад, и не раз. На вокзале меня встретили моя двоюродная сестра Жека Фитингоф со своим мужем Данилой и на машине повезли к себе. Они жили в небольшом двухэтажном китайском домике, типичном для Нанкина, из окна которого открывался вид на небольшое озеро и горы вдали. Все это я запечатлел на рисунке и, глядя на него, еще раз убедился в том, что художника из меня не выйдет. За свою жизнь я нарисовал две картины – озерцо, которое виднелось из Жекиного окна, и замок мистера «Шампански» в Тяньцзине. На этом мои упражнения в живописи закончились.
Данила свозил меня в мавзолей Сунь Ятсена – красивый храм, построенный на склоне горы в сосновом лесу, а также к городским достопримечательностям. Мы проехали сначала вдоль старинной городской стены, высотой, наверное, в четыре этажа, которая когда-то опоясывала весь город, потом – по главной улице, широкой, длинной и пыльной, а в дождь, наверное, и трудно проходимой. Данила показал мне большое круглое здание, в котором размещались ЦК партии гоминьдана и некоторые министерства. По всему городу я видел дома в традиционном китайском стиле. И очень красивые горы вокруг.