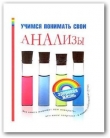Текст книги "Записки Шанхайского Врача"
Автор книги: Виктор Смольников
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 21 страниц)
ВИКТОР СМОЛЬНИКОВ И ЕГО КНИГА
Виктор Прокофьевич Смольников (1914 – 1994 гг.) родился и долгие годы жил в Китае. Он окончил в Шанхае французский университет «Аврора», а затем в течение четырнадцати лет работал врачом в английской фирме.
В 1946 году, после многочисленных отказов, Виктору Смольникову, к этому времени профессору медицины, наконец было предоставлено советское гражданство, а в 1954 году в числе тех, кто согласился ехать на освоение целины, ему разрешили въезд в СССР.
После полутора лет работы врачом в больнице села Убинское Новосибирской области В. Смольников как специалист в области анестезиологии и автор книги «Простой эфирный наркоз» получил приглашение в Москву в НИИ грудной хирургии АМН СССР, а с 1960 года начал работать в должности заведующего лабораторией анестизиологии НИИ экспериментальной и клинической онкологии АМН СССР (ныне РОНЦ им. Н.Н. Блохина). Здесь он продолжал свою профессиональную деятельность вплоть до 1971 года, когда вынужден был оставить работу по состоянию здоровья.
В 1976 году В. Смольников заканчивает книгу воспоминаний «Записки шанхайского врача», а затем пишет еще одну, совершенно самостоятельную по содержанию книгу – «The Diary of a Shanhai Physician», но уже на английском языке. В основу той и другой книги легли материалы дневника, который Виктор Прокофьевич постоянно вел на протяжении всего периода жизни в Китае.
Попытки автора издать книгу в СССР в семидесятые-восьмидесятые годы оказались бесплодными по причине ее «аполитичности» – так мотивировали свои отказы работники тех издательств, в которые обращался автор.
Вместе с тем книга содержит ряд малоизвестных исторических фактов и любопытные картины жизни и нравов Шанхая, этого «азиатского Вавилона», в период его расцвета, а затем смены четырех режимов. И в первую очередь, речь идет о жизни иностранного Шанхая, его международного сеттльмента.
Острая наблюдательность автора, его ироничный взгляд на события, происходившие с ним и вокруг него, веселый нрав и чувство юмора делают книгу интересной.
Наталья Смольникова

НАЧАЛО
Мой дед, Павел Александрович Фарафонтов, еще до 1895 года приехал с семьей в Манчжурию, в город Харбин. С тех пор четыре поколения нашей семьи прожили в Китае, вплоть до 1948 года. Я с женой и детьми покинул Китай последним в 1954 году.
Манчжурия – это три северо-восточных провинции Китая, граничащие с СССР. Царская Россия начала там строить железную дорогу, которая прошла от русской границы через всю Манчжурию до города Дальнего и Порт-Артура. Если американцы в свое время переселялись с восточного побережья Америки на Дикий Запад, то русские шли на восток, но не «Дикий», а Дальний.
Россия строила тогда Китайско-Восточную железную дорогу (КВЖД), главное управление строительства которой находилось в Санкт-Петербурге (несомненно, это очень оригинально управлять стройкой с расстояния в шесть тысяч километров). По обе стороны дороги на несколько верст по китайской территории простиралась «полоса отчуждения». Эта полоса считалась территорией Российской империи, и на ней действовали российские законы. Царская Россия попросту захватила чужую территорию, как это делали и другие страны. Я видел карты предполагаемого раздела Китая между Россией, Англией и Францией после Первой мировой войны. Манчжурия отходила к России, Англия забирала себе центральный Китай с главным портом Шанхаем, богатым хлопком и чаем, а Франция – Южный Китай, граничащий с Индокитаем, бывшим ее колонией.
Мой отец, Прокопий Нилович Смольников, родился в городе Троицкосавске, основанном миллионером Саввой Морозовым в день Святой Троицы и поэтому так названном. Сейчас это город Кяхта – в свое время важный пункт пограничной торговли России с Монголией и Китаем.
Когда отец окончил среднюю школу, мать подарила ему пятнадцать копеек. После окончания школы он поехал в Ургу, столицу Монголии (теперь Улан-Батор), и поступил в русскую школу драгоманов (переводчиков). В этой школе российское министерство иностранных дел готовило переводчиков для своих консульств и посольства в Китае. Будущих драгоманов, кроме китайского и монгольского языков, обучали еще и маньчжурскому, так как до падения маньчжурской династии в 1911 году Петербург получал корреспонденцию от пекинского императорского двора только на маньчжурском языке и поэтому его знание было необходимым. Китай был тогда страной, покоренной маньчжурами, и все китайцы, в знак этого, должны были носить косы. Я еще застал те времена и хорошо это помню. Я видел на станциях КВЖД женщин-маньчжурок в национальных костюмах. Головные уборы у них были совсем некитайские – что-то вроде сплющенного черного кокошника, расшитого бусами.
По окончании школы драгоманов отца откомандировали в Пекин, чтобы совершенствовать знание китайского языка, после чего назначили драгоманом при российском генеральном консульстве в Харбине. Там он женился на моей матери, там же в 1914 году родился и я.
Большую часть своей жизни в Харбине отец работал в коммерческой части КВЖД, и здесь был самый интересный период его деятельности. Вплоть до последнего обострения туберкулеза легких он путешествовал по Монголии и Манчжурии. Раз в году в Монголии в городе Ганьджур открывалась ярмарка. На нее съезжались русские, монгольские и китайские купцы. Отец должен был собирать экономические сведения для КВЖД об объеме торговли каждой из трех сторон. Монголы охотно брали русское военное сукно, шедшее на шинели для солдат, и шили себе из него дождевики. Русские покупали шерсть и баранов. Китайцы привозили кирпичный чай. Это подробно описано отцом в его книжке «Ганьджурская ярмарка» (кажется, 1912 года). Кроме того, он написал два больших тома о провинциях Манчжурии – Хайлунцзян и Гирин, а также собирал материалы о Мукденской провинции, но смерть помешала ему на основе этих материалов написать еще одну книгу. Умер он в 1919 году.
Книги моего отца – это, прежде всего, подробные экономические отчеты о торговле и движении грузов, однако встречаются в них и любопытные описания жизни местного населения, например, очерк о Желтугинской республике. Это история о том, как русские старатели и беглые каторжники основали что-то вроде республики на китайской территории. Река Желтуга – приток Амура. Золото в ней нашли орочены (эвены), а русские пришли туда в 1860 году. Прииски просуществовали до 1886 года. В последний год их существования численность населения там составляла уже более десяти тысяч человек, а золота было намыто более четырехсот пудов, то есть около семи тонн. Вначале на приисках никакого правления не существовало, но после убийства человека молотком среди бела дня решили навести порядок. Поселением управлял старшина, руководствуясь евангельским законом Моисея: «Око за око, зуб за зуб». За воровство полагалось пятьсот ударов «терновником» (ремень с гвоздями), что фактически означало смертную казнь. За привод в поселение женщин – сто ударов. За любые провинности преступника изгоняли из поселения, и на границе ему давали еще сто ударов. Очевидно, на память. Серьезные дела решались общественным сходом. Для его созыва стреляли из двух пушек: их в поселении всего две и было.
Русские по-разному попадали в Китай. Мне рассказывала одна старушка, как она с мужем ехала из Сибири на станцию Бухэду. Они везли с собой на телегах сруб русской избы. Я тогда не спросил ее, каким путем они добирались, но, скорее всего, через пограничную станцию Манчжурия на Майлар. От Майлара до Бухэду – две станции. Дорога в то время еще не действовала, и ехали они, наверное, около тысячи километров по полупустыне и степи.
Здесь будет уместно вспомнить историю одного русского миллионера, назовем его Иваном Зарубиным. Он мальчишкой поступил работать к русскому купцу, жившему в Монголии и скупавшему у монголов шерсть. Купец быстро оценил природную смекалку Вани, сделал его своим доверенным лицом и посылал на лошадях отвозить деньги в русский банк в Троицкосавск. А Ваня учился у купца, как нужно делать деньги. Однажды, уже, очевидно, выучившись этому искусству, он, вместо того чтобы везти большую сумму денег в Троицкосавск, повернул свой караван на юг, прибыл в Китай и осел в Тяньцзине. Там Иван построил большую шерстомойку (Тяньцзинь был центром торговли с заграницей шерстью, пушниной и кишками для колбас) и начал богатеть. Вскоре он выстроил себе замок – иначе этот дом и не назовешь – единственный в Тяньцзине. Автором проекта был, наверное, какой-то немецкий архитектор, потому что оно напоминало небольшой замок немецкого барона. Зарубин начал устраивать приемы и приглашать к себе иностранцев, проживавших в Тяньцзине. В те годы их было не так уж много – порядка нескольких сотен, а русских – и вообще почти не было. На приемах у Зарубина поили шампанским, поэтому в иностранных кругах его так и прозвали – «мистер Шампански». Он был женат. Детей у него не было, и он взял на воспитание мальчика и девочку. Его приемный сын был моим другом детства.
С началом первой репатриации советских граждан в СССР (в 1947 году) «мистера Шампански» обуяла тоска по Родине, и он поехал. Когда-то в разных городах царской России у него были собственные дома, и вот в одном из них ему дали комнату и назначили сторожем здания. Его сын не хотел мириться с таким положением и уехал за границу. Мы как-то случайно встретились с ним в Шанхае. Он холодно посмотрел на меня и сказал: «Руки я тебе не подам, я слышал, что у тебя советский паспорт».
Все эти истории я рассказал для того, чтобы читатель понял, как русские оказались в Китае и, главным образом, в Манчжурии. Общее число русских в Манчжурии, по данным моего отца, превышало триста тысяч. Большинство проживало в Харбине и на станциях КВЖД. В Шанхае, в русской колонии, насчитывалось до тридцати тысяч человек, в Тяньцзине, кажется, около трех, в Ханькоу1 1
Современное название: Ухань. – Прим. ред.
[Закрыть] жили единицы богатых русских чаеторговцев, а в Циндао – несколько сот человек.
Все старые служащие КВЖД, приехавшие до 1917 года, конечно, эмигрантами не были. Они приехали служить на КВЖД и жили в полосе отчуждения, то есть фактически на территории Российской империи.
Уже в Москве мне часто задавали один и тот же вопрос: вы были эмигрантом или вас командировало в Китай советское правительство? На самом деле, командированных советским правительством в Китае было совсем немного. Эмигрантов было несколько десятков тысяч, а мы представляли собой третью группу русских, самую большую, и не были ни эмигрантами, ни командированными.
Русская эмиграция появилась в Китае после Великой Октябрьской революции. Что это были за люди? В основном остатки разгромленных белых армий, вернее, остатки их офицерского состава (солдатам, собственно говоря, бежать было незачем), а также представители буржуазии из Сибири. Такое переселение породило оригинальное социологическое явление: подавляющее число бывших подданных Российской империи были представителями интеллигенции. Рабочий класс составляли, в основном, люди, приехавшие до революции, то есть не эмигранты. На КВЖД это были машинисты, водившие паровозы, кочегары, рабочие различных ремонтных мастерских, стрелочники. Интеллигенция же была представлена административным аппаратом железной дороги, оставшимся в Китае.
После революции почти все рабочие подали прошение о советском гражданстве, получили советские паспорта и вскоре уехали в СССР. Интеллигенция колебалась. Уже начали появляться белоэмигранты, рассказывавхпие о «зверствах большевиков», сибирские буржуа описывали, как потеряли свои фабрики, заводы, дома и имения. Стали выходить белоэмигрантские газеты. А Харбин богател. Генерал-лейтенант Хорват, управляющий дорогой, никаких денег в Санкт-Петербург больше не переводил, так как вместо Санкт-Петербурга был уже Ленинград, с которым Хорват никаких отношений не имел, поэтому очень большие деньги, которые получала КВЖД, оседали в самом Харбине, что позволило Хорвату создать чрезвычайно хорошие жизненные условия для русских служащих дороги. Харбин называли «счастливой Хорватией». Это стало одной из важнейших причин, объясняющих, почему никто из Харбина не стремился уехать, и это же определяло политические взгляды русской интеллигенции. Большое влияние на мнение и поведение русских людей в Харбине оказывала также белоэмигрантская пресса – других газет не было.
Что стало с Харбином в дальнейшем хорошо описано в книге «Возвращение» Натальи Ильиной, свидетельницы всех перемен в этом городе. Меня там уже не было, так как мать после смерти отца переехала к своей сестре в Тяньцзинь, а я был еще чересчур мал, чтобы интересоваться политической обстановкой в Манчжурии.
С отъездом рабочих в СССР и приездом белоэмигрантских офицеров удельный вес русской интеллигенции в Китае увеличился. Хотя у меня нет никаких статистических данных, я не сильно ошибусь, если выскажу предположение, что девяносто процентов русских принадлежало к интеллигенции.
Что умели делать все эти бежавшие офицеры? Да ничего. Им пришлось работать сторожами, телохранителями у богатых китайских коммерсантов, швейцарами в отелях. Абсолютно не удивляло, если сторожем какой-нибудь английской табачной фабрики, оказывался полковник гвардейского полка или судья. Князь Ухтомский, например, благодаря прекрасному знанию французского языка, устроился швейцаром в шанхайское отделение крупного французского банка Индокитая.
Военные инженеры выполняли работу чертежников. Из инженеров только единицы устраивались более или менее прилично. Врачи занимались частной практикой – некоторые из них стали обеспеченными людьми, а другие бедствовали. Создавались русские эмигрантские комитеты, которые никто не признавал. У меня имеется удостоверение личности, выданное полицией французской концессии Шанхая. В строке «национальность» напечатано: русского происхождения, не взявший никакого другого подданства. Французы понимали, что среди русских есть эмигранты, а есть неэмигранты, поэтому и придумали такую хитрую формулировку. А в английской половине Шанхая вообще не существовало документов. Отцы города, богатые бизнесмены, были так заняты торговлей и обогащением, что у них просто не было времени заниматься такой ерундой, как выяснение, к какой группе принадлежал тот или иной русский или иностранец. Англичане разрешили эту проблему гениально просто: никаких паспортов, никаких удостоверений личности.
Последние двадцать лет своей жизни в Китае я прожил в Шанхае. Об этом и пойдет дальше рассказ.
Я женился в мае 1940 года, за месяц до окончания медицинского факультета французского университета «Аврора» в Шанхае. Обвенчавшись, мы с женой переехали к теще на Тоншан роуд в район Хонкью, самый бедный район Шанхая. Он весь был построен из серого кирпича, и в 1940 году там были только улицы без домов или островки домов: японская артиллерия почти полностью разрушила его во время японо-китайской войны 1937 года. Улицы соединяли пассажи (переулки), достаточно широкие для проезда одного грузовика. В районе иногда попадались целые нетронутые бомбардировкой кварталы, серые и мрачные. А между ними лежали груды кирпича, кое-где собранные в кучу. Все они заросли сорняком и полевыми цветами и, в общем, выглядели довольно живописно.
Наш квартал принадлежал к числу нетронутых. На улицу выходили китайские лавчонки. На углу были ворота, ведущие в пассаж. Весь квартал состоял из четырех рядов домов. От ворот до последнего ряда шла главная улочка, от которой перпендикулярно отходили еще три. Каждый ряд представлял собой одно длинное строение, разделенное на десять-двенадцать домов стенами. К каждому такому дому примыкал садик, отгороженный от переулка стеной высотой в два этажа с деревянными двухстворчатыми воротами. Наш садик был вымощен кирпичом, покрытым зеленой плесенью от вечной сырости. Там ничего не росло.
Дом состоял из двух частей. Передняя его часть – это три комнаты, одна над другой, причем верхняя представляла собой чердак со скошенным потолком. Задняя часть – тоже три комнаты, с плоской крышей, окруженной кирпичным парапетом в половину человеческого роста. На крыше можно было отдыхать после захода солнца, покрываясь слоем сажи из соседних труб.
Между этими двумя частями дома вилась деревянная лестница, связывающая все комнаты вместе. Нижняя комната сзади служила кухней. Пол в ней был цементный, в углу располагался душ, прикрытый занавеской. Одна газовая горелка вместо плиты. В качестве туалета – выносная параша, которая размещалась за картонной перегородкой внизу под лестницей. Каждое утро приезжала металлическая бочка, китайцы опрастывали содержимое параш из всех домов и отвозили за город для удобрения полей. Зловоние в этот момент по всему пассажу было запредельным.
Теща моя поступила очень щедро. Она отдала нам чердак под спальню и комнату на втором этаже. Эту комнату разделяла на две части тоненькая фанерная перегородка, и у нас получилась гостиная и столовая. С мебелью тоже очень повезло. Моя двоюродная сестра, уезжая из Шанхая, подарила нам на свадьбу роскошный дубовый столовый гарнитур, который специально для себя заказывала. Стол и две тяжелые скамьи в испанском стиле XIX века, двуспальная кровать, столик и роскошное кресло, на котором невозможно было сидеть – только лежать. Скамьи были также неудобны: без спинок. Надо было выполнить акробатический номер, чтобы залезть на них. К счастью, нам мало пришлось ими пользоваться, так как есть все равно было нечего, а то, чем мы питались, можно было есть, стоя в спальной. В середине войны (речь идет о Тихоокеанской войне между США и Японией, начавшейся 7.12.1941 г.) мне удалось выменять весь испанский гарнитур на килограмм сала.
Я удачно окончил медицинский факультет и по отметкам имел право остаться интерном при университетской клинике. Однако интернам платили так мало, что этим правом могли воспользоваться только врачи из богатых семей, которых не трогала финансовая сторона вопроса: они могли без особого ущерба для себя за один вечер оставить в ресторане свою месячную зарплату.
Я попробовал найти себе место в Циндао. Это очень красивый порт на севере Китая, но там ничего не было. Без знания китайского языка ехать в чисто китайский город было бессмысленно. Да и культуры чересчур разные, что иногда оказывалось не просто препятствием при общении, а было сопряжено с опасностью для жизни. Рассказывали, например, такой случай. Доктора Гурченко из старшего выпуска случайно пригласили куда-то в провинцию принимать роды у любимой, пятой или шестой, жены китайского генерала. Генерал сидел тут же с револьвером в руке, предупредив Гурченко, что если ребенок или жена умрет, то он его застрелит на месте.
В итоге, не найдя ничего, я принял приглашение доктора Андерсона, с которым был знаком, помогать ему бесплатно в английской муниципальной больнице «Дже-нерал Госпитал». Это была большая многопрофильная больница, в которой Андерсон лечил своих платных пациентов, а также больных бесплатных отделений. Андерсон служил в английском объединении врачей «Доктор Маршалл и партнеры». Для меня эта работа была очень интересной, потому что я впервые встретился с больными, с которыми мог объясняться на общем языке: русском, английском или французском. В университетской клинике, где лежали одни китайцы, мы, русские студенты, находились в очень тяжелом положении, так как для заполнения истории болезни каждый раз приходилось прибегать к услугам китайских студентов, а не все они хорошо к нам относились.
С Андерсоном я проработал бесплатно девять месяцев, с июля 1940-го по март 1941 года, фактически до его отъезда из Шанхая. Андерсон был очаровательным человеком, с хорошим образованием, и практика в Шанхае, конечно, много дала ему как врачу. Ему не нравился Шанхай, и он уехал сначала в Англию, потом я видел его в Сингапуре. Тихоокеанскую войну он провел где-то в Бирме, и говорил о ней мало. Самым дорогим для него было воспоминание о том, как он стрелял из пушки. Андерсону надоела военная жизнь врача, и он уговорил знакомого артиллериста дать ему возможность пострелять из пушки. Тот согласился. Андерсон сделал несколько выстрелов и получил строгий выговор от генерала.
В период своей бесплатной работы с Андерсоном я пытался заняться и частной практикой, но прогорел буквально за три месяца. Частный кабинет пришлось закрыть, как только был израсходован последний уголь, которым я отапливал комнату в ожидании пациентов.
К частной практике я готовился несколько лет. Когда у меня бывали деньги от переводов на английский язык с немецкого, я ездил в Хонкью, не в тот район, где мне пришлось впоследствии жить, а в его богатую часть, которая была центром японской колонии в Шанхае. Там в магазинах, торгующих медицинским оборудованием, буквально за копейки можно было купить шприцы, иглы, тонометр для измерения давления, фонендоскоп для прослушивания грудной клетки, скальпели, ножницы и много других полезных вещей. Все это я копил для своей будущей частной практики, потому что других вариантов работы для русского врача в Шанхае совершенно не предвиделось. Все мы были свидетелями опыта бедного доктора Потапова, пожилого врача, который не сумел создать себе практику среди русской колонии (самой бедной из всех иностранных колоний) Шанхая и решил заняться иридодиагнозом. Ири-додиагноз – чистое шарлатанство, на которое мог решиться только голодный, доведенный до отчаяния человек. Суть иридодиагноза заключается в том, что, изучая через лупу радужную оболочку глаза, диагност по различным пятнышкам на ней устанавливает, чем человек болен.
Мне пришлось один раз лично столкнуться с этим методом. Я только что приехал в Шанхай для поступления в университет и заболел. Моя мать, по совету соседей, пригласила иридодиагноста. Тот пришел, достал лупу и стал изучать мою радужную оболочку, затем хмыкнул и сказал: «У вашего сына язва двенадцатиперстной кишки, и ему необходима диета из вареной картошки». Температура между тем ползла вверх. Тогда пригласили доктора Молчанова. Он осмотрел горло, нашел ангину и влил мне внутривенно акрифлавин, которым в то время лечили все инфекции (включая гонорею). Мне стало лучше.
Потапов был членом Общества русских врачей города Шанхая, и ему предложили на одном из заседаний выступить с докладом об иридодиагнозе, чтобы затем обсудить этот метод. Мы, студенты, присутствовали на этом заседании. На Потапова было жалко смотреть. После его доклада выступал доктор Бергер, окулист, который имел хорошую практику и Потапову, видимо, не сочувствовал, а поэтому говорил академично, зло и буквально уничтожил его. Большинство присутствующих поддержали Бергера. Сытые топили голодного. Формально Бергер, конечно, был прав, но можно было бы выбрать и другой тон для критики. Позже Потапов зарабатывал себе на жизнь тем, что ходил по домам и ставил клизмы по пятьдесят центов за сеанс. Не знаю, что с ним стало в конце концов, потому что после подачи прошения о получении советского гражданства в декабре 1942 года я ушел из Общества русских врачей, которое по своей политической направленности было антисоветским.
Что касается моей частной практики, то я смог ею заняться благодаря моему университетскому товарищу М.А. Вальтеру, который одолжил мне триста китайских долларов. На эти деньги я снял через две улицы от своего дома комнату с верандой у русской хозяйки, очень неприветливой и неприятной женщины. Веранду я превратил в приемную, в комнате был мой кабинет, и там стояла небольшая печка, которую я топил от трех до шести часов. В этот кабинет каждый день ко мне приходила жена, чтобы погреться у печки, так как на чердаке у нас отопления не было. Когда на улице было плюс четыре, на чердаке температура поднималась не выше плюс пяти градусов.
Из своих пациентов я хорошо помню только двух -царского генерала Цюманенко и молодого полицейского англичанина. Как-то я спросил жену, почему у меня остались в памяти только два пациента, и она ответила: «По-моему, у тебя только они и были». Это, конечно, преувеличение. Смутно помню какую-то женщину, которой делал внутривенные вливания бромистого натрия. Кто-то был еще... За три месяца пришли, наверное, человек шесть.
Цюманенко страдал от варикозного расширения вен на ногах (он был пехотным генералом, между прочим – из солдат, что раньше было событием почти невероятным), и я с ним возился несколько месяцев. Старик он был умный, много повидавший на своем веку, и мы с ним болтали часами, тем более что ни ему, ни мне делать все равно было нечего. У него не было солдат, а у меня пациентов.
Молодой полицейский англичанин, родом из Лондона, рыжий и рослый, пришел ко мне с острой гонореей. Он уплатил по счету, и это был первый гонорар, полученный мной полностью (у генерала денег не было, и он платил мне время от времени). Будучи уже здоровым, полицейский пришел ко мне еще раз и подарил серебряные запонки с гербом шанхайского муниципалитета, которые хранятся у меня до сих пор. Судьба этого человека трагична. Вторую мировую войну он отсидел в каком-то шанхайском концлагере, а после войны поступил на службу в полицию британской зоны в Берлине, куда поехали многие англичане-полицейские, для которых работы в Шанхае после войны не нашлось. Там он через некоторое время, как мне рассказывали английские полицейские, подарил все свое имущество какому-то немецкому ребенку и застрелился.
Девять месяцев, которые я проработал с Андерсоном, были для меня очень полезными. Бесплатное отделение давало возможность Андерсону много оперировать, а я во время этих операций должен был давать больным наркоз.
У Андерсона об анестезиологии были довольно поверхностные понятия, но именно это вселяло в него и в меня большую уверенность и обеспечивало наше спокойствие. «Если вы даете достаточно кислорода из баллона под маску, – любил говорить он, – то совершенно неважно, сколько эфира вы даете. Не обращайте на это внимания». Для сведения читателя сообщаю, что это мнение Андерсона не только неверно, но просто криминально. Однако в те «счастливые» годы нашего невежества в анестезиологии мы оба этого не знали. Он оперировал грыжи, удалял воспаленные аппендиксы, делал радикальные операции по поводу водянки яичка, вскрывал амебные абсцессы печени (в Шанхае это осложнение после амебной дизентерии встречалось часто), ампутировал конечности.
Жизнь операционной была наполнена событиями – как трагическими, так и комическими. Однажды я поставил пациенту диагноз: абсцесс печени. Печень у него была опущена на четыре пальца ниже ребер (в норме она не выходит за ребра), ее верхняя граница плохо различалась на рентгене из-за спаек. Андерсон вскрыл живот и буквально зарычал: «Будьте вы прокляты, Смольников! Печень совершенно нормальна!» Началось внимательное исследование больного. Больной, русский, получил штыковое ранение в область печени в Первую мировую войну. У него была парализована правая часть диафрагмы, из-за чего печень и опустилась. Никакого абсцесса там не было.
Помимо прочего, Андерсон учил меня бужировать мочеиспускательные каналы у стариков, страдавших сужением уретры (последствие недолеченной гонореи). Сам он очень любил цистоскопировать больных, то есть вводить цистоскоп в мочевой пузырь и через систему линз изучать его. У цистоскопа с двух сторон от оптической системы имеются две трубочки, заткнутые резиновой пробкой. Через них вводятся тонкие катетеры, которые можно провести до самых почек. Как-то раз Андерсон ввел цистоскоп одной больной и прильнул правым глазом к увеличительной системе. В этот момент женщина закашлялась, натужилась, резиновая пробка выскочила, и больная помочилась Андерсону в правый глаз. То, что он сказал по этому поводу, в печати привести невозможно.
Терапевтических больных Андерсон просто передал мне, и я был окружен тифом, паратифом и сыпняком, лихорадкой денге, возвратной лихорадкой, амебной и бациллярной дизентерией, пернициозной анемией, которую в то время не умели лечить, и прочими прелестями. Инфекционные больницы принимали только дифтерию, оспу, холеру и, кажется, скарлатину, поэтому дифтерии, например, я ни разу толком не видел и как-то раз послал одного ребенка в инфекционную больницу, потому что у него была температура и белая пленка в горле. На другой день звоню дежурной сестре и слышу в ответ, что ребенок здоров. «А белая пленка?» – спрашиваю я упавшим голосом. «Это не белая пленка, доктор, – отвечает сестра, вкладывая как можно больше яда в слово «доктор», – это овсяная каша».
Еще я хорошо помню случай с португальцем Эстрада. У него был рак легкого. Андерсон сказал мне: «Я считаю, что больным надо в этих случаях сразу же говорить правду. Они перестают бороться за свою жизнь и умирают скорее, что лучше и для них, и для их близких». Мы пошли вместе в палату, где лежал Эстрада. Андерсон подошел к нему и сказал «Послушайте, Эстрада. У вас рак легкого. Сделать мы для вас ничего не можем. Но я вам дам столько морфия, сколько вы захотите, чтобы чувствовать себя хорошо». Мы вышли и пошли в следующую палату. Через пять минут вбежала сестра: «Доктора, скорее к Эстрада». Мы вернулись. Оказалось, что Эстрада, как только мы вышли из палаты, схватил ножницы и всадил их себе в область сердца. В сердце он не попал, но пропорол плевру, и ему пришлось накладывать швы. Не всем, видимо, можно говорить правду.
С отъездом Андерсона и закрытием моего кабинета наступила вторая стадия моей врачебной деятельности – в Лаборатории медицинских анализов у доктора Лемперта, а еще через полгода мне предложили место в английской врачебной фирме «М» – «Доктор Маршалл и партнеры», о которой я уже упоминал. Эта фирма обслуживала муниципалитет международного сеттльмента, полицию, пожарные команды, все английские фирмы, а также все английские и скандинавские суда.
Моя профессиональная деятельность в Шанхае проходила на фоне бурных политических событий, начало которым положила Вторая мировая война. Первое сильное впечатление от них я получил, пожалуй, 22 июня 1941 года. День выдался очень жарким, и, когда мы с женой вышли после обеда прогуляться, я был поражен необычным скоплением народа на улицах. Все были возбуждены, разговаривали, жестикулировали, некоторые кричали, похоже было, что ссорились. Встретив знакомого, я спросил, что случилось (радио у нас дома не было, а газет я не выписывал – не было денег). «Как, вы не знаете?! – вскричал он. – Германия напала на Россию, и ее победоносные войска успешно продвигаются вперед к ма-тушке-Москве. Красная армия бежит!» Меня это ошеломило: на Россию напали немцы!