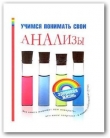Текст книги "Записки Шанхайского Врача"
Автор книги: Виктор Смольников
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 21 страниц)
Читатель, конечно, прекрасно понимает, что о вкусах не спорят. Мои дед и бабушка, например, говорили, что китайские овощи никуда не годятся по сравнению с русскими: «Русский огурец! Только в комнату войдешь, уже чувствуешь». Возвращаясь из Англии в Китай в 1948 году, я беседовал в Пенанге (Малайзия, ныне Кенанг) с молодым китайцем, который спросил меня: «Скажите, правда, что будто бы в Китае, мне это говорил мой дед, все фрукты и овощи пахнут лучше, чем здесь?». У меня тогда возникла мысль: может быть, с годами чувство обоняния стирается и старый человек не так остро чувствует запахи. А может, это лирика прошлого? Или гастрономический шовинизм? – русский огурец все-таки лучше.
Я уже упоминал о том, что китайское эстетическое чутье отражается на приготовлении пищи. Например, летом китаянки из самых бедных семей готовят обед или прямо на тротуаре, или у открытых дверей (не так жарко), и можно видеть, что и в самой бедной семье пищу готовят так же, как в дорогих ресторанах, только меню во много раз беднее. Пучок лука китаянка обязательно продольно нашинкует и аккуратно разложит на одной тарелочке, на другой у нее будет соленая капуста, в чашечке – соя, которая служит и приправой, и солью. Рис варят так, что отдельные зерна не слипаются. Креветки, внешне некрасивые, готовят в виде нежно-розовых колобков и подают с зеленым горошком.
В состоятельных семьях был, конечно, повар, и не один. Повар в китайской семье – persona grata, и его называют почтительно: «да-ши-фу» – великих дел мастер. Но эти «великих дел мастера» полностью хозяйку не заменяли. Кулинария – слишком важное искусство, чтобы женщины могли уступить его мужчине (хотя все известные в истории повара – мужчины, заметьте, – ни одной женщины). Китайская хозяйка должна была блеснуть перед гостями своим искусством, часто отсутствующим. Она шла на кухню, чтобы приготовить какое-то особенное блюдо. Гости обязаны были ее за это хвалить. А повар, если он и готовил это блюдо за нее, молчал.
Каждое утро повар ходил на базар. Это целый ритуал. Знакомые лавочники просто стелились перед ним, желая угодить: нельзя же потерять выгодного покупателя. В иностранных семьях – так было принято – повар-китаец, отчитываясь перед хозяевами о расходах, мог в свою пользу набавлять на стоимость купленных продуктов до десяти процентов. Если он набавлял больше, то это считалось почти воровством. Вообще в этом была какая-то справедливость: если хозяева приезжали в Китай грабить местное население, то почему повара не могли грабить своих приезжих хозяев? А потом, что значили для иностранца эти десять процентов? Если фунт яблок стоил десять центов, а повар в отчете ставил одиннадцать, что от этого менялось? Если хозяин получал в своей иностранной фирме восемьсот китайских долларов в месяц, а повару платил только десять, то, думаю, можно понять повара, который выгадывал себе лишних десять долларов в месяц.
Нужно заметить, что до войны продукты в Китае были очень дешевыми, а фрукты вообще ничего не стоили. Помню в 1923-ем или 1925 году в Тяньцзине мы жили в одном доме с родственниками. Нас было десять человек: моя тетка с двумя детьми, дядя с женой, тещей и ребенком, моя мать, отчим и я. Повару каждое утро давали один серебряный доллар, и на эти деньги он кормил нас всех. Правда, это было более пятидесяти лет назад.
Любопытную историю о поварах, этих «великих дел мастерах», описывает в одной из своих книг Даниэле Ва-рэ, итальянский посол в Китае в 1911 году.
В Пекине проживала молодая английская чета. У них было два повара – родные братья. Как-то супруги разругались и целый месяц друг с другом совсем не разговаривали, даже ели в столовой в разные часы, чтобы не видеться. К хозяину дома каждый вечер приходил повар «номер один» и подавал счет за сделанные за день покупки. Хозяин с ним рассчитывался. Через месяц супруги помирились, и англичанин с удивлением узнал от жены, что к ней каждый вечер приходил повар «номер два» и подавал точно такой же счет, который она ему оплачивала. Англичанин страшно взбесился, вызвал повара «номер один» и потребовал объяснений. Повар «номер один» ответил ему с невозмутимым видом: «Хозяин, уже более месяца, как я поссорился с моим братом, мы с ним не разговариваем, и я не знаю, что он делает». Англичанин, пребывавший в течение месяца точно в такой же ситуации, не знал, что ответить, и инцидент был исчерпан.
Всякий китайский обед начинается с зеленого чая с тыквенными, арбузными и подсолнечными семечками. Чай этот длится час, два, три, пока не соберутся все гости. Хозяин ждет, потому что не знает, сколько придет гостей. Если европейский хозяин обычно боится, что гостей придет меньше, чем он пригласил, то китайский хозяин находится в более трудном положении: гостей может быть больше, чем он рассчитывал. Для выхода из этого положения в Китае придуманы круглые столы. Они складываются пополам и стоят вдоль стен. За круглый стол можно посадить любое количество людей. А пищи готовится столько, что уходящим гостям остатки заворачивают в бумагу, чтобы они и дома могли поесть и вспомнить гостеприимного хозяина.
С едой связаны некоторые правила этикета, которые характерны только для Китая. Например, после угощения фруктами китайцы подают полотенца, смоченные в ароматизированном кипятке. Таким полотенцем вытирают сперва лицо, а затем руки. Впрочем, в китайском этикете есть и некоторые погрешности, для европейцев совершенно недопустимые. Китайцы спокойно сплевывают кости на скатерть, и скатерть после ужина выглядит ужасно. С такими манерами, по-моему, было бы проще не накрывать стол скатертью вообще. Если, с нашей точки зрения, рыгать за столом неприлично, то во многих восточных странах, в том числе в Китае, если вы не рыгнули за столом – значит, плохо поели, а это упрек хозяину.
Я мало интересовался китайскими религиями, как, по-моему, и сами китайцы, но их храмы великолепны. Хотя красота храма, мне думается, вопрос архитектуры, специфичной для каждого народа, а не вопрос религии. Я знал, что конфуцианство не религия, а свод этических правил. Таоизм – это путь к чему-то. Скептики говорят, что это путь, который никуда не ведет, он оброс суевериями, всякими чертями и богами. Буддизм был довольно распространен, но он не типичен для Китая. Китайские студенты, с которыми я учился, о религии никогда не говорили, но они были суеверны и особенно верили в каких-то потусторонних лисиц. У японцев эти лисицы тоже есть в фольклоре.
Безразличие китайцев к религии делало их очень терпимыми по отношению ко всякого рода религиозным учениям и течениям. Вообще интересно: безразличие считается отрицательным качеством, а терпимость, наоборот -добродетелью, но очень часто это просто одно и то же. Человек проявляет к чему-то терпимость потому, что ему все равно. Наверное, поэтому в Китае можно было столкнуться с таким изобилием религий. Магометанство, правда, было распространено в большей мере среди дунган на западе Китая, но зато многие китайцы становились католиками и протестантами разного толка (методистами, баптистами). Иностранные католики называли их «рисовыми»: какая церковь давала больше риса, в ту религию они и переходили. Иными словами, серьезно христианством они не интересовались, хотя были среди них и искренне верующие, как и во всяких религиях. В Пекине была колония православных китайцев, потомков ал-базинских казаков, приехавших с нашим посольством в прошлом веке. Казаки остались в Пекине, женились на китаянках. Я встречал их потомков в православной церкви в Тяньцзине. Внешне это были настоящие китайцы, а говорили чисто по-русски. Вообще, в отличие от католической и протестантских церквей, православная духовная миссия в Пекине к прозелитизму особенного энтузиазма никогда не выказывала, а глава миссии архиепископ Иннокентий в основном занимался составлением большого китайско-русского словаря. А потом были и политические причины, почему китайцы не спешили переходить в православие: оно воспринималось как религия проигравшей войну партии, религия белой эмиграции, поэтому ничего хорошего или выгодного быть в ней не могло. Зато популярностью пользовались американские секты баптистов и методистов. Вот это было выгодно. Китайцы, работавшие с французами, легче переходили в католицизм. Тоже было политически выгодно. В общем, к искренности китайских христиан сами иностранцы в Китае относились скептически. Но, повторяю, это суждение не может быть огульно отнесено ко всем верующим китайцам.
Когда китаец заболевал, то родственники обращались по очереди к представителям всех религий в надежде, что какая-нибудь поможет. Это тоже подтверждает отсутствие веры в какую-нибудь одну религию. Делались жертвоприношения, сжигались сделанные из серебряной бумаги «слитки» серебра (не жертвовать же настоящими), в курильницах жгли ароматичные желтые палочки из верблюжьего кала. Действительно, весьма ароматные.
Китайцы очень серьезно относятся к смерти, и китайские похороны удивительны. Сыновья в доказательство своей сыновней преданности умершему отцу буквально разорялись на устройстве похорон. Все это в конце концов было запрещено гоминьдановским правительством, но я еще застал торжественные похороны. Считалось хорошим тоном подарить заблаговременно гроб своей бабушке. (Интересно, дарили ли они гробы своим тещам?). Хорошие китайские гробы стоили дорого, и бабушка хранила такой гроб в отдельной комнате и хвасталась им перед своими приятельницами. Доски для гробов были толщиной сантиметров пятнадцать-двадцать. Хорошие гробы покрывались черным лаком и расписывались золотой краской, на них изображались драконы и разные цветы. У богатых людей похоронная процессия растягивалась на несколько кварталов. Будучи еще мальчишкой, я видел в Тяньцзине похороны какого-то родственника императорской фамилии. Похоронная процессия шла через весь город (а Тяньцзинь был тогда городом с тремя миллионами жителей) в течение всей первой половины дня. Участники процессии несли его доспехи, бумажные куклы, изображавшие его солдат, бумажных лошадей. Все это потом сожгли на его могиле (в старину сжигали настоящих людей, как и у древних славян, и обязательно – жен умершего). Гроб, покрытый шелковым балдахином, расшитым рисунками, несли более двадцати человек. Китайцы ставят свои гробы на огромные палки, это скорее стволы деревьев, и чтобы поднять такой катафалк, надо действительно много людей. Играли оркестры. Шли плакальщицы во всем белом (у китайцев белый цвет – цвет траура), потом в определенном порядке шли монахи – буддисты, таоисты, конфуцианцы. Около дворца, принадлежавшего покойному, слуги приглашали всех прохожих заходить внутрь. Я был с моей двоюродной сестрой, и мы вошли. В колоссальном по размерам и роскошном по убранству зале были выставлены богатства умершего: зеркала в оправе, украшенной жемчугом, старинное оружие и еще много всего, чего я не запомнил. Но что нам понравилось, так это то, что каждому вошедшему гостю сразу давали пол-арбуза. Для посетителей семья закупила несколько тысяч арбузов.
В Шанхае я видел похороны меньшего масштаба, но с несколькими оркестрами. Одни похороны мне особенно врезались в память. Перед гробом шел оркестр – все музыканты были одеты в форму каких-то южноамериканских адмиралов, они играли вальс из «Веселой вдовы».
До прихода Мао Цзэдуна в Китае практиковалось многоженство. Мао его запретил – не из-за моральных соображений, которых у него вообще не было, а просто так, за компанию, потому что в социалистических странах многоженство не приветствовалось. Были учреждены курсы для подготовки судей по бракоразводным делам. Один мой знакомый китаец, только что вернувшийся из Лондона и женившийся, пошел на эти курсы и, окончив их, применил свои знания на практике – развелся со своей молодой женой, с которой не прожил и года. Я тогда не интересовался, что стало с женами из других китайских семей.‘До прихода Мао число жен не регламентировалось. Богатые китайские купцы, которым часто приходилось ездить по делам в несколько городов Китая, имели по жене в каждом городе. Просто и удобно. Жениться в Китае было очень легко. Пока я учился в университете (1934-1940 гг.), два моих однокурсника-китайца заключили брак. Чтобы сделать его законным, требовалось дать в газету объявление: я, такой-то, женился на такой-то. Этого было достаточно с юридической точки зрения.
Отношение в Китае к институту брака любопытным образом иллюстрирует один эпизод, связанный с именем китайского философа Ку Хунг Минга, жившего в начале нашего века. К нему как-то приехала делегация американских преподавательниц из женских колледжей США. Ку принял их в своем саду в Пекине. Был накрыт чайный стол, и гостьи расположились в плетеных креслах. Заговорили о методах преподавания, но спустя полчаса переключились на вопрос о многоженстве в Китае. Американки возмущались: «Это противоестественно!» – «Почему противоестественно? – спросил Ку. – Вот на столе стоит чайник и восемь чашек. Это естественно или нет?» Американки опешили: «Естественно». – «Вот это и есть многоженство. А у вас в Америке, где существует проституция, на одну чашку приходится восемь чайников». Блестящий ответ, хотя философ покривил душой, потому что в Китае, кроме многоженства, процветала и проституция, причем в самых широких масштабах. Об этом можно прочесть в классическом эротическом романе Чин Пин Мой и в поэме «Торговец маслом и проститутка». Но американки, наверное, после такого ответа отказались от второй чашки чая.
Китайцы, как и все древние нации, отличаются простотой. Обыкновенные вещи они называют точными словами. Русскому мальчику мать говорит, что, например, за физзарядкой должен следовать туалет, и слово «туалет» имеет неопределенный смысл. Что оно значит? Мытье рук и лица или надо вымыть еще и шею? А может быть, кроме того, почистить зубы? А китайскому ребенку говорят про «очищение девяти отверстий», и тут никаких сомнений быть не может, если ребенок умеет считать до девяти.
Китайские понятия о красоте человека иные, чем европейские. Как-то мой китайский приятель и я сидели на трибуне футбольного поля, и он предложил мне оценить красоту проходивших женщин. Большие глаза, с китайской точки зрения, некрасивы, красивы – совсем узкие. Крупные носы безобразны, хороши – едва выделяющиеся. Вообще, с китайской точки зрения, европейцы просто уродливы. Потом он спросил меня, как отличить проститутку от порядочной женщины, и я ему ответил, что это невозможно сделать наверняка. Он расхохотался: «Ты что, не знаешь? Вот идет проститутка, а та – порядочная женщина». Я так и не понял, как китайцы их различают.
У китайцев, да и у наших среднеазиатских народностей, поразительно хорошая кожа. Они очень долго выглядят моложе своих лет, может быть, потому, что никогда не моют лицо холодной водой. Один год я жил в общежитии университета. Каждое утро два боя приносили нам большой ушат кипятка, и все обитатели здания выходили с тазиками, наливали в них кипяток и мыли горячей водой лицо. Но все же вряд ли температура воды имеет такое значение. Мне кажется, что у них эластичнее ткани кожи лица, и эта эластичность дольше сохраняется.
У крестьян кожа хуже, потому что они много времени проводят в полях на солнце. Китайские мандарины раньше вообще предпочитали на солнце не показываться. По улицам они не ходили, их носили в закрытых паланкинах носильщики. Загорать было не принято. Днем они сидели дома, и лишь вечерами гуляли в своих роскошных садах.
Вместе с тем поражает количество лысых старух в Китае. Я думаю, это от обычая склеивать волосы. Китаянки покупают на базаре длинные белые широкие стручки, вернее ленты, какого-то дерева, очевидно, настаивают их в кипятке и затем смазывают этим настоем себе волосы. Вот почему у них всегда волосок лежит к волоску. Это выглядит красиво и аккуратно, но за это они, по-моему, расплачиваются ранним облысением. Старухи там носят на лбу что-то вроде нашего кокошника. Это головной убор черного цвета, расшитый разноцветными бусинками, он закрывает только лоб, а сверху виден совершенно лысый череп.
О китайских театрах писать не буду, потому что ничего в этом не понимаю. Они поразили меня богатством средневековых одеяний актеров и шумом оркестра, который показался мне еще хуже, чем шум джаза в гостинице «Украина» в Москве. Я не воспринимаю китайской музыки, хотя звук китайской флейты весной в поле мне очень приятен. Приятен и звук китайской скрипки вечером, когда в саду трещат цикады. Один раз я видел Мей Лан Фана – очень известного китайского актера, игравшего только женские роли. Мне это было непонятно. Китайское пение у меня не вызывает никакого удовольствия. Кстати, свои стихи китайцы не читают, а поют. Это мне тоже чуждо. Ничего тут не поделаешь. Разные культуры -разные вкусы. Каждому нравится свое родное.
Я часто задумывался, как мы воспринимаем архитектуру, скульптуру, поэзию – и свою, и чужих народов. Думаю, что есть такое понятие, как «обаяние чужой цивилизации». Когда в Шанхае я бывал в районе, где жили почти одни японцы, то чувствовал это «обаяние чужой цивилизации»: другие духи, другая одежда, другие жесты, другой язык – а все вместе создает ощущение очарования. То же самое происходит, когда видишь в большом китайском саду с горбатыми или кривыми мостиками китайскую толпу с веерами.
Китайская живопись формалистична, но тоже прекрасна. Одна китайская художница рассказывала мне, как ее обучал старый художник. Она должна была знать на память, сколько, например, зазубрин на листке хризантемы, сколько рядов лепестков у ее цветка. Вот почему китайский рисунок так точен. Потом ее обучали верности руки. Художник не имеет права провести кистью по одному и тому же месту дважды. Если он рисует лепестки бамбука, каждый лепесток – это один мазок, сделанный уверенно и мгновенно. Для создания глубины тонов на разных блюдечках заранее разводится в разной концентрации тушь. Черные лепестки кажутся зрителю близкими, а серые – отдаленными: чем светлее, тем дальше от зрителя. Китайские рисунки лошадей поражают своей динамичностью. Есть в китайской живописи картины, на которых изображены просто иероглифы. Китайцы воспринимают свои иероглифы как картины и именно поэтому, мне кажется, не могут от них отказаться. Это было бы равносильно отказу от целой области изобразительного искусства. Тысячелетняя культура Китая будет всегда очаровывать, как и культура других народов. Каждая цивилизация имеет свою особенную прелесть.
ЛАБОРАТОРИЯ МЕДИЦИНСКИХ АНАЛИЗОВ
Как я уже говорил, моя частная практика окончилась бесславно. Андерсон уехал, и я принял предложение Аркадия Александровича Лемперта работать в его лаборатории медицинских анализов. Лемперт бежал из России совсем молодым человеком, не успев окончить медицинского факультета. В Шанхае он обнаружил, что в городе нет хорошей лаборатории клинических анализов. Он ее создал. Отрабатывая различные биохимические и бактериологические методики, он много работал сам, и его лабораторию все иностранные врачи признали как самую лучшую в Шанхае. Впрочем, и самую дорогую, что также лило воду на мельницу Лемперта. Высокие цены – это хорошее качество, престиж, реклама. В Шанхае это ценилось.
У Лемперта было два компаньона – рентгенологи доктор Помус и доктор Николай Васильевич Бундиков, врачи-служащие компаньонов – профессор Венского университета Раубичек и профессор паразитологии Манильского университета Хауат, американец, а также несколько лаборантов. Хауат не был, собственно говоря, служащим, хотя за свою консультативную помощь получал какие-то деньги. Он разработал и внедрил у Лемперта новый метод дифференциальной диагностики бациллярной и амебной дизентерии с помощью простого микроскопа. Его хобби была метеорология: он все время записывал температуру воздуха и атмосферное давление. А мы все были уверены, что он работал на американскую разведку, так как уже назревала война между Японией и США.
Беседуя ежедневно с Хауатом и Раубичеком, я узнал много нового. Хауат, между прочим, для развлечения своих друзей издал на свои деньги программу «факультета проституции» какого-то несуществующего университета, где строго по форме, давался список изучаемых предметов, практических занятий и пр. Раубичек был полон воспоминаний о старой Вене и Австро-Венгрии, о венском университете, в котором учился, а затем преподавал, и о тех людях, которые там блистали в его время. Об Австро-Венгерской монархии Раубичек думал приблизительно то же самое, что и бравый солдат Швейк. В Первой мировой войне он принимал участие в качестве военного врача.
Раубичек рассказал мне, что однажды их полк был расквартирован около замка какого-то чешского магната, то есть «около» были расквартированы солдаты, а офицеры поселились в самом замке. Замок был роскошный с великолепным парком. Офицеры собрались вечером на ужин. Прислуживали слуги-чехи. Хозяин с семейством уехал в какие-то более безопасные места. Один офицер спросил дворецкого, где находится туалет. Тот ответил, что туалета нет и что господа должны ходить для этого в парк. Возмущенный австриец воскликнул: «Вот пример чешского порядка!». Дворецкий невозмутимо ответил: «Если бы у нас был порядок, господин лейтенант, то не вы сейчас мочились бы здесь, а мы в Вене».
Хотя Раубичек был патоморфологом, он страстно увлекался биохимией. Его жена рассказывала мне, что в день их свадьбы Раубичек отвез ее домой и сказал: «Дорогая, я отлучусь на час в лабораторию, там у меня идет эксперимент». Он вернулся только на следующее утро, и у молодых вместо брачной ночи был брачный день. Я сейчас не могу сказать, что он сделал в биохимии. В медицинских книгах по биохимии и по патоморфологии его имени нет. Между прочим, в книгах по паразитологии и тропической медицине нет имени Хауата. Этот факт, правда, ничего не значит. Можно быть прекрасным преподавателем на профессорском уровне и мало что писать. Хотя стать профессором, не имея печатных трудов, нельзя. А можно писать всю жизнь и быть весьма посредственным и скучным преподавателем. Раубичек всегда приходил на работу тщательно выбритым, с большим небрежно повязанным черным галстуком-бабочкой, свисающим с обеих сторон. Он жил с женой в частном пансионе на территории французской концессии (значит имел возможность откупиться от гетто), где снимал одну комнату. В его комнате висела только одна картина: эстамп Эразма Роттердамского. Несмотря на то, что он не был великим биохимиком, для меня он был очень ценным собеседником и руководителем.
Компаньон Лемперта, русский врач Николай Васильевич Бундиков, оставался для меня загадкой. Я его побаивался, а он меня едва замечал, и не только меня. Этот высокий седеющий блондин с холодными глазами и профилем римского патриция, всегда спокойный, ни на кого не обращал внимания. Я как-то спросил его, что определяет умного человека. Он немного задумался и сказал: «Умный человек тот, кто знает границы своего ума». Лишь намного позже, когда выяснилось, что мы оба решили ехать в Советский Союз, между нами установились искренние и дружеские отношения. Однажды он рассказал мне забавный случай о том, как один гинеколог прислал к нему китаянку для проведения теста на проходимость фаллопиевых труб. Бундиков приказал приготовить все к тесту и, когда вошла молодая китаянка, сказал ей: «Раздевайтесь и ложитесь». Она замахала на него обеими руками и закричала: «Нет, нет. Я хочу китайского ребенка. Я не хочу иностранного ребенка».
Но успехи лаборатории, в первую очередь, определял, конечно, сам Лемперт. Он чутко реагировал на все новое и прогрессивное в области лабораторных исследований, особенно, если это могло принести прибыль, и, будучи прекрасным организатором, немало зарабатывал на всяких нововведениях. Он первым в Шанхае создал у себя в лаборатории «банк крови». Тогда это была новинка, и в его организацию Лемперту пришлось вложить много сил, но и отдача была соответствующей. Как только в американской медицинской прессе появилось сообщение о новом лечении гипертонии цианатом калия, Лемперт сразу же увидел в этом методе собственную выгоду. Цианат калия токсичен, и поэтому во время лечения им необходимо периодически определять его концентрацию в крови. Это как раз и было то, что нужно. Лемперт поручил мне приготовить растворы для количественного определения цианата калия в крови, а также написать по-английски рекламное письмо для врачей о пользе этого метода и о том, что лаборатория медицинских анализов уже готова помочь врачам, так как приготовила все необходимое для контроля во время лечения. Через шесть месяцев выяснилось, что этот метод никуда не годится, но доход за пол года был хороший. Когда доктор Помус вернулся из США с аппаратом для электрокардиограмм, то Лемперт тотчас сообразил, что полезное для врачей новшество не менее полезно для нас, и организовал для Помуса лекцию в Обществе русских врачей. Работоспособность Лемперта была изумительной. Он мог проработать всю ночь, чтобы отработать какую-нибудь новую методику, а по своему характеру был человеком веселым и добрым, хорошо относился ко всем людям, но особенно к себе самому.
Лаборатория занимала два последних этажа пятиэтажного здания, плюс крышу, на которой жил баран, дававший кровь для реакции Вассермана. Свой кабинет Лемперт оборудовал по последнему слову техники и моды. Стены кабинета были обшиты деревом коричневого цвета, напротив входа находился камин, который никогда, конечно, не топили, а над камином висел портрет Павлова. Да, Ивана Петровича Павлова. Другие стены были украшены фотографиями малоизвестных американских специалистов но лабораторным методам исследования с личной надписью для Лемперта. У окна стоял большой стол. Справа на нем бумаги, а слева, как Библия, лежал капитальный труд по иммунологии Топли и Уилсона, который никто прочесть не мог, даже Раубичек. Раубичек мне сообщил, что Лемперт эту книгу тоже не читал, потому что для такого чтения у него недостаточно образования, а кроме того, книга не имеет никакой ценности для практической работы лаборатории. Тем не менее, Лемперт держал эту книгу – для общего фона. Вкус у него был.
Самыми интересными для меня были дни, когда к Лемперту приходили жены русских купцов (их было немного), для того чтобы с ним посоветоваться. Лемперт весь преображался. Он несомненно был актером в душе. Входила какая-нибудь дама, обычно без шляпки, чтобы было видно ее прическу. От нее пахло дорогими французскими духами. Это были или «Шанель №5», или «Шалимар». Для посетителей в кабинете стояло два глубоких кожаных кресла. Очень удобных зимой и непереносимых летом.
Лемперт усаживал клиентку в кресло, а сам отходил к камину. На полу у камина, как обычно, лежал ограничитель для падающего из очага горящего угля, высотой сантиметров в десять. Лемперт был невысокого роста. Он вставал под портретом Павлова на ограничитель, становясь, таким образом, на десять сантиметров выше, и его голова оказывалась на одном уровне с головой известного физиолога: симбиоз двух великих умов. Рядом с портретом Павлова находилась красивая китайская ваза с белыми и желтыми хризантемами. А вокруг на столах были разложены неведомые инструменты и аппараты. В глубине комнаты стоял колоссальный старомодный электрокардиограф, сломанный и давно не работающий. Лемперт пользовался новейшими американскими электрокардиографами, но этот был важным элементом интерьера.
Обычно я сидел за длинным столом в стороне и, подсчитывая кровяные шарики, с наслаждением слушал разговор шефа с пациенткой.
«Слушаю вас, мадам. Ох!.. Простите, у меня так болит бок, – он корчился от несуществующей боли. – Вчера все утро играл в гольф, и сейчас так ноют мышцы». В гольф он, конечно, не играл: это было дорогостоящее удовольствие, а Лемперт мотом не был. Но если человек играл в гольф до боли в боку, это его ставило очень высоко в глазах русской эмиграции. «Итак, сударыня, я слушаю вас».
«Доктор, мой врач говорит, что у меня колит, и возможно, тропический. У меня бывают такие боли в боку, как у вас после гольфа. Я так страдаю, что даже бываю холодна с мужем (опустила веки, изобразив смущение). Какой анализ нужно сделать, чтобы знать, что со мной? Я не боюсь правды. Скажите, какой у меня колит?».
Лемперт приходил в восторг. В халате, наглухо застегнутом у шеи (из-за жары мы надевали халаты на голое тело и поэтому так их застегивали), он стоял на десятисантиметровой высоте и обдумывал текст речи.
«Мадам, что вам сказать? Ваша болезнь, моя болезнь, болезнь герцога Эдинбургского, болезнь всякого человека так легко не определяется. Вот здесь Павлов (поворачивается к портрету)... Как он работал! Рефлексы, слюна, собаки, много собак... И терпение. Много терпения!»
Лемперт сходил с пьедестала, подходил к своему столу и притрагивался к никогда нечитанному толстому тому Топли и Уилсона: «Вот здесь Топли и Уилсон, мои учителя, столпы мировой иммунологии. А вы думаете, мадам, что они смогли бы так сразу ответить на ваш вопрос? Нет, нет. Не смогли бы».
Затем Лемперт возвращался на свой «насест» у камина. У него были очень красивые глаза. Дамы его называли «сероглазый король». Лемперт слегка опускал веки: «Сударыня, мы должны полностью, как теперь говорят, комплексно, да, именно комплексно, обследовать вас. Колит! Колит!.. А что такое колит?.. Я знаю? Нет, без анализов не знаю. Давайте сделаем так, мадам. На следующей неделе я специально попрошу профессора Раубичека, профессора Венского университета, и американского профессора Хауата, профессора Манильского университета, заняться вашим случаем. А потом я приглашу вас. Ваш телефон у меня есть?.. Нет. Сейчас запишу. И мы все вместе этот вопрос обсудим».
Когда эта мадам получала счет за анализы на баснословную сумму, она была счастлива. Этот счет она могла показывать своим знакомым, чтобы те знали, что ей стоил ее кишечник. Этим счетом она могла утереть нос мужу и потребовать новую норковую шубу к осени.
Ее врач был счастлив, что послал ее к Лемперту. Лемперт тоже был счастлив. И бухгалтер Лемперта был счастлив. Все были счастливы, исключая, может быть, Павлова и Топли с Уилсоном. Но их мнения никто не спрашивал.
Милый Лемперт был мастером светской лжи. Меня он представлял врачам и пациентам так: «Познакомьтесь. Доктор Смольников. Он любезно согласился помогать нам в клинической патологии». А на самом деле я был рад работать у него за четыреста юаней в месяц, потому что мы почти голодали. Он поручал мне самые разнообразные процедуры, за что я ему благодарен. Я должен был брать желудочный сок, определять кислотность и прочие вещи. Брал кровь и считал белые и красные кровяные шарики, красил мазки крови, определял средний диаметр красных кровяных телец.