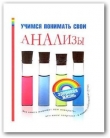Текст книги "Записки Шанхайского Врача"
Автор книги: Виктор Смольников
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 21 страниц)
Для того чтобы высказать какую-то гипотезу о самом Моэме, кроме «Бремени страстей человеческих», надо прочесть еще и рассказ «Его превосходительство». Рассказ этот относится к тому периоду творчества Моэма, когда он, проработав во время Первой мировой войны в британской разведке, написал о ней семь прекрасных вещиц. «Его превосходительство» – одна из них. Так же, как «Бремя страстей человеческих», это произведение автобиографическое. Автор выступает здесь в образе британского агента Ашендена; его превосходительство, как и бедный студент-медик Филипп, – это сам Моэм.
Вчитайтесь внимательно в текст. Это рассказ о блестящем, подающем надежды молодом английском дипломате, влюбившемся во французскую акробатку Алике из бродячего цирка, проститутку не по профессии, а, очевидно, по небрежности (между прочим, Моэм обвиняет в этом некоторых чеховских героинь, которые отдаются не потому, что им это нужно, а просто потому, что иначе было бы хлопотней). Цирковой актрисе нравится английский юноша, хотя она и не подозревает, насколько он выше ее по положению, а выше Моэм ставит молодого человека для того, чтобы более эффектно показать всю глубину его падения. Моэм любит контрасты. Резкий контраст света и тени делает блистательным этот его рассказ. Отточенная техника письма писателя, а не моральные соображения -вот что заставляет восхищаться читателя.
Юноша из этого рассказа – блестящий тонко чувствующий аристократ, а девушка – пошлая циркачка, которая на первое свидание пришла в какой-то красно-зеленой шляпе, от чего его даже передернуло. Но он не может, не в состоянии от нее отказаться, его преследует какая-то слепая страсть, ради которой он готов бросить все: и блестящую карьеру, и общество, в котором вырос, и прекрасную невесту. Это повторение темы «Бремени страстей человеческих». Юноша берет отпуск и едет с цирковой труппой по городам, чтобы только быть рядом с этой женщиной. Над ним добродушно посмеиваются другие актеры, а он охотно выполняет любые работы, он даже» учится стоять на голове, этот будущий блестящий дипломат. У Алике неприятный хриплый голос, но он влюблен в этот голос (между прочим, у проститутки Милдред из «Бремени страстей человеческих» тоже был хриплый голос, возможно, от сифилиса голосовых связок). Она периодически уходит ночевать с хозяином цирка и уведомляет об этом заранее влюбленного в нее англичанина. Он страдает от ревности, но терпеливо все сносит.
При сравнении романа «Бремя страстей человеческих» и рассказа «Его превосходительство» у врача невольно возникает мысль, что в обоих случаях мы имеем дело с обычной алоголагнией – жаждой страданий, которая бывает пассивного (мазохизм) или активного (садизм) характера. Всякий нормальный человек послал бы к черту и проститутку Милдред, от которой страдает студент-медик Филипп, и акробатку Алике, от которой столько перенес «его превосходительство» (то есть тот же Моэм). Моэм так описывает встречу с Алике: «...она поздоровалась с вычурной вежливостью толстой тетки из табачного киоска. На ней было длинное пальто из поддельной норки и колоссальная яркокрасная шляпа. Она выглядела невероятно вульгарной. Она даже не была хорошенькой. У нее было широкое, плоское лицо, широкий рот и курносый нос. У нее было много волос, золотых, но явно выкрашенных, и большие сине-зеленые глаза (заметьте, не синие и не зеленые, что было бы красиво, а именно сине-зеленые – В.С.). Она была сильно нарумянена». В общем, хуже женщины и быть не может. Но вот здесь-то и возникает страсть. И лишь после многих страданий и унижений, которые переживает юноша (что также характерно для мазохиста – страдание доставляет ему удовольствие), он наконец с ней порывает, женится на приличной девушке и портит жизнь и себе, и ей, потому что не испытывает от всего этого никакой радости.
Прочтите рассказ «Человеческий фактор», где герой такой же утонченный дипломат, автор изысканной английской прозы (и это опять Моэм), много лет влюбленный в невероятно красивую и умную женщину, которая живет со своим шофером, вульгарным полуобразованным английским солдатом (здесь женщина умная и благородная, в отличие от Милдред и Алике, но схема отношений та же). Дипломат был вне себя от горя, когда случайно увидел их ночью обнаженными, купающимися в заливчике около ее виллы. Он презирает ее за эту связь, но все же хочет спасти ее даже ценой своего полного уничижения. Он предлагает ей (уже в который раз) выйти за него замуж, говорит, что ему ничего не нужно, он будет только молча страдать ради нее. Но ведь это классический пример мазохизма.
Еще одним доказательством наличия в характере Моэма черт мазохизма является сюжет рассказа «Нил МагА-дам». Герой рассказа, молодой красивый девственный шотландец, приехал в малайский город к Монро работать заведующим музеем. У Монро была русская жена Дарья, которая влюбилась в Нила и стала искать с ним близости. Нил был возмущен: он не мог и помыслить так отплатить Монро за его хорошее отношение и гостеприимство. Дарья наступала. Разговор между ними закончился признанием Дарьи в том, что она изменяла Монро и раньше. Нил спросил ее: «А вы не боитесь, что Монро узнает об этом?»... Она ответила: «Я иногда задаю себе вопрос, знает ли он об этом, если не умом, то сердцем. У него женская интуиция и женская чувствительность. Иногда я была уверена, что он подозревает, и в его боли и муке я чувствовала странную духовную экзальтацию. Я думала: не находит ли он в своей боли бесконечное, тонкое наслаждение. Вы знаете, есть такие души, которые чувствуют сладострастную радость от своих терзаний». По-моему, тут можно поставить точку в рассуждениях о влечении Моэма к душевному мазохизму. Какие еще нужны доказательства?
И Филипп, и «его превосходительство», и сам Моэм преодолели влечение к мазохизму, но у писателя осталась ненависть к тем, кто его так долго мучил, и он начинает мстить, и мстить очень остроумно, а для читателя – всегда интересно и неожиданно. Он впадает в противоположную разновидность алголагнии: из мазохизма в садизм – и, наверное, в этом есть логика. Ведь одно состояние является зеркальным отображением другого. Это, как в биохимии, где существуют оптические изомеры, обладающие одной и той же формулой, но одни отклоняют луч света влево, а другие вправо. Пусть читатель не думает, что садизм – это истязания только физические: драки, раны и синяки. Есть много разновидностей психологического садизма, когда другому человеку можно наставить столько психологических «синяков», что тот и жить после этого не захочет. В английском бракоразводном праве есть термин «умственная жестокость», являющаяся поводом для развода, то есть садизм или жестокость психологическая. Яркий пример такого типа жестокости вы найдете в рассказе Моэма «Змей», где садистка-мать портит жизнь своему любимому сыну, чтобы через него испортить жизнь молодой невестке, которую ненавидит.
Теперь должно быть ясно, почему первые три четверти книги «Бремени страстей человеческих» мазохист будет читать с удовольствием, а нормальный человек – с трудом.
Кстати, следует заметить, что, кроме мазохизма и садизма, есть еще и садомазохизм, когда человек испытывает удовольствие и причиняя страдания другому человеку, и сам испытывая страдания. А термин «алголагния», если его искать в сексологических словарях (например, словарь Шмидта «Либидо») или в соответствующих книгах по сексологии, всегда означает желание сексуального удовлетворения через ощущаемую или причиняемую боль. Но это частный случай. В широком понимании, это удовлетворение от страдания – или испытанного, или причиненного – любого происхождения, необязательно сексуального, хотя, конечно, и любовь, и страдание, и секс психологически тесно связаны. Но, пусть читатель из мо-
его анализа творчества Моэма не делает для себя далеко идущих эротических выводов. Сомерсет Моэм – большой художник слова, сложный философ, и пытаться подойти к нему с банальных позиций нельзя. А размышляя над его произведениями, попробовать понять, почему он был таким, а не другим, можно, и это увлекательное занятие.
Прав я в своих предположениях или это изощренная игра ума, пусть судит читатель. Но повторим слова Моэма: «Для того, кто интересуется душой человека, нет более увлекательного занятия, чем поиски побуждений, вылившихся в определенные действия».
Произведения Моэма так интересны потому, что он все время делится с читателем своей собственной философией. Он проникновенно пишет о своих двух учителях, великих мастерах короткого рассказа, Чехове и Мопассане. Он говорит, что Мопассан хорош своей фабулой. Его «Пышку» можно рассказывать как анекдот, и ее все равно будет интересно слушать. Когда Мопассан пытается философствовать, замечает Моэм, он говорит плоскости. Мопассан сексуален потому, что в его время была такая мода: каждый мужчина должен был стараться попасть в постель к любой женщине моложе сорока лет. Например, «в наше время, -добавляет Моэм, – все едят черную икру не потому, что они голодны, а потому, что она дорогая». Опять мода! Чехова он оценивает гораздо выше других писателей. Но Чехов, по его мнению, плох, когда берется за длинные рассказы, его сила в предельной лаконичности.
Как внимательному читателю мне хочется сказать о Моэме много хорошего. Его стиль великолепен. Количество определений, которыми он изящно жонглирует, вызывает восхищение. Его рассказ всегда сжат, краток, и сюжет не банален. Часто его сюжеты как будто нарочно обострены, но ведь он и не просит вас верить в то, что это правда. Это искусство. Когда оперный певец поет о своей любви к прекрасной примадонне, то вы наслаждаетесь пением, но ведь никто не наклонится к уху соседа, чтобы прошептать: «Скажите, а он действительно ее так любит?»
Моэм прежде всего английский писатель, затем европейский и американский. Часто фоном для его рассказов служит тропическая природа, туземные женщины и мужчины, но это только фон. Его герои, хотя и живут в Малайе, на Борнео и в Китае, главным образом, англичане. Если англичанин живет с малайской женщиной, Моэм не поскупится сказать о ней добрые слова, как о хорошей картине, но без глубокого психологического анализа. Подробно он пишет лишь о своих английских героях, их он знает. Он верно чувствует американцев, французов, итальянцев, но все-таки главное для него – свои, англичане. Это английский писатель.
Описания внешности героев у Моэма несколько примитивны. Салли из «Бремени страстей человеческих», – конечно, белая и розовая, «молоко и мед», плантаторы – часто с красными загорелыми лицами и обычно веселые – от виски. Но вот поразительно много лиц с болезненно-желтой, светло-коричневатой кожей. Когда читаешь его рассказы подряд, то создается впечатление, что в моэмовской империи свирепствует пандемия хронического запора.
Моэму ненавистны ложь и ханжество английского истеблишмента, отсюда его смех над человеческим притворством, чванством, глупостью. Он не раз спрашивает себя, как надо судить об отдельном человеке: это плохой человек, делающий доброе дело, или хороший человек, совершающий дурной поступок? И сам не дает ответа и не хочет выносить суждения.
На обложке книжек с его короткими рассказами мы видим портрет усталого человека с умными, печальными глазами. Это Моэм. Его правая рука подпирает подбородок, указательным и средним пальцами он так сдвинул вверх кожу на лице, что она сморщилась, но ему все равно. Он уже пережил период старческого кокетства, когда семидесятилетние джентльмены отдают печатать свои фотографии тридцатилетней давности. А его усталые глаза как будто говорят нам: дураки вы, дураки...
В своем творчестве он не раз возвращается к своей любимой теме: успех в жизни заключается не в том, чтобы получить официальное признание, ученые степени и медали, а в том, чтобы прожить жизнь полноценно и счастливо. Моэм, по-моему, не получил ни одного ордена, его не сделали «сэром», да ему этого и не надо было; не это было для него главным. В «Падении Эдварда Барнарда», в «Счастливом человеке» и других рассказах он говорит о своем понимании сути и важности человеческого счастья. Иногда он кажется снобом, особенно в рассуждениях о том, кто какой костюм может носить (например, послеобеденный костюм сидит хорошо только на мужчине, у которого вогнутый, а не выпуклый живот – «Чужое семя»), или о том, кто стоит выше на социальной лестнице, а кто ниже, однако уже в следующем абзаце готов все это высмеять. Такой блестящий портрет Уорбертона в рассказе «На окраине империи» он дал, очевидно, потому, что какими-то чертами сам похож на него. Он не прочь, хотя и довольно редко, употребить рискованное выражение на французском языке, но делает это так, что читатель, незнакомый с языком, проходит мимо, ничего не заметив («Брак по расчету», «Внешность и действительность»). Нет, конечно, он очень интересный писатель.
К религии Моэм относится иронически, когда это касается богословских теорий («Трон суда»), и с безжалостной иронией, когда речь идет о ханжестве и тупоумии представителей официальных религий («Дождь»). Он смотрит с беззлобной насмешкой на человеческую глупость до тех пор, пока она никому не вредит, кроме самого глупца, но самоуверенной глупости не выносит. С какой убийственной иронией он разделался с надутым английским чиновником из Гонконга, который вообразил, что Моэм в своей книге «Раскрашенный занавес» имел в виду именно его. Моэм в следующем издании этой книги написал в предисловии: «Помощник секретаря колонии вообразил себя оклеветанным и пригрозил подать на меня в суд. Я был поражен, так как в Англии мы можем показать премьер-министра на сцене или использовать как действующее лицо в романе архиепископа Кантерберийского или лорда канцлера, и занимающие эти высокие должности люди и бровью не поведут. Мне показалось странным, что человек, временно занимающий такой незначительный пост, мог подумать, что имели ввиду именно его». А с какой симпатией Моэм относится к малайцам и как хорошо отзывается о них устами своего героя Уорбертона в рассказе «На окраине империи». Необразованный бурбон Уокер («Макинтош») с необыкновенной человечностью относится к своим «подданным» самоанцам, хорошо знает их обычаи и язык. Поразительная наблюдательность, прошедшая через лабораторию ума и таланта, делает Моэма выдающимся писателем. Как и всякий писатель, он очень любит книги, о чем пишет в рассказе «Книжный мешок», единственном, где затронут вопрос кровосмешения между братом и сестрой.
Моэма обвиняли в цинизме. Но что такое цинизм? По словарю Ушакова – это «вызывающе-пренебрежительное и презрительное до наглости и бесстыдства отношение к правилам нравственности и благопристойности, культурным ценностям и т.д.». Написано круто, слишком категорично – и неверно. Если цинизм относится к категориям этическим, то он уже поэтому не может быть понятием абсолютным. То, что цинично для европейца, может быть безразличным для полинезийца. Легкомысленное отношение Моэма к религии и к богу цинично для верующего, но вполне приемлемо для неверующего. Моэм ко всему относится иронически и любит делать парадоксальные заявления – «эпатировать» читателя. Но это любили делать и Оскар Уайльд, и Честертон, и Шоу. Вряд ли это можно считать цинизмом. Вернее, цинизмом это будет считать всякий, чье ухо режет моэмовский стиль.
Моэм – рассказчик. Его цель – развлечь читателя, а не читать ему мораль. В рассказе «Нитка бус» собеседница Моэма описывает случай, как гувернантка, служившая в одной богатой семье, неожиданно получила триста фунтов стерлингов. Она решила поехать в Париж и прокутить их. Хозяйка ее отговаривала, но та настояла на своем. Уехала. Подцепила сначала богатого аргентинца, затем другого и «сейчас, – возмущенно добавила собеседница Моэма, – это самая шикарная кокотка Парижа». Моэм спросил ее: «А вам это не нравится? Как бы вы хотели, чтобы это все закончилось?» – «Я хотела бы, чтобы она влюбилась в бедного банковского клерка, которому на войне отстрелили ногу или хотя бы половину лица. Они бы поженились. Купили маленький домик, взяли его престарелую матушку. Он бы все время болел, а она самоотверженно ухаживала бы за ним». – «Но это было бы очень скучно», – заметил Моэм и услышал в ответ: «Да, но зато нравственно».
Моэм не скрывает своих взглядов. Он всегда искренен и высказывает свои мысли, не стесняясь. Это что, тоже цинизм? Ну, тогда ханжество – добродетель!
Вот, кстати, пример из его рассказа, который так и называется – «Добродетель» (по-моему, в русском переводе его нет). Прочтите только начало этого рассказа: «Есть мало вещей на свете лучше гаванской сигары. Когда я был молодым и очень бедным и курил сигары только тогда, когда кто-либо меня угощал, я решил, что, если когда-нибудь у меня будут деньги, я буду курить сигары каждый день после обеда и после ужина. Это единственное нравственное решение моей молодости, которое я выполнил. Это единственная цель, которой я достиг и которая никогда не была омрачена разочарованием». Пурист может воскликнуть: «Какой цинизм! С одной стороны возвышенные чувства, а с другой – сигара». Конечно, возможно, что пурист никогда не курил гаванских сигар. Ведь писал же выдающийся английский поэт Редьярд Киплинг: «Женщина всего-навсего женщина, / А хорошая сигара это курево!»
Дальше Моэм пишет: «...я люблю сигару мягкую, но полную аромата, не очень маленькую, которая выкуривается, прежде чем вы почувствовали ее, и не очень длинную, которая раздражает, и так свернутую, чтобы можно было тянуть дым без сознания усилия, что ты это делаешь, и с твердым наружным листом табака, который не прилипает к губам и находится в таком состоянии, что вкус остается до самого конца».
«Но когда вы сделали последнюю «затяжку» (здесь использовано слово, на русский язык не переводимое, так как сигарой и трубкой не затягиваются, как папиросой. Возможно, из-за этого у нас и не привились сигары и трубки – В.С.), положили бесформенный окурок и посмотрели на последнее облачко дыма, растворяющееся синим цветом в окружающем воздухе, невозможно, если у вас чувствительная натура, не почувствовать легкой меланхолии при мысли о всей той работе, о заботе и усилиях, которые были истрачены, о мыслях, о работе, о сложной организации, которые понадобились для того, чтобы доставить вам получасовое удовольствие. Из-за этого долгие годы люди исходили потом под тропическим солнцем, а корабли рассекали все семь морей. Эти мысли становятся еще более острыми, когда вы заказали себе дюжину устриц и половину бутылки сухого белого вина, и становятся почти непереносимыми, когда дело доходит до телячьей котлеты».
Что это? Телячье-котлетный цинизм? Полагаю, Моэм тут просто пишет изящную ерунду для своего и нашего развлечения. В этих строках не следует искать ничего, кроме блестящего стиля и юмора. Если читателя не трогает стиль, то он должен обладать хотя бы юмором.
В отношении Моэма говорили то же, что и в отношении многих людей с выдающимся талантом.
Гений и безумие – любимая тема обыкновенных людей. Она основана на элементарной статистической ошибке. В качестве примера берут двух-трех талантливых писателей со странностями и говорят: вот вам доказательство. Гений и безумие! Если вы возьмете мировую популяцию сумасшедших, то есть всех душевнобольных, находящихся в психбольницах (поверьте, их немало), и всех, туда еще не попавших (их еще больше), то увидите, что подавляющее большинство – вовсе не гении. А то, что гении иногда сходят с ума, не доказывает, что существует обязательная корреляция между гениальностью и безумием. Приводят в пример Достоевского. Достоевский был гениален, но одновременно страдал эпилепсией. И что это доказывает? Ничего. Возьмите всех эпилептиков мира и поищите среди них гениев. В большей части вы обнаружите людей с пониженным интеллектом. Приводят пример гения, который в старости сошел с ума. Но любые мозги поражаются старческим атеросклерозом, однако у обычного человека старческое слабоумие слабо заметно, а у гения – сильно. Выдающегося умом человека обязательно у нас назовут шизофреником или, более обтекаемо, шизоидом. Такой диагноз легко ставится людьми, ничего не понимающими в психиатрии. С кондачка: непохож на меня, значит, шизоид.
Гениальных и талантливых людей можно назвать ненормальными лишь в том смысле, что нормальные люди не гениальны и не талантливы. Они – здоровые, нормальные люди, и для большинства здоровых нормальных людей это и есть эталон, а то, что выходит за их рамки, аномалия.
...Книги, и особенно книги Моэма, помогли скоротать скучные дни в Индийском океане. Удивительно! Мы покинули Пенанг 23 января 1948 года, а спустя трое суток были уже в Коломбо, столице острова Цейлон. Подумать только: Индийский океан пересечен за три дня! Когда подходишь к Коломбо с юга, то вначале на линии горизонта, отделяющей светло-зеленую воду Индийского океана от бледно-лазурного безоблачного неба, видишь, как прямо из воды вырастают ярко-зеленые пальмы. Так кажется потому, что низкого песчаного берега еще не видно. Я никогда не видел миража, но, по-моему, это выглядит, как мираж. Потом начинает появляться берег и город.
В первый день приезда мы бродили по улицам Коломбо и по набережной. Коломбо мало чем отличается от
Сингапура, разве что в нем больше тамилов и сингалезцев. У набережной вывеска на всех языках – и на русском тоже, но в старой орфографии, – гласящая, что тут обменивают деньги всех государств мира.
Все пассажиры купили слонов из черного дерева. Живые слоны на Цейлоне тоже черные, а в Индии серые. В Сиаме есть белые слоны. В Европе свиньи белые, а в Китае – черные и белые. Вот поди и разберись тут. На другой день мы решили поехать в горы, чтобы посмотреть Канди, древнюю столицу цейлонских королей, наняли два такси на целый день и отправились в путешествие. Вернулись лишь в семь часов вечера, проехав в общей сложности около ста пятидесяти миль.
Дорога в горах очень красива, но из-за обилия тропической растительности довольно однообразна, потому что сквозь заросли все равно ничего не видно. Горные речки чистые и веселые. В них, охлаждаясь, валяются под водой черные слоны, для дыхания высунув хоботы над водой.
По обе стороны дороги домики цейлонцев. Они небольшие, выкрашены в белый цвет, с дверьми, закрывающими только середину проема, чтобы хозяева могли разгуливать дома голыми, а ветер проникал в хижину свободно. Сразу по обе стороны дороги плантации чая, кофе, каучука, кокосовые пальмы. Тут каждое дерево приносит деньги. Недаром англичане раньше называли Цейлон «жемчужиной британской короны».
По дороге мы останавливались два раза: на резиновой фабрике и на чайной. На резиновой фабрике нам показали, как делают толстые белые резиновые подошвы, тогда очень модные. Большие тонкие простыни резины склеиваются одна с другой при помощи электрического утюга, пока не будет достигнута нужная толщина (два сантиметра). Когда мы проходили между рядами работниц, сидевших на полу, они за спиной надсмотрщика протягивали к нам руки и, жалостливо улыбаясь, просили милостыню.
В Канди мы приехали в полдень. Город построен на высоком плато, посередине города вместо площади – большое озеро, обнесенное резной каменной решеткой. Я так и не понял, естественное оно или нет. Вокруг – гостиницы. Мы отправились в одну из них пообедать. Нам объяснили, что все официанты в ней – потомки цейлонских королей. Ну что ж, при многоженстве и гаремах это не так уж и невероятно. Потомки были одеты в длинные юбки, для прохлады, волосы у них были стянуты гребенками, и бегали они по каменному полу босиком. Нам пришлось обменять английские фунты на рупии. В январе 1948 года один фунт стерлингов стоил четыре американских доллара. Так записано у меня в дневнике. А сегодня (весна 1976 года) один американский доллар стоит что-то около восьмидесяти наших копеек, а так как фунт еще упал и стоит около полутора американских долларов, то это выходит около одного рубля двадцати копеек. Sic transit...
Пока мы обедали, к гостинице подкатили автомобили, из которых вышла группа английских дам с адъютантами. Судя по торжественности ансамбля, это могла быть и жена верховного комиссара Цейлона (высший британский чиновник) с сопровождающими. Все дамы в летних платьях. Естественно, лица напудрены, подмышками чисто выбрито. Все как полагается. Один из адъютантов был великолепен. Высокий молодой человек с черными волосами и синими глазами, в белом мундире с золотыми аксельбантами. У него было красивое продолговатое лицо, напоминавшее Оскара Уайльда, и восторженная ясная улыбка. На руках он держал противную белую болонку, очевидно, любимицу миледи. Весь вид его говорил, что он польщен этой ответственной работой. Мне его стало жалко. А может быть, он и действительно думал, что это почетная обязанность -носиться с паршивой болонкой из-за прихоти старой дамы.
После обеда мы поехали в Храм Зуба Будды. Это древний красивый храм, который за один раз осмотреть невозможно. Около храма мы столкнулись, очевидно, с аббатом буддийского монастыря, который, опираясь на посох, шел в сопровождении монахов, одетых в ярко-желтые буддийские одеяния. У аббата было сильно заплывшее бледное лицо человека, страдающего последней стадией нефрита (болезнь почек). У входа нас встретил старый монах с пышными седыми волосами. Он сказал, что из уважения к святыне мы должны снять обувь. Разувшись, мы поставили башмаки в ряд, и монах повел нас в первый храм, скорее, в часовню. В ней был алтарь, на котором стояла статуя Будды. Монах спросил, нет ли у нас желания принести жертву Будде. Мы точно не знали, хотим ли это сделать, но отказываться не стали. Старик сказал, что жертва обойдется по три рупии с человека. Мы заплатили. Монах пошел в угол часовни, где лежала охапка цветочных лепестков, слетевших с деревьев, какими усыпаны все улицы Юго-Восточной Азии. Взяв в руки пригоршню лепестков, он положил их перед статуей Будды. Не такие уж мы были и скряги, но нам показалось, что брать по три рупии за горсть лепестков, которые и так валяются на улице, не то что дороговато, а просто неприлично, однако спорить не стали. Старик повел нас по длинному коридору, остановился под изображением слона на потолке и объяснил нам, что слон сделан из девяти голых дев. Это было уже интересно: монастырь-то ведь был мужской. Когда мы присмотрелись внимательно к слону, то увидели, что монах сказал чистую правду. Дев было действительно девять, и они были голые. Одна из них была искусно вписана в хобот, другая – в хвост. Весьма поучительно! За это с нас денег не взяли. Бесплатный стриптиз.
Зуба Будды нам не показали. И слава богу. Он, наверное, обошелся бы каждому из нас не меньше, чем в двадцать рупий. Выносят его раз в год, естественно, в праздник зуба. Очевидно, на этот праздник приезжает много верующих стоматологов. Осмотрев все, что нам хотели показать, мы вернулись в комнату, где лежали наши ботинки. Монах сказал, что за хранение обуви каждый из нас должен заплатить три рупии. Тут мы не выдержали и зароптали, но делать было нечего. Босиком не пойдешь. На этом наше знакомство с буддизмом закончилось. Возмущенные наглостью поборов, мы сели в машины и приказали ехать на окраину города, но не успели тронуться с места, как были тут же остановлены. Узенькую дорогу преградил большой черный слон, на голове которого сидел хулиган-мальчишка. Наши водители весело заулыбались и сказали, что нужно заплатить пять рупий, тогда мальчишка повернет своего слона и даст нам проехать. Заплатили. Полноценными английскими ругательствами мы не ругались – с нами были дамы, – но девальвированные исторгали до тех пор, пока не доехали до чайной плантации.
На Цейлоне каждая крупная чайная фирма содержит красивый легкий домик с большой верандой, на которой проезжающие иностранцы могут отдохнуть, выпить свежезаваренный чай, собранный на плантации, – вот здесь действительно все бесплатно, – и расписаться в книге гостей. После чая нам принесли книгу. Я начал было расписываться, но Дьюи выхватил у меня ручку и написал: Гарри Трумэн и Вячеслав Молотов. Тогда это были самые известные политические фигуры, а кто в горах Цейлона будет проверять, пили они чай на этой плантации или нет!
На корабль мы приехали усталые и полезли в ванны мыться, а на следующий день покинули Коломбо и пошли в сторону Красного моря. Качало прилично. Весь день прошел в общей скуке. Телеграф ежедневно приносил сообщения о девальвации франка. А 30 января в семь часов вечера радио сообщило об убийстве Ганди. Утром довольно противный английский чиновник из Сингапура заявил мне за завтраком в кают-компании, что, как сообщили по радио, «святой человек» Ганди убит коммунистами и в этом виноват Советский Союз. Я ответил чиновнику, что не верю такой информации, и ушел из-за стола. Через час он пришел ко мне в каюту с извинениями. Очевидно, остальные англичане и Дьюи «дали ему по шее».
После обеда на судне для пассажиров вывешивались сообщения радио. Я пошел прочесть листок. Там было сказано, что Ганди был убит коммунальными анархистами. Болван-чиновник понял это как «коммунисты». В Индии в то время были так называемые «общинные анархисты» (по-английски «общинный» будет «коммунальный»), которые с коммунистами ничего общего не имели.
В воскресенье первого февраля мы были уже у острова Сокотра, у входа в Аденский залив. Погода стала прохладной, и я надел легкий костюм. Встречалось много судов, большей частью нефтеналивных. Солнечные ванны были забыты, и все мужчины, к великой радости Дьюи, надели длинные брюки. О дамах сведений в дневнике нет. На востоке показались горы Синайского полуострова. Дул сильный встречный ветер.
В семь часов вечера встали на якорь в Суэце. На носу корабля электрики поставили громадный прожектор для освещения канала ночью. Канал очень узкий, разойтись два судна не могут, и на всем его протяжении через определенные интервалы созданы маленькие бухточки, в которые может зайти встречный корабль, чтобы переждать, когда пройдет в обратную сторону другой. Очевидно, есть какие-то правила, кто кому уступает дорогу. Идти можно только очень медленно, чтобы не размывать волной берегов. В девять часов вечера пришли в Порт-Саид. Берега неинтересны. Кустарники. Маленькие мазанки. Верблюды, и довольно холодно. Это в Африке-то!
На другой день вышли в Средиземное море и взяли курс на запад. Уже двенадцатого февраля я любовался берегами Испании и грядой Сьерра-Невада. Затем проходили Бискайский залив – залив штормов. На сей раз он не соответствовал сложившемуся о нем мнению: был очень спокоен. Погода теплая. После Азии Европа показалась поразительно маленькой.