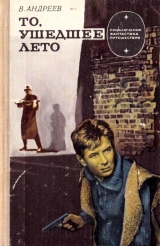
Текст книги "То, ушедшее лето (Роман)"
Автор книги: Виктор Андреев
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 20 страниц)
Эти образованные бразильцы
Пластинка была заигранная, надтреснутая, и когда иголка перескакивала трещину, раздавалось «кряк».
А когда придет бразильский – кряк – крейсер,
Лейтенант расскажет вам про – кряк – гейзер…
Эрика это раздражало. Да и вообще он не любил Вертинского, разве что «Хоронили девочку в платье голубом».
А Димке нравилась любая музыка, но, как всегда, Димка был настроен несколько иронически.
– Вот уж не думал, – сказал он, плотоядно разглядывая глиняный кувшинчик с ячменным солодом, – вот уж не думал, что у бразильцев есть крейсера.
Рената, глубоко утонувшая в диване, повернула голову и, глядя сквозь Димку, сказала монотонно и глухо:
– Хорошо бы… в Бразилию.
– Выучи бразильский и поезжай, – тут же отозвался Димка.
– В Бразилии говорят по-португальски, – сказал Эрик. Он ссутулившись сидел на подоконнике, и только силуэт его обозначался на фоне еще светлого окна.
– Это ж надо, – невозмутимо откликнулся Димка, поливавший солодом большой ломоть хлеба, – это ж надо, до чего образованный народ.
Откусив здоровенный кусок, прищурившись, могуче двигая челюстями, он восхищенно добавил:
– Экс либрис!
– Экс либрис – это значит «из книг», – обращаясь к Ренате, пояснил Эрик. – Печатают такие картинки с именем владельца и… – он запнулся. – У тебя совсем не осталось книг, Реня.
– Может, и солод из книг, – жуя, сказал Димка. – Загонишь книгу, купишь солоду.
– Смените пластинку, – резко бросила Рената.
И, действительно, Вертинский уже кончил петь, пластинка хрипела на холостом ходу, и от ее «йих, йих» по спине противно бежали мурашки.
Эрик спрыгнул с подоконника, снял мембрану и остановил патефон.
– Пари, – сказал Димка, – пари на пачку «Юно». Сегодня будет налет.
И все, как по команде, повернули головы к окну.
За немытыми стеклами зеленело небо, без облаков, без малиново-красной каймы заката. Впрочем, кайма-то была, но ниже, не видная из-за подоконника. Она опоясала небо от черных цехов Люфтпарка до черных кустов Кундзиньсалы – Барынькина острова – и угасала где-то за Зиемельблазмой – пригородным районом с феерическим названием «Северное сияние».
Рената встала, завела руки за спину, потянулась.
– Тоска, – сказала она убежденно, глухим, очень низким голосом.
Подошла к окну, распахнула его, поджала губы.
– Вот она, ваша Рига… Полюбуйтесь.
И Эрик и Димка знали, что любоваться отсюда нечем. Эрик механически перебирал книги, еще оставшиеся на хлипкой этажерке, Димка столь же механически дожевывал хлеб. Похоже, что обоим стало тоскливо, но вовсе не оттого, что Рената сказала: тоска. А оттого, что и впрямь все в этой комнате, в этой сумеречный час наводило тоску, оттого, что за окном, как знали они, было еще тоскливей от вида грязных дворов, осклизлых поленниц, облезлых котов и по-весеннему резкого смрада помоек.
Димка встал, подошел к Ренате, правой рукой оперся о подоконник, левой крепко обхватил ее за талию, попытался притянуть к себе.
Как он и ждал, Рената больно двинула его локтем под ребра, дернулась всем своим гибким телом, отошла от окна. Равнодушно бросила:
– Дурак.
Эрик, словно и не заметил этой сцены, присев на кор-точки, он продолжал перебирать растрепанные книги. Рената провела рукой по его волосам:
– Брось, Профессор. Сам же знаешь, тут одно дерьмо.
Эрик поднял голову, взглянул с укором:
– Зачем ты так, Реня…
Она тряхнула валиками туго завитых волос:
– Дерьмо есть дерьмо. Может, в гимназиях оно называется по-другому, но я не лезу в калашный ряд.
И тут же быстро отошла от Эрика, снова плюхнулась на диван. Поднесла руку к глазам, но вспомнила, что часиков уже нет. Димка, все время следивший за ней, немедленно откликнулся:
– Фюить! Часики, значит, того?..
– Того, – сказала Ренька. – А тебе-то какое дело?
– Никакого. Но интересно, за сколько?
Ренька взглянула на него пытливо:
– А ты бы сколько содрал?
– Сотню, а то и полторы. Небось, продешевила?
– Черта с два! – презрительно усмехнулся Ренька. – Сотенка у меня в кармане.
– Норма Ширер, – благосклонно отозвался Димка.
– Норма Ширер – это американская кинозвезда.
– И все-то ты знаешь, Профессор, – устало сказала Ренька. – Все-то ты знаешь, а вот часы бы загнать не смог.
Эрик выпрямился, кивнул:
– Наверное, так. Но вот Дюма я бы сумел продать.
– Который час? – резко спросила Рената.
Димка взглянул на свои часы.
– Пора. Пока настроите…
Рената встала:
– Пошли.
Она открыла дверь в свою девичью спаленку. Вошла первой. Там помещались только никелированная кровать, белый туалетный столик с овальным зеркалом и тумбочка, на которой громоздился старомодный вэфовский радиоприемник.
Приемником занялся Эрик, а Рената, достав из тумбочки карандаш и блокнот, сбросила туфли и с ногами устроилась на кровати.
Димка остался в столовой. Не спеша доел хлеб, потом отнес в кухню кувшинчик с солодом, поставил его в кладовку, заодно критическим оком оглядев все Ренькины запасы, и наконец уселся на корточки перед плитой, открыл дверцу и закурил.
Это был старый «доходный» дом, и, как во многих домах подобной постройки, здесь не было прихожих, дверь из кухни вела прямо на лестничную площадку.
Если где-нибудь хлопала дверь или кто-то проходил по лестнице, Димка поднимал голову, прислушивался.
Был вечер буднего дня, и дом жил сравнительно тихой жизнью, только за стеной, у Магды, слышались громкие пьяные голоса. Но то, что происходило у Магды, не тревожило Димку, пусть себе веселятся.
А минут через двадцать Рената и Эрик вышли из спальни. Ренька вырвала из блокнота несколько листков, исписанных крупным размашистым почерком, перечитала их и протянула Эрику. Тот аккуратно сложил все листки и сунул их во внутренний карман пиджака.
– Завтра я передам это Рите, а в четверг в девять вечера ты встретишься с нею возле кино «А. Т.». Но давайте обсудим, где разбрасывать.
– Только не здесь, – решительно сказал Димка. – Надо, как выражается Ренька, сменить пластинку, не то может запахнуть жареным.
Эрик потер висок:
– Может, в Задвинье? Скажем, возле Агенскалнского рынка. Тоже рабочий район.
– Не люблю Задвинья, – поморщилась Ренька. – Лучше где-нибудь на форштадте.
– Почему бы и нет, – откликнулся Димка, – там тоже не виконты де бражелоны живут.
– Я махну туда завтра после работы, – сказала Рената. – Посмотрю, что и как.
– Хорошо, – согласился Эрик. – О Задвинье подумаем потом. Надо с Янцисом посоветоваться, он знает те места как свои пять пальцев.
– Вот и о’кэй, – сказал Димка. – А теперь потопаем, Профессор. До того как начнется налет, я хочу оказаться под родными пенатами.
– Пенаты – это боги домашнего очага. Нельзя оказаться под ними.
– Ладно, ладно. По дороге расскажешь. Адью, Ренчик!
Рената заперла за ними дверь, опустила на окнах черные бумажные шторы, зажгла свет.
Впереди был долгий и пустой вечер. Надо было немедленно придумать себе занятие, потому что Ренька хотя и привыкла к одиночеству, но иногда на нее накатывало что-то – вот как сегодня – и тогда хотелось зубами скрипеть, кулаками в стенку колотить или разреветься в голос.
Белье, что ли, постирать? Она растопила плиту, наполнила водой бак и вдруг поняла, что никаким, абсолютно никаким полезным делом заняться сегодня не в силах. Дура! Надо было пойти с ребятами, пошататься по улицам. Намекни она только, Димка с радостью прошатался бы до самого утра. Но теперь уже было поздно, теперь ей предстояло одной выбираться из собственной тоски.
Рената накинула свое легкое пальтишко и, оставив догорать только что растопленную плиту, вышла на улицу.
На улице было знобко, сумерки кончались, наползала темень.
Рената постояла возле парадного, усмехнулась и сказала вслух:
– Иди туда, не знаю куда.
И пошла налево, действительно не зная, куда и зачем идет.
Сначала ни о чем не думалось. Потом от одиночества и тоски вспомнила о родителях. Подумала в бессчетный раз: это ж надо, уехать за день до войны. И главное, куда! Уж хотя бы в Москву, так нет же, в Ленинград!
Потом мысли переключились на Димку. На то, как они познакомились. Ей тогда только-только шестнадцать стукнуло…
Крутят «Большую любовь». Цара Леандер поет перед летчиками. Потом говорит одному: у меня есть кофе. И они – он и она – идут к ней.
Тут кто-то положил ей, Реньке, руку на колено. Она молниеносно хряснула ребром ладони по этой руке и лишь затем повернулась к чертову бандиту. Бандит сидел как каменный, вперив взор в экран, на котором уже целовалась с летчиком Цара Леандер. «Только сунься еще, – зашипела Ренька, – так врежу, на том свете не очухаешься!» Бандит не шевельнулся, только глаза чуть прищурились, и в них будто блеснуло что-то.
«Сопляк белобрысый», – подумала Ренька и, чтобы убедиться в этом, скосила на него глаза. Конечно, сопляк, не старше ее. И действительно белобрысый, патлы как сметаной вымазаны. Тут она заметила, что и сопляк косит на нее глазами, и, сказав про себя: «Тьфу, зараза!» – стала смотреть на экран. Там как раз советский ястребок сбивал фашиста, того самого, в которого втюрилась Цара Леандер. Белобрысый не стал ждать конца фильма, и Ренька насмешливым взором проводила его согбенную фигуру, когда он пробирался к выходу. Но вот фильм кончился, она вышла из кино, и он как ни в чем не бывало возник откуда-то перед Ренькой и чуть ли не ножкой шаркнул: «Добрый вечер!» – «Что?» – надвигаясь на него, устрашающе сказала Ренька, и он немножко струхнул, заморгал глазами – они у него оказались светло-светло-голубыми, а ресницы золотисто-желтыми. «Ну знаешь, – сказала она, – видала я всяких, но такого…» Он не дал ей закончить фразу, вытащил большую плитку шоколада в явно заграничной упаковке и протянул Реньке: датский, язык проглотить можно… Мгновение спустя шоколад полетел на мостовую, а Ренька гордо затопала в сторону дома. Но какой-то дьявол – может, он любознательностью зовется или пытливостью – заставил ее оглянуться. Горестно опустив плечи, белобрысый смотрел ей вслед, а шоколад так и валялся на мостовой. У Реньки даже сердце сжалось: где это видано, чтобы в сорок втором году шоколад валялся на мостовой! И ведь он, зараза, его не поднимет, так и оставит лежать. «Подними! – заорала Ренька, – подними сейчас же!» Он прыгнул на эту шоколадину, как кошка, а потом в три прыжка оказался возле Реньки и, протягивая плитку, ну чисто дюгнутый, заладил свое: датский… язык проглотить можно… «А вдруг он с Александровской высоты?» – подумала Ренька. Как-никак, высота эта, где помещался сумасшедший дом, была тут же рядом, за каменным белым забором. И Ренька с опаской зыркнула на этот забор, но белобрысый, сразу ее разгадав, покачал головой: «Нет, дорогая мисс, я совсем не оттуда…» – «Я тебе не дорогая, – строго сказала Ренька. – Шоколад ворованный?» – «Никак нет, – сказал он, – подарок дорогих родителей. По случаю именин». К этому времени они уже не стояли на месте, а медленно шли вдоль Красной Двины, по направлению к Ренькиному дому. И Ренька ему выговаривала: «Чокнутый ты как пить дать! Сначала за коленку хватаешь, потом шоколадом бросаешься, небось по чужим карманам шаришь?» Тут он так затряс головой, что Ренька остановилась. В жизни она не видала, чтобы так головой трясли. «Перестань, – заорала она, – думаешь, отлетит башка, я за нею гоняться стану?» Он перестал трясти: «О’кэй, дорогая мисс…» – «Сказано же тебе», – буркнула Ренька, и это опять-таки предполагало, что никакая она ему не дорогая. Но он до самого дома, через каждый десяток слов все-таки повторял: дорогая мисс.
Вот как они познакомились. И пока Ренька вспоминала об этом, рот у нее все время был до ушей.
Ночной налет
Рената пересекла железную дорогу, прошла мимо православной церквушки, мимо огороженного высоким забором лагеря для военнопленных и углубилась в лес.
Впрочем, это был не настоящий лес, а просто лесопарк. По-латышски он так и назывался: Межапарк. Но когда жива была Ренькина бабушка, она называла его по-дореволюционному: Царский парк. И Ренька вечно путала Царский парк с Царским садом, с тем самым, где Петр Первый собственноручно посадил дерево.
В лесу было совсем темно, но не страшно. Война приучила Реньку не бояться безлюдья. Шорох ветра в черных шевелюрах сосен, скрип трущихся друг о друга ветвей и даже совершенно необъяснимые звуки ночи и леса, – все это было безобидным, как сама природа. Опасность исходила от человека. И никто не был гарантирован от нее даже на самой людной улице.
Рената не знала, зачем она пришла сюда. Скользя на мокром ковре сосновых иголок, спотыкаясь о невидимые кочки, глубоко, до рези в легких, вдыхая острый, с гнильцою, весенний воздух, она брела, не различая направлений и не зная, куда выйдет. «Стих на нее нашел», – сказала бы бабушка. В последнее время «стих» все чаще находил на Ренату. Она могла беспричинно расплакаться, беспричинно озлиться, наговорить кому-нибудь гадостей или убежать куда глаза глядят.
«Это оттого, что ты живешь совсем одна, Реня», – мягко пояснял Эрик. Димка же в таких случаях виновато молчал и пытался стушеваться. А Магда посмеивалась: «Пора твоя подошла, девка».
Может, и возраст, может, и одиночество, может, еще сто шестьдесят причин – все равно тоска. Иногда глухая. Словно зуб начинает ныть, еще не сильно, но ни о чем другом уже не думаешь, прислушиваешься, ждешь, замирая от страха – сейчас вспыхнет боль, обожжет, пронижет насквозь. Иногда – иначе. Вдруг будто бы кожу снимут. Каждый нерв оголен. Самый воздух, и тот раздражает до крику…
Взяв с какой-то невозможно низкой ноты, сирена, как по спирали, стала взвывать все выше и выше, все истошней, отчаянней, безумней, будто хватая себя за волосы, выдавливая из металлической глотки уже не вой, а визг, вопль.
К первой сирене подключилась вторая, третья… Они все подключались и подключались. Наверное, так – в сумасшедшем доме. Сначала завоет один, подхватит другой и, глядишь, весь корпус воет, и все бросаются к окнам и трясут исступленно железные решетки.
Рената побежала. Не от страха – бессознательно. И не зная, куда бежит.
Упала. Больно ударилась коленкой о какой-то корень. Потерла холодное, саднящее колено теплой ладошкой. Поняла, что чулок непоправимо разорван, но отметила это чисто механически, нисколько не огорчившись.
Сама того не ожидая, выскочила на опушку. Впереди была насыпь, рельсы. Значит, прошла по лесу полукругом.
Весь город выл. А Рената стояла у кромки черного леса, и ее била дрожь.
Один за другим вспыхивали прожекторы. Их мутнобелые, слегка расширяющиеся кверху лучи судорожно дергались из стороны в сторону, то и дело образуя на небе огромные римские цифры: X, V, VII, XIV.
Издали наплывал негромкий гул самолетов. Он стал различим, как только оборвался вой сирен.
Димка учил Ренату: один самолет гудит равномерно, но если их много, гуд будет прерывистым, вибрирующим: уу-уу-уу. И Рената почти машинально отметила сейчас это «уу-уу». Значит, не один…
Громко и резко ударили крупнокалиберные зенитки. Высоко-высоко, вспыхивая, как звездочки бенгальских огней, рвались десятки снарядов.
Но даже и эта, похожая на барабанную дробь, канонада не могла заглушить нарастающего гула моторов.
А потом как бы тонкий свист услышала Рената. Секунду спустя он стал пронзительным, словно визг бормашины. Еще мгновение – и визг обернулся завыванием.
Рената могла поклясться, что бомба летит прямо на нее.
От опушки леса до насыпи было метров тридцать. Реньке показалось, что она одолела их одним прыжком. И вот уже распластавшись в осыпающемся гравии, вжимаясь в него всем телом, сухо всхлипывая и инстинктивно затыкая уши, она в мгновение ока отрешилась от всего, что не было жизнью и смертью.
И вот бомба лопнула.
Так лопается бутылка, если насыпать в нее карбиду, залить водой и забить деревянной пробкой. Димка такое делал, когда они глушили рыбу.
Вспомнив о Димке, Рената догадалась, что она жива.
Бомба взорвалась не ближе, чем в километре отсюда, но Реньке показалось, что где-то совсем рядом.
Потом завыла другая бомба, за нею еще одна, а может, и не одна, может, несколько сразу, но только теперь уже в Реньку никто не целился, взрывы пошли стороной, полыхая розовыми вспышками, что-то уничтожая, убивая, круша, но не покушаясь больше на Ренькину жизнь, словно она им вдруг стала ненужной, неинтересной.
И резь в животе почти прошла. Ныло еще немножко, но с каждой минутой глуше – утихомириваясь, отпуская. А ведь было так, что дальше некуда.
Ренька лежала на мокрой насыпи, упираясь подбородком в гравий, и смотрела в небо.
Все вокруг грохотало. Город яростно огрызался, отплевывался снарядами, полосовал прожекторами нависшее над ним смертоносное небо.
В неживом синеватом луче засеребрилась какая-то точка. И сразу же все остальные лучи будто магнитом стянуло к ней. Как будто в небе нарисовали индейский вигвам из светящихся жердей. Там, в месте их скрещения, медленно-медленно плыл еле различимый, микроскопический самолет.
Теперь все стволы нацелились на него. На него одного. Бенгальскими огоньками сужалось вокруг него небо. Все ближе, неумолимей – вокруг него одного.
Самолет нырнул. Нырнул неожиданно резко, и чуть не вырвался из пучка скрещенных лучей. Точнее, из пучка-то он вырвался, но один прожектор дернулся вслед за ним, и самолету не удалось уйти в спасительную темноту. А секунду спустя и все остальные лучи снова скрестились на нем.
Зенитки били так интенсивно, что нельзя было различить отдельных выстрелов. И земля и небо словно тряслись в какой-то яростной лихорадке.
Самолет попытался набрать высоту. Но это длилось недолго. Рената увидела, как он снова, почти камнем устремился вниз. Ей даже показалось, что он падает. Но нет, вот он снова выровнялся и несколько секунд летел по прямой. Потом заметался. Как птица, пытающаяся уйти от ястреба. Он бросался то в одну сторону, то в другую. Устремлялся вверх, скользил вниз то отвесно, то по спирали. Он дрался за свою жизнь отчаянно и красиво в неравном поединке с огромной черной землей, откуда неслись к нему сотни снарядов, рвущихся вокруг на тысячи раскаленных осколков, превращающих небо в смертоносное металлическое зарево.
Рената, пятясь, сползла с насыпи, с трудом разогнулась, встала. Дрожали поджилки, саднило ушибленное колено, скрипел песок на зубах. Но она стояла, будто сведенная судорогой, окаменевшая, не чувствуя даже отчаянно бившегося сердца, не видя ничего, кроме маленького серебрящегося самолета, и бессмысленно твердила: «Миленький, миленький, миленький…»
Внезапно от самолета отделилась и рванулась в сторону какая-то белая полоска. Потом еще одна. Они тут же исчезли во тьме, но Рената, неожиданно для себя самой, догадалась: парашюты.
Но раз люди прыгали с самолета, значит он подбит? Или там, в этом кромешном аду, у кого-то не выдержали нервы?
Нет, подбит. Подбит. Он уже не пытается вырваться из прожекторов, да и летит все медленнее. Даже можно разглядеть, что у него четыре мотора.
И вдруг – о, господи! – какая ошеломляющая красота! Десятки разноцветных пунктирных линий понеслись с земли к подбитому самолету.
В этот вечер Рената как-то инстинктивно постигала «науку войны». Даже Димка не многое мог бы добавить к тому, о чем она догадывалась сама.
Самолет потерял высоту. Он стал досягаем для малокалиберных зениток, десятками расставленных по всему городу. Эти малокалиберные стреляли трассирующими снарядами, стреляли непрерывно, как пулеметы, и разноцветные струи уносились в небо, чтобы добить уже беспомощный самолет.
Наступал конец.
Ренька закусила губу и так сжала кулаки, что ногти впились в ладонь. Но боли она не чувствовала. Не чувствовала и слез, катившихся по щекам, и только внутри у нее теперь что-то мелко-мелко дрожало.
Самолет качнулся, сделал короткий вираж и вдруг, замерев на секунду почти вертикально, понесся к земле.
Наконец-то он вырвался из прожекторов. И сразу, как по команде, цветные линии перестали расчерчивать небо.
В мгновенно наступившей тишине осталось только болезненное, звенящее гудение моторов. Оно все усиливалось, и Ренате отчаянно захотелось заткнуть уши и зажмурить глаза, но ей подумалось, что это будет предательством по отношению к людям, еще остававшимся в самолете, которым оставалось жить считанные секунды.
Качнулась земля, взметнулось розовое зарево и несколько секунд держалось не опадая. Взрыв был глуше, чем ожидала Ренька.
А потом, возвещая отбой, снова завыли сирены.
Все было кончено. Одни умерли, другие продолжали жить.
Когда Рената возвращалась домой, люди, высыпавшие из подвалов и бомбоубежищ, возбужденно и радостно, неестественно высокими голосами обсуждали все перипетии налета. Можно было подумать, что они и впрямь видели все происходившее.
Ренате хотелось плюнуть им в глаза, расцарапать их радостно-возбужденные морды.
Как-то раз – налеты тогда еще только начинались – Ренька тоже спустилась в подвал. В узком проходе между дровяными сараями сгрудилось десятка три жильцов. Горели две тонкие стеариновые свечки. Когда одна из них погасла, все злобно загалдели и стали искать виновного. Но тут ударила бомба, что-то посыпалось с потолка, и лица вытянулись, застыли со смешанным выражением злобы и страха. И Ренате стало душно. Не от холодно-кислого запаха заплесневевших дров и кошачьего помета, а от тесноты, от животного страха этих людей. Она стала протискиваться к выходу, хотя на нее шипели, говорили гадости и даже пытались удержать силой.
С тех пор Рената никогда не спускалась в подвал, а пережидала налет в квартире либо в парадном – по совету Димки, который провел ее по Старому Городу и показал разрушенные дома – почти во всех уцелели парадные.
Возле Ренькиного дома тоже стояла кучка жестикулирующих людей, но девушка даже не поздоровалась ни с кем и тут же поднялась наверх.
Однако, как ни презирала Рената этих спешивших выговориться людей, ей после пережитого напряжения тоже нужен был собеседник. И, постояв в нерешительности на лестничной площадке, она позвонила к Магде.
Слава богу, Магда была одна. В кухне, под потолком, ярко светила лампочка. На плите попыхивал жестяной чайник, который Магда называла «трумулем», а на кухонном столе, застеленном белой клеенкой с синими голландскими мельницами, стояли блюдо с хлебом, тарелка аккуратно нарезанной краковской колбасы, сливочное масло и розетка с мармеладом. Во рту у Магды торчала сигарета, и шлейфы серого и синего дыма плавно изгибались у нее за спиной.
– Ты что, в подвале сидела? Когда загудели, я ткнулась к тебе – никого, – голос у Магды был высокий, резкий, с насмешливыми, а порой и язвительными интонациями.
Ренька отрицательно помотала головой и плюхнулась на массивный табурет.
– Пальто хоть сними, – сказала Магда и вдруг заметила разорванный Ренькин чулок и ободранное колено. – Где это тебя угораздило?
– Упала, – безучастно пояснила Ренька.
– Промыть надо. Снимай чулок. Его все равно не заштопать, можешь в печку бросить.
Магда принесла бутылочку с перекисью водорода и, когда Ренька спустила чулок, осторожно протерла уже подсохшую ссадину. И тогда Ренька сказала:
– Я в лесу была. Гуляла. А тут налет…
И вдруг бессвязно, захлебываясь, стала рассказывать обо всем, что пришлось ей увидеть и пережить за последний час.
Магда сняла с плиты чайник, задвинула в плите круглое, полыхавшее огнем отверстие чугунными кружками, заварила чай, потом не спеша нарезала хлеб, толсто намазала два ломтя желтым деревенским маслом, аккуратно разложила на них ломтики колбасы, налила чаю в две белые фаянсовые чашки, присела к столу и сказала:
– Ешь.
Рената осеклась, потом горько бросила:
– Ни черта ты не понимаешь!
Она механически взяла бутерброд, откусила, начала жевать и внезапно почувствовала острый голод.
Хлеб был свежий, пахучий, присоленное масло таяло во рту, а забытый вкус колбасы казался томительно нежным, как воспоминание о детстве.
Ели молча, осторожно прихлебывая чай. Потом Магда пошла в комнату и вынесла пару новых шелковых чулок.
– Я тебе заплачу, – сказала Ренька. – В эту субботу у нас получка.
– В эту субботу не надо, – покрутила головой Магда.
– Ладно. Посмотрим, – сказала Ренька.
Потом они безучастно пожелали друг другу спокойной ночи, и Рената ушла.
Дома Ренька бросила пальто на стул, прошла прямо в спальню, быстро разделась и нырнула под одеяло. Выключила свет, но тут же вспомнила, что надо завести будильник. В темноте протянула руку к ночному столику, несколько раз крутанула язычок завода. Будильник громко тикал, но Рената повернулась на левый бок, натянула на голову одеяло и слышала только стук собственного сердца.
Одни умерли, другие продолжали жить.






