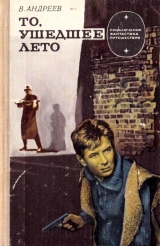
Текст книги "То, ушедшее лето (Роман)"
Автор книги: Виктор Андреев
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 20 страниц)
«Вольная охота»
С кладбища они шли вместе. Тужурка просто не мог тут же, после похорон вернуться в квартиру, где уже не было Янциса. Ему и подумать было страшно остаться там с его матерью – что-то в ней жуткое появилось, что именно – непонятно, но уж точно – жуткое. И Тужурка инстинктивно потянулся к Димке, потому что из всех ребят, пришедших на кладбище, Димка показался ему самым крепким. Ну, самым витальным, что ли, как сказал бы Янцис. Жизнестойким. Да и Димка, наверное, понял, как хреново парню. Все время рядом стоял, потом потянул за рукав: пошли!
Долго шли молча, а куда – непонятно. Да Тужурка и не спрашивал – куда. Идут и ладно. Когда тебе плохо, надо идти. Пока не свалишься от усталости. Прошли Задвинье, перешли через мост, попетляли по Старому Городу. Потом – Бастионка, Эспланада. Возле Художественного музея Димка сказал:
– Пошатайся здесь минут десять, мне надо в гараж забежать.
Тужурка кивнул и, сунув руки в карманы, стал «шататься». Время было уже предвечернее, но светло как днем. Прохожие появлялись редко, и все какие-то неторопливые, задумчивые. Тихо здесь было, даже машины почему-то не проезжали. И странное ощущение нереальности охватило Тужурку. Словно попал он в фантастический город, где живут вне времени, где все безмолвно, а люди – призраки, тени живых людей. И сам он тоже какая-то тень, ни с кем и ни с чем не связанная, так – пустота и бесцельность.
Край предзакатного неба был настолько зеленым, что и в Прибалтике редко увидишь, а длинное перистое облачко, и впрямь похожее на перо, – таким золотисто-оранжевым, каким ничто другое в природе не бывает, и от этого ощущение нереальности усиливалось еще больше. Даже треск мотоцикла был сначала сам по себе, не входил в сознание, отторгался, как нечто ненужное, но когда рядом с Тужуркой завизжали тормоза и Димка крикнул: садись! – вся нереальность рухнула карточным домиком, мгновенно и навсегда – хорошо, если она приходит к людям хотя бы один раз в жизни.
Когда въехали в лес, день сразу, без перехода сменился вечером. Ну, не то чтобы настоящим вечером, а как бы поздними сумерками, потому что белый лист бумаги, прикрепленный Димкой к сосне, виднелся еще вполне отчетливо.
– Так только бабы стреляют, – и Димка заставил его стать не лицом к дереву, а правым боком, а потом еще и руку чуть-чуть согнуть в локте. – Теперь давай. Только нажимай плавно, не то дернется.
Плавно сначала не получалось, ствол неизменно дергался то вверх, то в сторону, и проклятый белый лист казался Тужурке чуть ли не заколдованным. Хорошо, что не разозлился, тогда бы наверняка так ничего и не получилось. Но Тужурка сумел задавить в себе раздражение и стыд за собственную беспомощность, и, когда Димка сменил магазин, вдруг сразу стало получаться.
В город вернулись уже настоящим вечером, в темноте.
Димка не высадил его в Задвинье, а поехал прямо к гаражу, отпер ворота, завел во двор мотоцикл и повел Тужурку в уже знакомый тому подвал.
Тужурка курил вторую или третью сигарету в своей жизни. И впредь он курить не собирался. Но сейчас, пока ни один из них не мог начать разговор, надо было чем-то занять время, потому что просто сидеть и молчать как-то не получалось. В общем-то никакого особого разговора не требовалось. Без разговоров все было ясно. И все-таки…
Начал Димка.
– Что такое Freijagd знаешь?
– Знаю.
Димка, однако, подтвердил для верности:
– Вольная охота. Вылетает летчик без определенного задания. Что ему попадается на глаза, то и уничтожает.
– Знаю, – повторил Тужурка.
– Согласен?
– А ты как думал?
– На мой взгляд, – задумчиво сказал Димка, – самое подходящее – полевая жандармерия. Бляхи у них фосфорные. Светятся ночью. Не промахнешься.
– Правильно, – согласился Тужурка. – Когда?
– Завтра вечерком, попозже. Не возражаешь?
– По мне, хоть сегодня.
– Нет, – сказал Димка, – завтра. Я тебе сейчас ложе сооружу. Можешь целые сутки дрыхнуть. Утром жратвы принесу.
Он, действительно, всего на секунду-две включая карманный фонарик, соорудил импровизированное ложе и уже собрался уходить, когда Тужурка вдруг вспомнил…
– Подожди-ка.
Димка наверняка даже в этой непроглядной темноте узнал эту книжку по формату. Потому что, хотя и спросил: «Это что еще?» – но голос у него был хриплый, как у отчаянного астматика.
– Так он велел, – тоже внезапно охрипнув, сказал Тужурка. – Ну, понимаешь, предполагал он, наверное, что… В общем, велел…
Слова не шли с языка, застревали во рту, но разве тут надо было еще чего-то объяснять…
Они долго шатались по городу, сначала в районе Гризинькална, потом, пройдя вдоль железнодорожных путей, возле Матвеевского кладбища.
Лето наступало полным ходом. Только северный ветер еще не сдавался. Каждый порыв был резким, холодным и приносил с залива солоноватую свежесть еще не прогревшегося моря.
Они бродили, как неприкаянные, и почти не разговаривали. Синеватые, постепенно густеющие сумерки не располагали к разговорам. По пустякам болтать они были просто не способны, а говорить о предстоящей «охоте» вроде бы рано было, да и сама «охота» в этот удивительно мирный, расслабляющий вечер стала казаться затеей почти нереальной…
Вышли к водокачкам, поднялись на пригорок, сели. Молодая травка еще мешалась с прошлогодней, жухлой. Солнце только что закатилось. Красный цвет на небе переходил в пурпурный, да и тот уступал уже место сероватой дымке. Становилось все прохладнее. Гудели маневровые паровозы, лязгали буфера. Прошел длиннейший состав с танками на платформах. Две платформы были оборудованы для зениток. Возле них сидели солдаты.
Димка глубоко вздохнул:
– Рацию бы нам… Сиди себе и считай, сколько «тигров» на фронт провезли, сколько другого барахла. А потом отстукивай: точка-тире, точка-тире… Кое-кому такая статистика ой как не помешала бы.
– Да, – сказал Тужурка, – только где ты ее возьмешь, эту рацию? А если и возьмешь, так ведь все равно же неизвестно, как с ними связаться. Надо, чтобы какой-нибудь человек оттуда явился.
Димка усмехнулся:
– Может, и явился. Но он же не Христос.
– При чем тут Христос?
– Да тот, вроде, народу являлся. А здесь, сам понимаешь не очень-то объявишься.
Сказал это Димка уже вяло, без интереса, и каждый из них опять ушел в свои мысли.
Тужурка стал думать о том, что вот и кончилась весна. Самое настоящее лето пришло, и, значит, сейчас уже поздний час, наверное, и если ждать полной темноты, то наступит она никак не ранее двенадцати, а ноги уже сейчас гудят. И еще он попытался разобраться в числах, потому что какое-то время жил в другом мире, где не было чисел и дней недели, а был только Янцис, сначала еще живой, а потом… Но об этом «потом» пока вспоминать не следовало… В гимназию Тужурка не ходил, а ведь занятия шли к концу. Может, уже и кончились? Впрочем, гимназия никак больше с его жизнью не соотносилась, и подумал он о ней случайно, в той только связи, что вспомнил о тете Амалии, а тетя Амалия… В общем, завтра же он уедет в Кулдигу. Если, конечно, они сегодня вечером сделают то, что задумали. Без этого он не уедет. Этого требует Янцис. Тут все решено и подписано. Но как только это будет сделано, он уедет. На время, не навсегда. С ребятами он рвать не собирается. Напротив, нет у него теперь более близких людей, чем они, чем тот же Димка, скажем. Но к тете Амалии он должен съездить. Почему должен, Тужурка объяснить бы не смог. Мысль о поездке пришла внезапно, но как нечто давно решенное, и для него никаких доказательств не требовала. А когда она пришла, встал вдруг перед глазами весь их тихий провинциальный городок и школа его – двухэтажная, краснокирпичная, с высокими узкими окнами, классы тоже всегда казались ему узкими и высокими, и в каждом была высоченная круглая печь; иногда темными зимними утрами в печах еще трещали дрова, и на первом уроке он больше прислушивался к этому завораживающему потрескиванью, чем к объяснению какой-нибудь теоремы. И еще он увидел церковь, всегда свежевыбеленную, с острым шпилем, и тут же было кладбище с низкой оградой из серых валунов, с прямыми, желтым песком посыпанными дорожками, с гранитными надгробиями, с ухоженными могилами, над которыми весной осыпает свой цвет черемуха, где летом цветут незабудки и флоксы, а осенью холодно пламенеют далии. В дошкольные годы он регулярно ходил сюда с тетей Амалией, к двум могильным холмикам, как бы объединенным общей гранитной плитой, на которой значились имена его родителей и где была выбита эпитафия, а вернее, просто изречение: «Не умирать после себя на земле». То ли вычитала где-то тетя Амалия эту фразу, то ли сама придумала… Но Тужурка помнил, что многие корили ее за оригинальничание. И тут же он сразу подумал, что могилу Янциса без посторонней помощи не найдет, эти рижские кладбища – они же на десятки гектаров, не меньше. Тоже желтый песок… Когда песок этот стал глухо стучать о гроб, Рената судорожно всхлипнула и сказала по-русски: «Пусть земля тебе будет пухом». А латыши говорят: «Легкого тебе песка».
Тут он почувствовал, как и у него судорогой сжимает горло, и с таким усилием сглотнул слюну, что Димка повернул к нему голову и сразу все понял, потому что положил руку ему на плечо и сказал необычно мягко:
– Ладно, парень, вставай, нам пора.
С жандармами им повезло. Эти двое вышагивали по бывшей Елизаветинской, а ныне Вальтер фон Плеттенбергштрассе, как две огромные механические куклы. Надо было только обогнать их сначала, а затем притаиться в какой-нибудь подворотне. Но Димка про обычную подворотню и слышать не хотел, потому что впереди был шикарный проходной двор, выводивший и на Мариинскую и на Мельничную. И пока они быстрым шагом, уже намного обогнав жандармов, шли к этому знаменитому двору, он все доскональнейше объяснил – и кому куда бежать, и где они встретятся.
– На сколько метров подпустим? – спросил Тужурка голосом, прерывающимся от быстрой ходьбы.
Димка долго не отвечал, наконец, как бы размышляя, откликнулся:
– А может, мы не подпустим их, а пропустим? И в спину?
– Что?! – Тужурка остановился с ходу, словно на фонарный столб налетел.
Пришлось и Димке притормозить. На секунду.
– Да идем же, охломон турецкий! – зашипел он, как проколотая шина, и, схватив Тужурку за рукав, потащил его вперед. Тужурка зашагал в прежнем темпе, но, минуту спустя, выдавил из себя категорическое:
– В спину я не могу.
– А в спину и невозможно, – насмешливо сказал Димка. – Мы их просто не разглядим в темноте. На спине у них бляхи не светятся.
– Даже если б светились.
– До чего же ты благородный! Прямо Атос-Портос.
– Ты и сам бы не мог, – твердо сказал Тужурка.
– Не могу, не могу, потяните за ногу, – огрызнулся Димка, потому что последнее слово должно было остаться за ним.
Тут они подошли к воротам, и дискуссия кончилась сама собой…
И вот они стоят, вытащив пистолеты, вжимаясь в холодный камень воротных столбов, один справа от входа, другой слева.
Уже далеко за полночь. Город затих. Трамваи не ходят, и ни одна машина еще не проехала. Над перекрестком висит зашторенный фонарь, от которого падает на мостовую четко очерченный круг желтого света. Фонарь, наверное, покачивается, потому что круг этот медленно плавает по булыжнику. Если долго смотреть на него, голова начинает кружиться. В тишине очень четко слышится равномерное, неумолимое какое-то «гок-гок-гок-гок…» – это идут они. Все ближе, ближе… Вот появились на перекрестке – две одинаковые, тяжелые фигуры в стальных тускло-серых шлемах, с огромными глянцевитыми кобурами на правой стороне живота. А вот прошли перекресток, и контуры их обозначились, будто вырезанные из черной бумаги. На груди все различимее бляхи. Вернее, не сами бляхи, а фосфоресцирующая надпись на них. Подойдут еще ближе, и можно будет прочесть: «Feldgendarmerie». Фельджандармери. Полевая жандармерия.
– Целься, – шепчет Димка и медленно поднимает пистолет.
… Гок-гок-гок-гок…
Не так-то просто целиться в темноте, когда вытянув руку, не видишь собственного пистолета. Да и рано еще целиться. Рука начнет дрожать от напряжения. Впрочем, руку и не надо вытягивать так напряженно, надо немного согнуть ее в локте, да и ноги немного расставить для упора, и вообще…
Рядом с Тужуркой оглушающе грохает выстрел. Второй, третий. И уже ни о чем не думая, он тоже нажимает на спуск. Дергается рука, значит, дергается и ствол. От грохота звенит в ушах. Он нажимает еще и еще.
Один жандарм падает почти сразу. Наверное, ничком, потому что проклятые буквы уже не светятся. Второй метнулся к стене.
– Беги! – почти истошно кричит Димка.
Проходят какие-то доли секунды, и смысл этого слова доходит до сознания. Усилием воли Тужурка отбрасывает себя от ворот и, нелепо размахивая руками, с пистолетом, зажатым в потной ладони, бежит, забирая вправо, туда, где тускло светится синяя лампочка над сводчатой галереей, выводящей на Мариинскую.
Димка тоже бежит. Сначала рядом, потом все больше отдаляясь. И кто-то бежит еще. Может, почудилось? Нет, точно – бежит еще кто-то третий. Где-то позади.
Когда Тужурка добегает до синей лампочки, раздается выстрел… Словно подножку подставили – так он падает, с размаху, лицом вперед, какое-то мгновение еще сохраняя сознание, но не успев за это мгновение осознать, что его убили…
Услышав выстрел, Димка остановился не сразу. Если стреляли в него, то вообще не следовало останавливаться. Хотя – если бы в него, так пуля должна была просвистеть или чиркнуть по камням… И Димка остановился.
Он уже почти добежал до Мельничной, синюю лампочку над входом в галерею отсюда не было видно, и пришлось пройти обратно метров тридцать.
Жандарм носком сапога пинал кого-то лежащего на земле. Потом наклонился. Наверное, переворачивал его лицом кверху.
Димка подходил все ближе. Бесшумно. На цыпочках. Вот только Димка ли это был? Ведь он же ничего не чувствовал, даже тела собственного не ощущал. На один только миг его что-то кольнуло. Страшно кольнуло, так, что он весь похолодел, но тут же и перестал ощущать себя, потерял свое «я», стал механизмом. Шума подъехавшей машины он не услышал, не услышал топота бегущих солдат, он видел только, как медленно разгибается жандарм и, когда тот выпрямился в полный рост, Димка стал стрелять.
Жандарм качнулся, сделал шаг назад, вытянул руки, словно пытаясь ухватиться за что-то невидимое, потом опять подался вперед и, наконец, рухнул поперек Тужурки.
Когда отец распахнул створки ворот и в гаражный бокс ударило солнце, Димка только сощурился, но даже голову не поднял. Сидел, упершись кулаками в скулы, низко опустив плечи, и ноги – носками внутрь – казались вывернутыми.
Сначала отец говорил очень громко, и, наверное, поэтому Димка не различал слов. Потом заговорил приглушеннее, и показалось, что так, пожалуй, можно будет что-то и различить. Но все равно не получилось. И только, когда отец сел рядом и то ли погладил, то ли просто провел рукой по Димкиной спине, слух возвратился, но теперь отец уже ничего не говорил.
Димка встал. С трудом, оттого что всю ночь просидел не разгибаясь, и на негнущихся ногах шагнул во двор.
– Ты домой? – тихо вслед ему спросил отец.
Димка помотал головой, затем незнакомым голосом сказал:
– Не сейчас.
Шел он к Реньке. Через вахтершу вызвал ее на улицу. Ренька выскочила в рабочем халатике, всплеснула руками. Его передернуло, сказал через силу:
– Пройдемся до угла.
Но еще раньше, чем они дошли до этого самого угла, он успел рассказать ей все, хотя и бессвязно.
Потом, пока не стемнело, он бродил по Задвинью, не различая улиц, да и какой смысл было их различать.
Дома дверь ему открыл отец. Мелькнула мать с распухшим лицом, но тут же словно растворилась. Димка сидел в кухне и ел. Очень долго ел. Потом выпил несколько стаканов чая. В один из них отец подмешал снотворное.
Проснулся Димка вечером следующего дня, поел и опять завалился спать. А утром неожиданно пришел Эрик. Сел на край кровати. Мать потопталась в дверях и ушла. Лицо у Эрика было серьезное, но не осуждающее.
– Ну вот что, – сказал он. – Тебе надо прийти в себя. С той стороны явился человек. И у него есть рация…
Из записок Реглера
… Наконец, хоть какие-то сведения. Его зовут Ульрих. Он служит на подводной лодке. Познакомились они в опере. Он прекрасный музыкант, целый вечер играл на рояле, когда Марихен пригласила его к нам. Сейчас снова в море. Что я обо всем этом думаю?
На этот раз целых две приписки. Юлиус: «Это великолепный парень, фатти. Я – за!» Марихен: «Фатти, я страшно счастлива, значит, ты не можешь быть против. Я же тебя знаю…»
…Рассказал своему знакомому о письме Лизбет. Он покачал головой: рано или поздно парень будет лежать на дне. Твоя дочь станет вдовой раньше, чем наденет обручальное кольцо. – А как бы ты вел себя на моем месте? – Не задавай дурацких вопросов, – сказал он, – ты же знаешь, что от тебя ничего не зависит.
Да, я знаю, что от меня ничего не зависит, но не могу с этим свыкнуться…
…Из письма Лизбет: «Было сбито несколько английских самолетов. Летчиков, которые спустились на парашютах, разорвали на части. Полицейским удалось отбить только одного и то уже полумертвого. Юлиус говорит, что это ответ народа на воздушный террор. Помнишь, как мальчик боялся крови?..»
Жанна
Для многих детей сороковой стал откровением. В этом году они узнали, что родители их вели жизнь двойную, опасную, но наконец увенчавшуюся победой и по заслугам вознагражденную. А в «Книжной торговле Н. Крастыня» никакого события не свершилось, все шло в замедленном темпе и смотрелось как через перевернутый бинокль – из прекрасного отдаления.
Ну, хорошо. Жанне было всего пятнадцать. Но ведь Арманде шел девятнадцатый! Однако, как выяснилось потом, Арманда тоже ничего не знала.
Уже теперь, в сорок четвертом, Жанна спрашивала себя: а не случись войны, стало бы им что-нибудь известно? И отвечала: пожалуй, нет.
Война, эта до чертиков огромная война, потрясшая все основы – вот какой ключ понадобился, чтобы открыть им дверцу в запретную жизнь.
И еще один вопрос вставал иногда перед Жанной: будь мать жива до сих пор, как было бы в таком случае?
Она и Арманду спрашивала об этом, но сестра так долго ворочала мозгами, что Жанна ответа не дождалась.
И вообще, слишком разные они были с Армандой, чтобы прийти к чему-то однозначному. Разве что имена у обеих были французские, а в голове: у одной – динамит, у другой – буйабес с уксусом. Это суп такой рыбный, по-бретонски, который мама готовила не столько в качестве еды, сколько в порядке воспоминаний.
Потому что мама была француженкой.
А папа был латышом и, насколько помнила Жанна, когда-то он был до чрезвычайности не латышским латышом – слишком много было в нем врожденной раскованности и живости ума. И, говоря о собственной нации, он смеялся раскатистым, не латышским смехом или щурил глаза с ироническим посверком. Как заправский гасконец.
Не потому ли он и женился на француженке?
Впрочем, мама всегда говорила так: ты женился, мон ами, на бретонке!.. Мама всегда твердила, что она бретонка. «Посмотри на мои руки, – говорила она отцу. – Разве у француженок бывают такие руки?» Шлепнув себя по заду, она говорила: «Разве это зад бездельниц?»
Странно, что Арманда не помнила таких разговоров, а Жанна помнила.
Потом, читая о Бретани и Вандее, об их романтической контрреволюции, Жанна спрашивала себя: уж не гордилась ли мать своей принадлежностью к чему-то по-настоящему грандиозному, хотя и противному ее убеждениям?
И еще был женский вопрос, мамин любимый конек, унаследованный Жанной и доведенный ею до крайности, до какой-то даже экзальтации.
Мама старалась относиться к этому вопросу объективно, с точки зрения правовой, социальной, экономической, этнографической и т. д. Но увлекалась и, в конце концов, переходила в плоскость субъективную и в область личных качеств отдельных лиц – начиная с Сафо и кончая Инессой Арманд. Вот это-то восторженное отношение к «сильным личностям слабого пола» – как выражался отец – больше всего и действовало на Жанну. Их общая с Армандой комната стала заполняться портретами и книгами особого подбора. Портреты, главным образом, вырезанные из журналов, сначала висели только над кроватью Жанны, но потом заняли и остальные три стены. Арманда пожимала плечами, но вслух ничего не высказывала – ни порицания, ни одобрения. Наверное потому, что превалировало в Арманде именно женское начало, и, следовательно, женский вопрос был для нее таким же заурядным и будничным, как мытье посуды.
А что касаемо до портретов, то тут отсутствовал начисто не только классовый, но и вообще какой-то определенный подход. Портреты вешались один возле другого по мере их поступления, и королева Виктория премило соседствовала с Луизой Мишель, а Жанна де ля Мотт – с Ирен Кюри.
Если к этому прибавить все книги и выписки из книг, то Жанна могла считаться единственной женщиной, знающей все о женщинах. Конечно, о женщинах выдающихся и прославивших себя в области, им, казалось бы, не свойственной. Бретонка-мама пыталась восстановить равновесие между героическим и житейским, но дочь так легко уводила ее на стезю великого женского подвижничества, что хозяйственные заботы сваливались почему-то на одну Арманду.
Впоследствии на этой почве все явственнее стало обозначаться сближение отца со старшей дочерью. До сорока пяти лет, не найдя поутру чистого полотенца, он смеялся, открывал окно и «обсыхал под веянием зефира». Постепенно ему понадобилось менять носки не реже трех раз в неделю. Ни с того ни с сего он стал обращать внимание на немытые окна, даже задумчиво выводил на них пальцем собственные инициалы.
Вот тут-то и вступила в игру Арманда. Может, и в отце и в дочери дали знать о себе крестьянские предки? Чистоплотные до помешательства, добропорядочные до кретинизма и тугодумные, как булыжник? Предки были уверены, что белье надо стирать, пироги надо печь, а детей – смешно сказать – детей надо не только рожать, но и воспитывать.
А тут еще умерла мать. Сидела за столом, смеялась и вдруг схватилась за сердце… Жанна даже вспоминать об этом боится, до сих пор дурно делается.
Несколько месяцев все они как неживые ходили. Отец сгорбился, и гасконский задор угас в его глазах навсегда.
С этого времени все хозяйство уже целиком легло на Арманду, да и большая часть торговых дел тоже.
Но о том, что составляло его подлинную жизнь, отец почему-то сначала рассказал Жанне. Быть может, потому, что заранее знал: уж она-то встретит это с восторгом. Он даже посоветовался с нею насчет Арманды, оттого что старшая дочь была человеком другой закваски, считавшая, что двойная жизнь существует только в бульварных романах и дрянных кинофильмах.
Арманда и впрямь долго не хотела понимать. Ее положительный ум восставал против невероятного открытия, что родители могли заниматься каким-то чудовищным делом, что за благопристойной бюргерской жизнью могла таиться другая, смертельно опасная и, главное, абсолютно ненормальная жизнь.
Но шло время. Арманда, выбитая из одной колеи, постепенно входила в другую, свыкалась с тем, что еще недавно казалось ей невозможным и, в конце концов, стала для отца такой же незаменимой помощницей, как и Жанна.
Все это случилось на второй год войны. А теперь шел четвертый, и сложная наука конспирации была давно освоена обеими девушками, а двойная жизнь стала для них настолько привычной, что они как-то и замечать перестали ее двойственность – жизнь как жизнь.
Самым страшным годом был сорок второй, когда один провал следовал за другим, когда буквально на волоске висела «Книжная торговля Н. Крастыня».
В сорок третьем было поспокойней, а вот в следующем, уже с ранней весны, опять начались неприятности и то, что было с огромным трудом воссоздано, грозило рухнуть как карточный домик. А для Жанны началось что-то и вовсе несусветное: ей сделал предложение доцент из университета, ею увлекся высокий эсэсовский чин, и, кажется… кажется, она увлеклась сама. Мальчишкой, у которого молоко на губах не обсохло, гимназистиком несчастным. В такого не влюбляться надо, а кормить по утрам манной кашей. С ложечки. Но захлестнуло Жанну. Нечто совсем ей не свойственное. Какое-то материнское чувство, редко-редко, но пробуждавшееся при виде странного и симпатичного существа, имевшего счастье или несчастье быть моложе ее хотя бы месяцев на одиннадцать. Как тот неуклюжий смешной парнишка, с которым она познакомилась во дворце пионеров, в далеком сороковом.
Она тогда записалась в драматический кружок, и ставили они какую-то дурацкую пьесу. А потом были танцы… Ну да, все это так, но вот как именно они познакомились – вылетело из головы. Он ее провожал сто тысяч раз. Но не до дому, а до угла. Уж такое условие она поставила, не хватало еще, чтобы кто-то заметил этого веснущатого ухажера, и вообще это ее просто веселило – кавалер из шахматного кружка! Смех и слезы!
Над дверью задребезжал звонок. Жанна теперь реагировала на него с раздражением. Вернее, внешне это выглядело, как раздражение – страх часто выглядит именно так.
– Черт бы побрал эту лавку! – сказала Жанна. – На всякий случай перейдите в кухню.
Кит сказал: хорошо. И провел рукой по подбородку. Жанну эта привычка бесила. Только юнцы так трогают себя за подбородок, словно надеясь, что у них внезапно выросла борода.
В лавке оказался не один человек, а двое. Один из них, конечно же, был оберштурмбанфюрер. Почему «конечно»? Потому что с утра у нее было такое предчувствие. А предчувствие, как известно, штука необъяснимая, но срабатывает безукоризненно.
Немец на этот раз был в штатском. И Жанна подумала, что это дурной знак. Но как можно равнодушнее сказала:
– Халло!
Сказала и тут же почувствовала, что голос прозвучал фальшиво. За эту фальшивость она отчаянно рассердилась на себя. «Какого черта!»
Впрочем, «черт» относился не только к фальши, проскользнувшей в ее голосе. Это значило еще: какого черта я должна отдуваться за всех! Почему черт где-то носит Арманду, почему патер ностер обещал вернуться к пяти, а сейчас уже двадцать минут шестого! Почему, почему, почему… И главное, почему мне очень не по себе?
Внешне она выглядела почти агрессивной.
Глаза поблескивали, будто в них капнули атропину. Голова, слегка откинутая назад, придавала ей вид надменный и даже несколько царственный – в тех пределах, конечно, которыми ограничивала ситуация. Ну и вообще вся поза… Жанна еще в детстве инстинктивно чувствовала власть позы. Так же, как лицо может предельно выразить страх, надежду, раскаяние или радость, не менее точно их может выражать и тело. Просто мы не задумываемся об этом. В лучшем случае говорим: он сидел с опущенными плечами. Или: шел, сгорбившись от горя. А вы когда-нибудь смотрели на живот? На живот рассерженной девушки? Вы смотрите на ее ноздри, потому что вам с детства внушили, что они раздуваются от гнева. Ничего подобного – ноздри как ноздри. А вот если вы приглядитесь к обтянутому платьем животу, вам откроется нечто чертовски необычное. И еще посмотрите на ноги, на колени, на ступни. Каждый дурак видит руки. Но руки умеют себя вести, а ноги нет…
Напротив Жанны стоял Эспозито Хугенхайм. Подполковник. Оберштурмбанфюрер – на идиотском наречии черного корпуса. Эспозито было одно из трех, записанных в метрическом свидетельстве, имен. Первым из них – Эбенгард – его звал отец. Вторым – Удольфо – называли в школе. Третьим – два человека. Он сам и мать. К третьему имени иногда придирались. Оно было откровенно не арийским. Потом разводили руками. Он был арийцем по меньшей мере в седьмом поколении.
Жанна была его типом женщин. У каждого мужчины, если верить иллюстрированным журналам, есть свой тип. У одного это полные, мягкотелые блондинки. У другого – кареглазые, длинноногие и большеротые брюнетки с бюстом стиральной доски. У третьих – женщины с маленькой ножкой… Да, да, какой-то тип есть. Но не надо упрощать.
Он пришел сегодня под предлогом. А часто ли мы приходим без предлога? Он пришел под предлогом Шпенглера. У него не хватало томика в «Закате Европы». Кроме того, ему нужен был Лопе де Вега, но его он оставил на следующий раз.
– Жанна, – сказал подполковник, – вы не забыли про мой заказ?
– Ваш заказ? А, Шпенглер, да? Мы получили его, но надо брать целиком, разрознять такое издание нам невыгодно. Оно будет стоить вам пятнадцать марок.
– Двадцать, – сказал подполковник. – Я знаю, сколько стоит Шпенглер, и не хочу ввести вас в убыток.
– Ладно, – сказала она, обретая свой обычный стиль, – забирайте своего Шпенглера и гоните монету.
Потом обратилась к парню:
– А вам чего?
– По-по…
– По-по у нас нет! – категорически отрезала Жанна. – И вообще, не тычтесь во все полки. – И, уже обращаясь к немцу, добавила: – Сначала по-по, а потом пол-лавки не досчитаешься.
Парень залился краской. У него так нежно заалели его толстые мордасы, что Жанне стало стыдно.
– Я пошутила, – сказала она и покраснела тоже.
– Мне нужны книги по… по театральному искусству, – запинаясь, пробормотал парень.
– Посмотрите вон там.
В лавку входит Арманда. Наконец-то! Лицо раскрасневшееся, на лице улыбка. «Здравствуйте», – говорит Арманда и сразу проходит в комнату за лавкой – сбросить плащ. Потом возвращается, туго обтянутая сиреневой шелковой блузкой и черной короткой юбкой. По сложению Арманда в мать. Ту тоже любое платье обтягивало так, что того и гляди лопнет.
– Не хотите ли кофе? – спрашивает Арманда.
Обращается она, конечно, к оберштурмбанфюреру. На лице – все та же сияющая улыбка. За эту улыбку Жанна готова ее убить.
– Если это вас не затруднит, – улыбается немец.
Конечно, не затруднит. Арманду ничто не может затруднить. Арманда сама любезность. Сейчас она пойдет варить эрзац-кофе, а Жанне опять придется вести беседу. С ума сойдешь!
– Там ничего нет по театру, – говорит парень.
Жанна вспыхивает. Она же точно помнит, что там была какая-то книжка!.. Гневно стуча каблуками, Жанна идет к дальней полке и, присев на корточки, водит пальцем по корешкам.
– Ну, а это что?!
Она вытаскивает растрепанную книженцию и сует ее парню:
– Глазами надо смотреть!
Парень и смотрит глазами, но не на книжку. На Жанну. Редких людей красит злость. Жанну красит.
Немец тоже смотрит на Жанну и улыбается. Улыбка у него отвратительная, как сахарин. Не пристало ему улыбаться. Палачи не смеют улыбаться. Это противоестественно.
Входит Арманда.
– Я поставила кофе. Может быть, посидим в гостиной?
Ага, значит, Кит ушел…
– С удовольствием, – говорит подполковник. – Благодарю вас.
Слава богу, парень начинает копаться в еще каких-то книжках, и Жанна должна остаться в лавке.
– Мы вас ждем, – немец одаривает ее еще одной улыбкой.
Под дребезжание колокольчика в лавку входит отец. Ну еще бы! То никого, то все сразу. Жанна отводит его в сторонку и, показывая глазами на гостиную, говорит:






