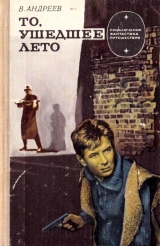
Текст книги "То, ушедшее лето (Роман)"
Автор книги: Виктор Андреев
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 20 страниц)
В тот день на взморье
Эрик взял у Димки ключ от дядькиной дачи, и они поехали на взморье. Почти всю дорогу молчали. Жанна думала: «Это ж надо!» Ничего особенного за этими словами не таилось. Просто Жанна должна была как-то реагировать на свой поступок. Хотя бы мысленно.
Сначала они пошли на пляж. Совершенно безлюдный. Купались. Но как-то недолго и лихорадочно. Быть может, оттого что ветер дул с юга, сгонял с поверхности теплый слой, и вода казалась почти ледяной.
Дачу искали долго. Петляли песчаными улицами. От зверского голода судорогой сводило желудок.
Наконец нашли. С оглядкой отперли дверь. Старой газетой осторожно стерли с кухонного стола бархатистый слой пыли. Съели все свои бутерброды. Посидели. Состояние было странное – как у человека, который не может заснуть оттого, что слишком долго не спал.
В комнатах пахло плесенью, простыни были сырые, одеяло тоже. Сквозь закрытые ставни едва просачивался свет, и Жанна, рукой нащупывая стул, складывала на него свои шмотки. Раздевалась так, как будто ныряла в омут. А забравшись под одеяло, твердила – вроде механической куклы – Эрик… Эрик… И с каким-то отчаянием гладила его по голому плечу.
У него были ласковые, пронизанные дрожью руки. Они прикасались к ней так осторожно, бережно, так целомудренно и чисто, что бесследно исчез всякий стыд и собственная обособленность.
Потом они провалились в бездну.
Когда она вернулась к жизни, их опять было двое. Но уже не прежних. Других. Эрик тяжело дышал. А Жанна стала как бы невесомой. Земное притяжение перестало действовать. Она коснулась губами его щеки, встала и на цыпочках пошла на кухню. Ей захотелось холодной колодезной воды.
Чудесно и просто она стала женщиной. А от ледяной воды ломило зубы – ощущение удивительное. Словно заново открываешь мир.
Из записок Реглера
…Юлиуса призвали досрочно… Нет, наверное, я неправильно выразился. Просто он уехал в учебно-тренировочный лагерь, после которого… В общем, письмо Лизбет на этот раз настолько сбивчивое, что я положительно ничего не понимаю.
Приписка от Марихен: фатти, дорогой! Ульрих ушел в море, и, конечно, от него никаких вестей. Оказывается – я ужасно люблю его и не могу найти себе места от беспокойства. Уверена, что лучше всех понимаешь меня ты. Жаль, что ты не можешь, как прежде, поцеловать на ночь свою глупую Марихен…
…Был у З-х. Мне показалось, что Иозеф встретил меня как-то растерянно. Мари дома не оказалось, она ушла на вечернюю мессу. У меня была с собой бутылка вина, и мы, не зажигая света, долго сидели в сумерках, медленно потягивая мозельское. Говорили очень мало. От вина слегка зашумело в голове, и наша обоюдная нервозность сменилась глубокой грустью. Очень не хотелось уходить, и я с трудом заставил себя встать…
Еще одна профессия Хуго
Майгу взяли в проходной, правда, без «товара». Подошли два типчика, сказали: давай-ка с нами!.. И отвезли в префектуру.
Там, в коридоре увидела Майга и вахтершу Ариню, которая беспрепятственно пропускала ее и Даце, обыскивая их только для виду. За изрядную мзду, конечно. Наверное, и не только их пропускала.
Ариня сидела на казенной, с высокой спинкой скамейке, зыркнула глазами, но тут же опустила голову, словно не узнала Майгу.
Напротив была дверь с матовым стеклом. Когда Майге велели сесть, дверь эта открылась и Ариню втолкнули туда, в комнату. Какое-то время слышались голоса. Вернее, один – мужской, спрашивающий. Потом – шебуршание, всхлипы. Чуть позже – хлесткие удары плеткой и крик, вопли…
Майга попросилась в туалет.
Хуго отпер дверь своим ключом и оказался в объятиях двух здоровенных парней. Ему так выкрутили руки, что он закричал. Тогда ему отвесили оглушающую пощечину и очень любезно предложили:
– Заткни пасть, хряк вонючий!
Судя по всему, Даце в квартире не было. Может, ее уже увели?
Хуго рассказывал подробно и торопливо. Иногда увязал в деталях, но, увидев нетерпеливое постукивание следовательского карандаша, быстро возвращался к основной линии. А линия заключалась в том, что Хуго всего лишь мелкий посредник. Девки воровали, он продавал «товар» художнику Лукстиню, тому, что рисует обнаженных женщин. Тот наживался, конечно, а Хуго… Хуго перепадали крохи. Ну вот, как будто и все.
– Так, так, – сказал следователь. – А теперь расскажи-ка про свои связи с коммунистами.
Словно что-то оборвалось внутри у Хуго, и голос стал не своим, хрипловатым:
– С коммунистами?
Еще торопливей, чем Хуго, Майга выложила все, напирая при этом на Даце. Та ее втянула, к себе зазывала, спаивала, теперь Майга и сама не понимает, как могла так нелепо увязнуть…
– Так вот, – сказал следователь. – Ты можешь заработать себе прощение. И вообще заработать. Но это будет зависеть от твоего усердия. Понял?
– Да, – сказал Хуго.
– Если понял, то слушай меня внимательно.
По дороге домой Хуго зашел к знакомому дворнику и купил у него бутылку водки.
Есть не хотелось, он только кофе сварил себе – крепчайшего. Отнес кофейник в гостиную, раскупорил бутылку, включил на полную громкость радио, плюхнулся в кресло и стал пить.
Радио орало так, что начали стучать соседи. Ага, сказал он, вам не по нраву?! Взял со столика терракотовую вазу и так запустил ею в стену, что там сразу и навсегда заткнулись.
Мать появилась на пороге неожиданно, однако он нисколько не удивился.
– Присаживайся, фру. Глотнешь?
Она всплеснула руками:
– Хуго!
Потом закрыла лицо и затряслась. От рыданий, наверно. Ему стало гадко до тошноты. Он почти закричал:
– Да уйди ты к дьяволу!
Но она продолжала трястись. И, озверев окончательно, Хуго встал, сделал несколько неверных шагов, схватил мать за плечи, повернул ее лицом к двери и наподдал коленом…
Грани бытия
Последние сумасшедшие дни не оставляли Донату времени на раздумья. Поздним вечером он только и мог, что сбросить с себя одежду, упасть на диван и, рванув подушку, навалить ее на голову. Мать говорила, что это у него с раннего детства: ужасно грозы боялся, услышит гром – и сразу подушку на голову… Быть может, и впрямь было так, быть может, иначе. Потому что в памяти сохранилась их комната, очень большая комната в деревенском бабушкином доме, но вся настолько заполненная шумом, что просто необходимо было навалить себе что-то на голову, если ты собирался заснуть. По субботам, по воскресеньям заявлялся сюда самый разноплеменный люд. Да нет, извиняйте, почему же разноплеменный?! Люд был вовсе одноплеменный, хотя и несколько разнородный. А вернее, разнохарактерный. Оттого и шумели, наверное. Темпераментом не сходились. Потом почти всех их пересажали. В тридцать четвертом. Когда Ульманис государственный переворот устроил.
Пароходик давно уже шлепал толстогубым винтом по коричнево-бурой воде и словно выплевывал из-под кормы разнообразнейший мусор. На тротуаре такой и не заметишь, но если он плавает – тут уж на него обязательно обратишь внимание. И начнешь следить за каждым окурком.
Пока медленно шлепали мимо порта, Донат сосчитал, что стояло там семь немецких транспортов, все словно в трупных пятнах, с волнистыми линиями – защитная окраска, мимикрия.
А слева все нарастало гудение. Непрерывное, натужное. Там был военный аэродром, Спилве. Через равные интервалы отрывались от земли транспортные юнкерсы; огромные, трехмоторные, они медленно проплывали над пароходиком, накрывая его своей крестообразной тенью.
Потом пристали к левому берегу; единственный сходивший здесь пассажир, не дожидаясь, когда пришвартуются, спрыгнул на причал, но пароходик все-таки пришвартовался, капитан вылез из своей, похожей на дачную уборную рубки и четверть часа толковал о чем-то со стариком, сидевшим на берегу.
Несколько раз Донат демонстративно смотрел на часы, и капитан это видел, но, наверное, плевать ему было на расписание и на этого последнего пассажира, потому что он продолжал разговаривать все так же лениво, бархатистым баском, и на Доната смотрел, как на пустое место.
Наконец двинулись дальше и вошли в Булдурупе или, как все ее называли, Бульупе – протоку, соединявшую две реки – Даугаву и Лиелупе; и тогда со стороны города взвыли сирены. Они еще выли, а со Спилве уже хлопали зенитки, и после каждого хлопка в небе появлялся клочок белоснежной ваты. Там, где разрывы были гуще всего, Донат различил серебристую точку, а потом и гудение расслышал, тонкое-тонкое и тоже как будто серебряное.
Это был одиночный самолет, скорее всего, разведчик, и шел он на очень большой высоте, так что совсем не просто было его подбить, хотя, по данным Доната, тяжелых зениток стало значительно больше, чем месяц или полтора назад. Данные эти были еще неполными, их стали собирать недавно, и Донат пока их не передавал. А сейчас он засомневался: может, все-таки следовало передать?.. Но за свое недолгое пребывание в Риге он узнал уже столько отрывочных сведений, что не так-то просто было в них разобраться, да и нуждались они в проверке и перепроверке так же, как и люди, их доставлявшие. Человек – существо обманчивое.
Об этом знал он умом, рассудком, а вот сердцем не верил. Не то, чтобы считал себя умеющим читать в душе человеческой, но на первое впечатление полагался почти стопроцентно. Правда, случалось задумываться: а если подвох? хитренькая игра? ловят на крючок?
Паскудно становилось от этих мыслей – не один ты загудишь в гестапо.
С другой стороны – прислали его сюда для дела, требовавшего, прежде всего, оперативности. Начни он дотошно каждого проверять – месяцы уйдут на это. А информация нужна сейчас, немедленно. В общем, круг заколдованный. Только жизнь вот не идет по кругу, все время обрывается. В самом неподходящем месте…
Мысли эти промелькнули у Доната неожиданно и мгновенно, пока, задрав голову, смотрел он на серебристую точку в небе, никак не увязывая ее с конкретностью – наш это, мол, самолет, наши люди в нем, подбить могут…
Напротив, даже подлая мысль промелькнула: как бы бомбой не шандарахнул… Правда, тут же и спохватился: так это же здорово, если шандарахнет! Только бы подальше отсюда. Шандарахнул бы и улетел.
И он улетел. Растаяла комариная звень мотора, одна за другой стали умолкать зенитки. А минут двадцать спустя пароходик причалил к конечному пункту.
Донат сначала похаживал, брезгливо принюхивался, не решался присесть, но северный склон огромной городской свалки давно уже густо порос травой, а на высоких стеблях убористо висели лиловые бубенчики люпина. И Донат наконец присел.
Сначала он был очень собран, внимательно разглядывал окрестности, потом вытащил свой четырнадцатизарядный браунинг, прикрывшись полой пиджака, взвел затвор и опустил предохранитель. Наконец, проверки ради, на две трети вытащил из ножен английский кинжал.
Кинжал этот в их снаряжение не входил. Был он, так сказать, частным подарком. От человека, побывавшего в Польше и – редкий случай – возвратившегося оттуда. Человек тоже был родом из Риги, и на этой почве кинжал поменял своего владельца.
Подарок, конечно, был редкостный. Вручая его Донату, бывший владелец предупредил: «Ты, брат, смотри! Это не финка. Одна царапина – и хана». «Кураре?» – с уважением спросил Донат. «Хрен его знает, кураре или мураре, но такой он отравой смазан, что кольни быка, сосчитай до пяти и можешь шкуру с него снимать».
Донат тогда, помнится, вздрогнул. И теперь, когда засовывал в ножны эту страшную штуку, чувство было такое, будто прятал на себе гадюку.
Но ощущение это скоро прошло, потому что все окрест было безлюдно, пустынно, ничто не предвещало опасности, и напряжение стало ослабевать, жизнь обернулась к Донату другими гранями, потому что вся она подобна драгоценному камню, вышедшему из мастерской искусного ювелира, – как такой камушек ни поверни, он обязательно вспыхнет, заискрится, вернет тебе упавший на него луч света.
И так же, как жизнь, многогранна память.
Вот, скажем, одна из граней: угол Гертрудинской и Ключевой. Там, за двумя стеклянными витринами – прилавок, полки, ящики с фаянсовыми табличками и латинскими надписями на них, пожилой провизор с вечно снующими руками, серебряный кассовый автомат, где в черном продолговатом окошечке пляшут белые цифры, и еще – вертушка за прилавком, а там стеклянные пузырьки в плоеных бумажных капорах, с жесткими шлейфами рецептов…
Валентуля, Люлюшка сходит по четырем ступенькам на тротуар из освещенной аптеки, и Донат ее сразу подхватывает под локоть, хотя Валентина терпеть не может ходить «под ручку», но сегодня размякла что ли, не отталкивает, идет почти смирная, только не в ногу, и от этого, наконец, раздражается, выдергивает руку: «Шел бы, как человек!..» Они доходят до фруктового магазина и застывают перед витриной, за которой громоздятся желто-оранжевые апельсины из Яффы и темно-оранжевые, с тонкой кожицей – из Мессины, и плотные, как теннисные мячики, словно кровью вымазанные, «корольки», и довоенная новинка – большеголовые грейпфруты, а рядом – глянцевитые, цвета темного янтаря, полупрозрачные финики, овальные черепа кокосовых орехов с жестковолосым индейским скальпом на макушке, а надо всем этим висят бананы, как желтые связки венецианских гондол.
Донат тянет ее в магазин, но Валюшка вдруг вспоминает: «Мы же селедку забыли купить!» Она хохочет и заставляет его вернуться обратно, в селедочную лавку, где сам Чумаченко, знающий наизусть вкусы своих постоянных клиентов, уже идет им навстречу, улыбается и не спрашивает, а почти утверждает: «Королевскую?!» И Валюшка говорит: «Конечно. Только с молоками, такие жирнее».
Другая, более близкая грань: все, как прежде, тот же дом, и подъезд, и дверь, приоткрывшаяся на цепочке. И то же лицо… В кухне, знакомой до мелочей, уже поздней ночью – Валентина, то смеющаяся, то всхлипывающая, в старом халатике, тоже настолько знакомом, что как-то даже приснилась ему именно такая, когда он еще был под Москвой и только готовился к переброске сюда… Валя, Валюшка, милая, теплая, домашняя, как котенок, и жить с тобою – это сам уют, сама беззаботность, тишина, воркование, хочешь – думай (о пустяках), хочешь – не думай вовсе, солнце встает на востоке, заходит на западе, почтальон приносит газету, молочница – молоко, ешь, пьешь, работаешь, ночью спишь. Так и было. Было, а вот же не верится. Время, что ли, сломалось? А если сломалось – когда? Да и почему сломалось? Чепуху ты несешь, Донат! От недосыпу, от напряжения, от усталости, от боязни… Ну да, от боязни. Ходишь по тонкому льду, того и гляди: затрещит, забелеет стеклянными трещинками, и все вы – в черную воду, в страшную смерть…
И еще одна грань. Не из прошлого, а сегодняшняя.
Ренька, племянница, помнившаяся ему голенастой девчонкой то в непомерно длинном, то в непомерно коротком платье, на которую он, если и обращал внимание, так единственно потому, что все-таки – братнина дочь, надо же хоть по голове погладить, – и Ренька теперешняя, настолько самостоятельная в свои семнадцать, что то и дело ошарашивает Доната. И дружки ее, не в том, не в прежнем смысле дружки, а… А, черт, и определения-то для них не подберешь! Они его в угол загнали. Не в переносном, а в самом буквальном значении слова. Откуда у вас, господин Брокан, рация? Кто вы на самом деле? И, главное, один – белобрысый такой балбес – стоит чуть поодаль и руку в карман пиджака запустил, дураку ясно, не понравится ему что-нибудь, пристрелит, как паршивую собаку. И Ренька туда же. Нам, говорит, нужна ясность.
И смех и грех!
Да нет, какой уж тут смех. Хотя потом они все-таки посмеялись… А Ольга плакала. Ведь эти огольцы, пока Донат отсутствовал, связали ее по рукам и ногам, рот заткнули платком, да и засунули девку в бельевой шкаф. Там она и пребывала до тех пор, пока все отношения не были выяснены.
Ну, с Ольгой понятно. Сначала испуг от неожиданного нападения, а потом жгучий стыд, что голыми руками ее взяли, да еще – со смеху помрешь – в шкаф засунули. И это ее, которая школу фронтовых разведчиков окончила, стреляет без промаху и может без акцента сказать по-немецки: Ich bin, sie bin.
Дурак ты, стыдно смеяться над Ольгой! Небось, мать ее сидит сейчас в какой-нибудь коммунальной московской квартире, прислушивается с замиранием сердца, не не звонят ли в дверь – вдруг почтальон… Ведь сколько времени уже прошло, а от Ольги ни единой весточки.
Вот так-то…
А теперь они загорелись новой идеей – вся эта их организация. Достали план города и наносят на него каждую огневую точку, которую немцы сооружают. Сооружают с такой основательностью, будто – уж что-что, – а Ригу собираются оборонять до скончания века.
К этой затее с планом у Доната двойственное отношение. С одной стороны, дело прямо-таки генеральное, а с другой – рация тут бессильна, надо сам план переправлять.
…Словно инстинкт какой-то срабатывает. Донат пружинисто вскакивает и мгновенно оборачивается. Человек появился сзади, с вершины холма, откуда Донат его никак не ждал. Но, слава богу, это именно тот человек, с которым ему надо встретиться.
А ведь поначалу казалось, что нет уже в городе ни одного из тех прежних его товарищей, на кого он мог положиться, как на каменную стену. Да и действительно, стольких поубивали, что жуть берет. И только спустя какое-то время, выяснилось, что есть такие, что, назло всему, убереглись. С их-то помощью и работает сейчас Донат. Без этих людей он, как разведчик, ничего бы не стоил.
Человек машет рукой, приближается. Он уже не молод, у него жена, две чудесные дочурки, свой домик в Задвинье, яблоневый сад. Казалось бы, живи себе да живи. Война, как будто, к концу идет, какой тут смысл рисковать? Без него, что ли, Гитлера не повесят? Между прочим, здесь многие именно так и рассуждают, и не какие-нибудь лизоблюды немецкие, вовсе нет. Возьмут наши Ригу, мужчин, естественно, в армию призовут, и будут они воевать – честно, по совести. Многие не вернутся… Так можно ли их осуждать, что сейчас они бездействуют?
– Здравствуй, Роланд! – говорит Донат.
– Здравствуй, Донат! – говорит мужчина.
Вниз с горы
Валя съездила хорошо – то есть, нашла без расспросов улицу, дом, квартиру. Семья как будто ждала ее – все собрались за широким кухонным столом, перед каждым – чашка, на фаянсовом блюде – ржаные сухари, на плите – посапывающий чайник.
Чай был морковный, прессованный, из продолговатой картонной коробочки. В таких до войны выпускали папиросы «Рига». На донышке чашки у каждого уже лежала таблетка сахарина.
Пока за столом были дети, взрослые не касались дела, говорили о вещах незначительных, обиходных. Когда же детям разрешили выйти из-за стола и отправиться в сад, Валя коротко изложила свое поручение.
Выслушали ее внимательно и оба – муж и жена – согласно кивнули. Договорились, когда, что и где. Потом предложили еще чашку чаю. Валя отказалась и благодаря этому благополучно успела на поезд.
В Ригу приехала еще засветло. И хотя устала до чертиков, домой не тянуло. Донат раньше часа ночи не явится, дома пусто, неуютно, да еще – Николкина кровать. Никак она не соберется вынести ее в сарай, стоит эта, ненужная теперь детская кроватка, и чувство от нее такое, как если бы кто-то съехал с квартиры, оставив какую-то вещь свою, пообещав придти за нею, но сгинул бог весть куда, не приходит…
Валя прямо с вокзала пошла в сторону Даугавы и теперь медленно-медленно идет по набережной, отсюда весь рижский закат как на ладони, а все истинные рижане влюблены в свой закат, потому что и вправду нет в этом городе ничего чудесней, печальней, нет ничего, что бы сравнилось с ним по великой силе впечатлений и еще по чему-то необъяснимому. Зов это, что ли? Да, наверное, именно перед ним не могли устоять жители северных побережий. Они снаряжали свои корабли и бросались догонять огромное и манящее солнце, неторопливо уходившее за горизонт.
Но Валя, при чем здесь Валя? Она же не женщина из дымной хижины на берегу фиорда, не какая-нибудь Ингрид Медноволосая.
Валя – тридцатилетняя женщина (впрочем, тридцать исполнится ей только через месяц), она окончила гимназию, внезапно похоронила родителей и пошла работать швеей. Был у нее и муж, Валентин, парень веселый, но неприкаянный, пошел он весною работать сплавщиком и, может, выпил больше обычного, может, просто поскользнулся на осклизлых камнях, но только закрутило его течением, а тут бревно, со страшной силой, в голову…
Донат? Ну да, Донат… Пришел, увидел, победил. Чем победил? Нахрапистостью? Волей, помноженной на желание? Или потому, что Валя была тогда как те, заштатные крепостцы, что открывают ворота каждому осаждающему: обороняться – никто не оценит, сдашься – никто не заметит…
Так вот они и нашли друг друга. Почему бы и нет? Если бы люди не находили друг друга, род их давно бы вымер.
Валя идет по набережной. Закат уже догорает. Увядает. Расплывается акварелью на мокрой бумаге. Зеленое переходит в синее, пурпур – в серое, красное – лиловеет, только облака все еще резко означаются обожженными краями…
Ренька и Димка тоже идут по набережной. Могли бы сесть на трамвай, ведь устали за день, но что-то не хочется им домой. И говорить ни о чем не хочется, за день наговорились до онемения языков.
Ренька первой замечает Валю. Чего это она здесь шатается? А может, это вовсе и не она? Нет, точно – Валька!
– Валентина гуляет.
– Где? – рыщет глазами Димка.
– Да вон, впереди.
Димка вглядывается, узнает.
– Чего это ей вздумалось променады крутить?
– Догоним?
– Давай!
Догоняют. Ренька заходит вперед, загораживает дорогу.
– Здрасьте.
Валя вздрагивает.
– Ты откуда взялась? – Она замечает Димку. – И ты здесь?
– Собственной персоной нон гратой.
– Прошвыриваетесь?
– Мы в Кулдигу ездили, – обиженно говорит Ренька.
– Ну и как?
Ну что на это ответишь? То есть, ответить, конечно, можно, но это же целый рассказ, а у Реньки сейчас настроение сугубо не повествовательное.
– Завтра наговоримся. А сейчас домой пора, ноги отваливаются.
– Да, – говорит Валя, – пожалуй, и я поверну восвояси.
И тут она вспоминает о самом главном.
– Послушайте, путешественники! А новость вы знаете?
– Смотря какую, – осторожничает Димка, потому что все настоящие новости должны исходить от него.
– Англичане и американцы высадились во Франции.
Ренька, Димка, Ольга, Донат – все сидят возле радиоприемника. Все станции, которые можно поймать, говорят о втором фронте, на всех языках склоняется слово «инвазия» – вторжение. Даже из немецких передач понятно, что это не дьепповская заварушка, когда высадили тысчонку «томми» и обрекли их на убой. Вот теперь посмотрим, каков он, этот Атлантический вал. Впрочем, и смотреть уже нечего. Ясно, что прорван их вал ко всем чертям.
Димка держится насмешливо, но уж Ренька-то чувствует, как ликует в нем каждая жилка. Донат сосредоточен, но и у него глаза блестят. Олька забилась в уголок, зрачки расширились, и странное что-то в глазах, то ли неуверенность и боязнь какая-то, то ли надежда. А может, все сразу.
Ренька, в силу своего непознаваемого характера, сначала всхлипнула:
– Слава богу, очухались наконец-то, черти полосатые! – Но тут же добавила пророческим тоном: – Поживем – увидим.
Спустя полчаса она почувствовала, что веки у нее словно гуммиарабиком смазаны и, если слипнутся, то их уже не разлепишь, а посему и потребовала освободить помещение. И остальные трое вынуждены были убраться в кухню.
Ренька мгновенно разделась и бухнулась в постель. Но вместо сна охватило ее какое-то оцепенение и полузабытье. И все время покачивало, как на волнах. Это от автобуса, понимала Ренька, но перед глазами ничего не мелькало, как во время езды, а, напротив, появлялись совершенно незыблемые картины. Картины эти менялись, и в одной она узнала город Кулдигу, улочки его, узкие и горбатые, в общем, типичнейшая провинция, как представлялась она столичной жительнице Реньке. Все улочки вели почему-то к одноэтажному домику над рекой, про которую Ренька выразилась: «Вента? Вот уж смех! А мы ее в школе учили».
Далее был сам домик. Вроде бы в саду. Не помнится. То есть, как не помнится?! Ведь в саду же сидела эта старушка. Тетя Амалия. Раз пять они проходили мимо, смотрели на номер дома – он неизменно оставался все тем же – и не решались ее окликнуть.
На шестой раз Ренька не выдержала. Остановилась возле калитки. Тетя Амалия оказалась не такой уж древней, только седая очень и глаза огромные, немигающие. Уже потом они узнали, что три дня назад она внезапно ослепла.
Странная женщина. Другая бы только и говорила о своей потере, а эта – все почему-то о них.
Димка так долго молчал, что она, наконец, спросила:
– А ты-то чего? Словно язык проглотил.
Димка гортанно хмыкнул и попытался выдавить фразу, но Ренька, поняв, что он ее так и не выдавит, затарахтела о чем-то косвенном – будто бы о Тужурке, будто бы и нет.
Самое стыдное было потом.
Тетя Амалия поднялась и пошла к дому. В походке ее и во всем остальном была странная смесь уверенности и неуверенности – как у человеческой тени, внезапно превратившейся в самого человека. Тень не боится препятствий, углов, а человек только и думает, как бы их обойти.
Когда она вошла в дом, они без уговора, разом поднялись со скамейки и бесшумно смылись. Уже издали увидели, как она появилась на крыльце с какой-то корзинкой, и услышали оклик:
– Дети, где вы?
Но они неслись вниз с горы, готовые навсегда лишиться зрения, слуха и прочих чувств человеческих. Потому что слишком уж много этих чувств. Слишком много…






