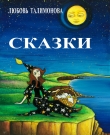Текст книги "Перед тобой земля"
Автор книги: Вера Лукницкая
Жанр:
Искусство и Дизайн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 25 страниц)
Что скрежетала в падучей вода,
Что кости из тела ломились на ветер,
Который людей через месяцы встретит...
В 1934 году в составе продолжавшихся экспедиций Лукницкий совершил новое путешествие с Горбуновым и Щербаковым, на этот раз по северным районам республики (Искандеркуль, Сох, Исфара, Карамазарский район), а перед тем был консультантом при съемках "Ленфильмом" на Зеравшане, Фандарье и в районе Искандеркуля кинокартины "Лунный камень".
Экспедиции на Памир сыграли огромную, решающую роль в зарождении и развитии всей науки в Таджикистане.
До 1930 года в республике не было научных учреждений, кроме Тропического института. Экспедиция положила начало воспитанию кадров научных работников местных национальностей и заложила основы научных учреждений в Таджикистане. Наука в "седьмой союзной" стала быстро развиваться. В 1932 году силами ТПЭ в Душанбе была создана база Академии наук СССР; восемь академиков участвовали в ее открытии. В 1941 году уже был создан ТФАН Таджикский филиал Академии наук СССР. ТФАН, который возглавлял академик Е. П. Павловский, был преобразован в Академию наук в 1954 году. Президентом академии стал классик таджикской литературы Садриддин Айни. К этому времени в республике существовали десятки научных учреждений, институтов, научная жизнь кипела, энергично работали сотни научных работников-таджиков и десятки крупных ученых, которые были избраны академиками и членами-корреспондентами Академии наук Таджикской ССР. Сейчас почти все научные учреждения Таджикской ССР возглавляют ученые таджикской национальности.
На "точках" месторождений, которые были открыты сотрудниками ТКЭ, выросли комбинаты, заводы, фабрики, города. Поднялись и ГЭС, самая крупная гидроэлектростанция семидесятых годов в Средней Азии – Нурекская, в восьмидесятых – Рогунская.
В 1933 году, когда Павел Николаевич шел по горам, обрамлявшим долину Явана, он узнал, что там намечается проект орошения долины Вахша. К этому времени относятся записи в его дневнике:
"Не понимаю, как можно пронзить их туннелем... Туннель через толщу поднятых на полтора километра над долиной горных хребтов представляется мне немыслимым..."
"Вокруг земля от любого зноя в камень спекается, от жажды, как перезрелая тыква, лопается, люди кровавым потом поливают жалкие посевы, А он бежит, как верблюд, боится хоть каплю воды уронить, скалами от людей отгородился..."
"...Узкое ущелье, сдавливающее ярящуюся, дикую, недоступную в глубине пропасти реку. Надо во что бы то ни стало переправиться через нее с конем. И есть только один мостик, тоненький, ветхий и качающийся так, что кажется, он состоит из двух спичек, положенных поперек ядовитой змеи. Скалы обступают его, похожие на мертвый фантастический город. Там, где скалы чуть отступили, на узкой полоске берега, – несколько жалких глиняных лачуг. Это кишлак Норак, что в переводе значит – огонек".
Переправившись по этим двум "спичкам", Павел Николаевич уже в который раз, как и Ферсман, произнесет: "Ведь здесь когда-нибудь будет живой, настоящий город!"
В 1967 году Павел Николаевич приехал на строительство самой высокой плотины в мире. Гидростанция в 2,7 млн киловатт. Водохранилище в 10,5 млрд куб.метров. Оно оросило более млн гектаров земли. Приехал в сказочно красивый город Нурек, поселился в упрятанной в листве тополей гостинице, ходил по пронизавшим монолитные скалы туннелям, плавал на катерах по Нурекскому морю.
Приехав еще раз туда в 1972 году, он опубликовал в газете "Правда" очерк "Сотворение мира" о людях сорока семи национальностей, работавших тогда на стройке, об их жизни, энергии, дружбе – словом, о сотворении ими нового мира. Опубликовал его ровно через сорок лет после появления в той же "Правде" "своего "Памира".
В 1952 году, уже известный далеко за пределами СССР своей "таджикско-памирской темой", писатель повторил многие свои маршруты тридцатых годов по западному, юго-западному и южному Памиру. Там, где в оврингах срывались и погибали лошади, люди теперь ездили в комфортабельных автомобилях.
Нашел он в горах своих старых друзей. Был почетным гостем у плотника Марода-Али Сафаева – героя его повестей "Дивана" и "Безумец Марод-Али". Состоялось много интересных встреч. Был Лукницкий и на Бартанге, был в Ишкашиме, Горане, Вахане, был на реке, верховья которой когда-то в самом начале исследований наносил на карту. Купался в синих озерах, образованных горячими источниками той самой Гармчашмы. Теперь, кстати, там создан прекрасный санаторий с целебными, чудодейственными водами.
Пробирался он и по каналам, проложенным в скалах над Хорогом, Калй-Вамаром, обеспечивающим воду высокогорным кишлакам.
В том же году объездил горы Кухистана, посетил Искандеркуль, Зеравшан и Фандарью, где некогда пробирался на ишаках. Теперь вдоль реки вьется асфальтированное шоссе, по которому идут автомашины в четыре ряда.
ИЗ ПИСЬМА к В. К. ЛУКНИЦКОЙ
1952 г,Хорог
Тебе даже трудно понять, как может человек так увлечься какой-нибудь одной областью, что относится к ней не как к географическому понятию, а как – ну что ли – к родному существу!
Памир для меня – моя молодость, мой творческий путь, мое собственное лицо. Здесь, в труднейших в ту пору странствиях, учился я мужеству, выдержке, воле, всему, что так помогало мне жить впоследствии. Перед этой поездкой сюда я много думал: как я буду воспринимать Памир теперь, через 20 лет, когда сам я уже пожилой человек, когда отношусь ко всему без романтической восторженности, трезво, спокойно, перевидав за свою жизнь множество городов, стран, переполнивших меня массою впечатлений, насытившись, кажется, всяческими странствиями? Как? Может быть, теперь и эта страна, страна моей "Земли молодости", моей "Ниссо" покажется мне скучной и неинтересной?..
И вот я счастлив, что вся прелесть прежних впечатлений вновь нахлынула, вновь пленяет меня! Как мальчик, радуюсь я всему, что вижу вокруг...
Много было лишений, трудностей и даже опасностей, не говоря уже о том, что для моего возраста и сердца памирские высоты были очень трудны моментами... А ведь мне пришлось ездить самыми отчаянными способами: и на разбитых грузовиках по дорогам, на которых кузов машины нависает над полукилометровыми пропастями, а повороты закрыты скалистыми отвесами, и разъехаться невозможно, и дороги эти загромождены камнями, или сносятся осыпями и обвалами, или бомбардируются камнепадами... Малейшая неточность в управлении, лопнувшая на ходу шина, вылетевшая из-за поворота встречная машина, зацепившийся за скалу борт, слабый тормоз, не вовремя переключенная передача – катастрофа неизбежна!.. Есть участки, где нужно обладать очень крепкими нервами, чтоб не соскочить с машины (если есть, куда соскакивать) и не пойти пешком. И все-таки сотни машин – идут, идут, потому что в те короткие полтора-два месяца, что дороги эти открыты нужно обеспечить весь Памир продовольствием, товарами, топливом, фуражом... Но я всегда был доволен своей судьбой, жаден ко всему, что видел, что узнавал, опьянен впечатлениями, и мне всегда не хватало времени, чтоб все подметить, все записать. Лазил много и пешком...
Я счастлив, что побывал на Памире, что, как с добрым другом, распрощался по-хорошему с ним, ибо, конечно, это мое последнее путешествие на Памир, я это знал, отправляясь туда, это и теперь знаю, больше побывать мне на нем никогда не придется, потому что никто не вставит в мою грудь новое сердце. Но я спокоен – я выполнил свой долг перед Памиром, как выполняют его перед дедом, которого не увидишь больше никогда, попрощавшись с ним...
Пожалуй, однако, дед не Памир, а я – потому что Памир молод, молоды его люди, это самое главное; самое ценное, что переменилось в нем за 20 лет моей разлуки с Памиром, – люди стали иными, совсем иными, они переросли свои горы, им тесно в этих горах, они учатся так, как, пожалуй, нигде больше люди не учатся – с такой жадностью. Потому что только в этом – их выход из диких гор, которых не раздвинешь плечом, которых не одолеть человеку, каких бы дорог ни настроил он в них.
Здесь, на Памире, люди закалены и духом и телом, здесь никто не считается с трудностями, а иногда и опасностями, никто не жалуется на отдаленность, на географическую труднодоступность этих мест. Конечно, теперь жизнь здесь не та, что была в те годы, когда не было ни автомобильных дорог, ни радио, ни электричества, ни газет, ни хорошего питания... В Хороге теперь растет отличная картошка, здесь есть огурцы, помидоры; в библиотеках есть книги, журналы – Хорог живет полной жизнью, такой же, как любой советский город. Но ведь горы-то здесь все те же! Климат тот же, высота – та же! И однако этими горами советский человек уже владеет вполне, не горы хозяева здесь теперь, а человек, и это чувствуется во всем...
И материал, собранный мною для книги, – богат и прекрасен, и мне трудно будет, но очень нужно будет достойно обо всем написать. И я это буду делать...
Я уверен, что книга моя о Памире, которую буду писать, – получится, и, значит, путешествие мое сюда оправдано не только в силу личного стремления моего, но и потому, что я дал много полезного моим читателям.
После путешествия 1952 года Павел Лукницкий написал большую книгу "Путешествия по Памиру". В ней он сравнивал Памир тридцатых годов с Памиром, вновь увиденным в пятидесятые годы. Жаль, что Николай Петрович Горбунов не прочел эту книгу...
Мне казалось, что я знала Памир. Кроме прочитанных дневников и книг, помимо тысяч фотографий меня всегда окружали в доме изделия памирских мастеров прикладного искусства. Памира не видела, но любила его, как любят родного, далеко живущего человека...
И вот встреча с "живым" Памиром, в 1976 году. Я сравнивала свои сегодняшние впечатления с впечатлениями Павла Николаевича пятидесятых годов.
ИЗ ПИСЬМА К В. К. ЛУКНИЦКОЙ
1952 г, Хорог
Изумительным по красоте был перелет сюда через цепи снеговых гор, освещенных солнцем. Словно застывший в разгар шторма океан, вздымались вокруг недвижные пики, снежные цирки, впадины ледниковых каров, иззубренные хребты с провалами глубочайших ущелий и узких долин, по которым вились реки, видимые мною от истоков до устья. Грозные, острые, никогда еще не посещенные ни человеком, ни зверем пики толпились вокруг, насколько хватал глаз, а видимость была в каждую сторону на 100 – 150 километров, и ряд за рядом вставали вдали снеговые цепи с высочайшими вершинами – белыми, призрачными, и этот рельеф неописуем, потому что невозможно передать словами его красоту. Многие пики и все хребты я узнавал, – знал их названия, знал строение этих хитросплетенных бесконечных массивов.
Местами крыло самолета проходило в полусотне метров от отвесных скалистых зубцов, самолет прижимался к ним вплотную.
В самолете был кислородный прибор, но он мне оказался совершенно не нужным, я чувствовал себя отлично, и воздуха мне хватало, и я испытывал душевный подъем и радость от всего, что вижу. Мы великолепно прошли весь путь, я все узнавал внизу: и Ванч, и Бартанг, и Пяндж, и даже отдельные кишлаки. И когда мы опускались в Хороге, мне показалось, что не 20 лет, а всего несколько дней назад я видел его, – повеяло чем-то родным, бесконечно знакомым. Все было, как прежде. И все-таки все было иным... Жизнь внесла столько нового, что я жадно ловил его взглядом, и мне все интересно вокруг, все хочется рассмотреть, узнать, сравнить с прежним...
Это было похоже на то, что ощутила и я в 1976 году. Только в какой-то момент смалодушничала немножко, хотя этого и не было видно...Лечу на современном самолете из Душанбе в Хорог – над вершинами Каратегина, Калай-Хумба, над ущельями Бартанга, Ванча, Пянджа. Спрессованное время, спрессованное расстояние: сорок минут – и я на Памире.
Самолет небольшой, он полностью загружен картинами современных таджикских художников, посвященными воинам Советской Армии, стендами передвижной вы ставки из республиканского краеведческого музея...
Ничто не изменилось на воздушной трассе, все, как описывал Павел Николаевич, но мне показалось, что крыло самолета, летящего на высоте пять тысяч метров, гораздо ближе к каменной отвесной скале, чем полусотня метров, как в его письме. Все время так и хотелось взять палку, просунуть в иллюминатор и оттолкнуться от скалы. Да и бортмеханик говорит, что до нее метров двадцать – тридцать... но, может быть, он преуменьшил для большего эффекта! Острые гребни, бесснежные пики, отвесные стены стоят выше нас. И вот оно, самое опасное место – "Рушанское окно", выемка в узком ущелье между скалами. Самолет пролетает над выемкой в нескольких метрах... И закрутились мыслишки. Одна такая: "Ну, разобьемся, ну и что?.. Если разобьемся, значит судьба. Такое испытание прекрасно. Я вижу и ощущаю то, что недоступно многим. Я богаче познанным". Другая мысль – а чем, собственно, я богаче и богаче кого? Тех памирцев, таджиков, русских, что летают, обращая на такой перелет внимания ровно столько, сколько на утренний туалет. Они не задумываются и потому даже не знают, что они рискуют. Они просто заняты каждый своим будничным делом, летят домой, из дома... Для них проблема дождаться рейса, который возможен исключительно в том случае, если ни одного облачка, даже крошечного, невинного, не приближается к "Рушанскому окну". А я ловлю себя, глядя на пассажиров, еще на одной невысокой мысли: "Какая же ты все-таки "великодушно доверчивая", доверила свою жизнь – и кому? Летчику! Виртуозу! Ведь он, летчик, конечно, необыкновенный, лучший летчик из всех, что летают на этой трассе. Разве обыкновенный взялся бы?.." Все во мне сконцентрировано на моей собственной персоне. И машина надежная, даже если зацепится за скалу... А кислородный прибор и мне не нужен...Вон мальчик, лет шести, он непослушный, даже бегает по салону, зацепил старушку, а той хоть бы что – продолжает похрапывать. А вообще, что такое сорок минут? А Гагарин? А Павел Николаевич? А все живущие на Памире, когда ущелье в тумане облаков, а перевалы перекрыты снежными заносами и каменными дождями? И ползет тепло стыда, проявляющегося улыбкой. Ведь пока все эти глупости потешались надо мной, ущелье осталось позади.
После Бартанга начинаем спуск, перед нами долина, нас встречает яркий, сочный город. Не видны километры над уровнем моря. Даже наоборот: вокруг горы, а ты вроде совсем где-то внизу. Празднично и торжественно, и скорее не от облика города, а от сознания, что прилет самолета в Хорог все же, конечно, событие, даже если погода неделю подряд хороша.
Современные трехэтажные дома, новый мост через бурлящую реку Гунт, цветущие сады по левую сторону Гунта, тополиные аллеи, автобусы, такси, грузовые и легковые автомобили, группы девушек в пестрых крепдешиновых платьях у остановок на центральной улице, киоски со свежими газетами, сувенирами, мороженым, бетонно-пластико-стеклянные здания, новенькие телевизионные антенны на домах... Город как город. Разместился только он в узком ущелье... Павел Николаевич так советует представить Хорог: "Пусть любой житель российской равнины, украинских или казахских степей взглянет на белое кучевое облако, плывущее в небесах над его головой. И от окраинного дома своего села мысленно воздвигнет до этого облака наклонную сухую каменистую стену. И обведет ею все село, оставив только с двух сторон узкие проходы в этой стене. И вообразит, что в один из проходов врывается большая бурная река, а в другой, пройдя сквозь селение, глубоко врезавшись в берега, уходит..."
Памир семидесятых также отличается от Памира пятидесятых, как тот от Памира, впервые увиденного Лукницким. Если в первые два десятилетия после революции Памир поднимался к современному уровню жизни, то с пятидесятых годов Горно-Бадахшанская автономная область живет и трудится в ритме всей страны.
Задачей Лукницкого было поведать обо всем этом людям мира.
О Памире, о "взаимоотношениях" с ним Лукницкого можно рассказывать много, но лучше обратиться к его книгам.
Как мы теперь среди гранитов
Вот она, связь времен и поколений... Прошлое и настоящее.
Академик и стратег, дипломат и политик Н. П. Горбунов мечтал назвать какую-нибудь открываемую точку на Памире именем Павла Лукницкого. Мечта его сбылась. Он был бы рад узнать, что совсем недалеко от пика Маяковского высится теперь открытый советскими альпинистами и нанесенный на карты пик Лукницкого.
Слева – нависшая скала, справа – пропасть, а там внизу – бурная Шахдара. Продолжается дорога, вырубленная в камне, – памятник человеческому трудолюбию и упорству. Наконец ущелье расширяется. Директор крупнейшей на Памире школы-интерната имени Павла Лукницкого показывает на противоположный берег и говорит, что месторождение синего камня – ляджуара – находится именно на той горе и сейчас там как раз ведутся разработки. Дальше ущелье сужается снова, вмещая только реку и дорогу, и председатель сельсовета рассказывает, что Рошткала – "Красная крепость" – называется так из-за той лазуритовой древней кровавой легенды...
Подъезжаем к месту, откуда виден пик.
"ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА"(19.05.1976)
"ПИК ПАВЛА ЛУКНИЦКОГО"
В редакцию "ЛГ" пришло сообщение о том, что один из недавно открытых и покоренных нашими альпинистами памирских пиков назван в честь советского писателя, исследователя этой горной области П. Лукницкого. На вопросы корреспондента "ЛГ" отвечает сегодня руководитель группы восхождения В. П. Некрасов.
– Почему вы выбрали для своих восхождений именно Памир?
– Дорогу на Памир указали книги Павла Лукницкого "У подножия смерти", "Всадники и пешеходы", "Путешествия по Памиру", "За синим камнем", "Ниссо" и многие другие.
– Как был открыт пик, ныне носящий имя писателя?
– Полтора года назад наша группа изучала пик Карла Маркса. Мы продвинулись через ущелье Шабой вниз по реке Шахдаре, и вдруг в одном из узких каньонов блеснула белая стена. На обратном пути мы прошли через каньон. Огромная белая стена уходила, казалось, в небо. На картах она не значилась. Мы поняли, что это неизвестный пик, и решили вернуться сюда через год, чтобы совершить восхождение в честь Павла Лукницкого. Всесоюзная федерация альпинизма одобрила наше решение. В августе прошлого года вершина была покорена. На высоте 5800 метров над уровнем моря мы сложили тур из камней и опустили в него капсулу с запиской: "Пик П. Н. Лукницкого", поставили дату... Так пик писателя начал свою жизнь...
"ВЕЧЕРНЯЯ ОДЕССА"(5.12.1977)
К "БРОНЗОВОЙ ВЕРШИНЕ"
1977 год, год 50-летия альпинизма на Украине, принес успех представителям одесского "Авангарда": Вадим Свириденко, Евгений Кондаков, Александр Власенко и Алексей Ставницер удостоены бронзовых медалей чемпионата СССР. В смешанной команде с четырьмя московскими спартаковцами, возглавляемой опытным мастером спорта международного класса Владимиром Кавуненко, они впервые достигли пика Лукницкого (5800 м) в горах Юго-Западного Памира по северной стороне.
Мне остается добавить, что одесситы, как и полагается по правилам, взойдя на пик, достали из тура капсулу, вытащили из нее некрасовскую записку, вложили свою, поместили капсулу в тур. А первую они привезли в штаб Всесоюзной федерации альпинизма, откуда она попала в домашний архив. Это все мне рассказали в федерации, когда торжественно вручали необычный редкий подарок вместе с дипломом Лукницкого– первооткрывателя лазурита.
На первой страничке:
За нашу Советскую Родину!
Изображение
пятиконечной
звезды
Сбор
альпинистов
Вооруженных Сил
СССР
Светлой памяти П. Н. Лукницкого посвящаем
наше первовосхождение 1975 г.
На второй страничке:
30 августа 15 ч. 45 мин. Группа сборов альпинистов Вооруженных Сил СССР в составе:
1. Некрасов В. П.
2. Матюшин Л. М.
3. Старлычанов В. Д.
4. Федоров О. К.
5. Власов Б. А.
совершила восхождение впервые на вершину пик Лукницкого.
3-я и 4-я странички заполнены маршрутом, временем, категорией трудности, метеоусловиями, замечаниями и подписью руководителя В. Некрасова.
На картах нашей Родины нет больше "белых пятен". Но бывает еще иногда, хотя и очень редко, – находится безымянная вершина. А эта, как выяснилось, была даже не безымянной.
В ущелье, на высоте 4,5 тысячи метров, прилепился к горе кишлачок из нескольких кибиток. Горец Яхшибек Ниезов, председатель Сеждского Совета, встретил нас и повел на возвышение, так как вершина закрыта скалами. Нелегок подъем на "смотровую площадку". Но чем выше поднимаемся, тем шире раскрывается панорама. Ущелье как бы сдвигается в сторону. Яхшибек поднимается первым. Старый человек сдерживает привычный шаг горца, поджидает, помогает.
– Вот он, Чибуд. Смотри!
По-прежнему на переднем плане бурые резные стены узкого ущелья. За ними темнеющие пики гор в дымке расстояния. Еще чуть выше – и вдали, над ними, белая искрящаяся стена в форме усеченного конуса, врезавшегося в небо, со сверкающей снежной шапкой!
– Чибуд...
– Как вы сказали, Яхшибек?
– Я сказал – Чибуд. Так раньше называли эту белую гору. "Чибуд" – по шугнански "голубь", это значит – чистый...Не самая высокая гора на Памире пять тысяч восемьсот. Но все же... не у каждого есть свой земной пик. Да и название, можно считать, не изменилось. Павел, я знал его, сам был как голубь – чистый человек.
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ (14. 03.1953, Москва)
...К познанию и более широкому охвату моей темы я шел всем многообразием путей – был географом и геологом, пограничником и историком, караванщиком и этнографом, администратором и хозяйственником. В этом, требовавшем личного трудового участия, процессе овладения большой темой я и сам развивался как писатель.
...Я рад, что на картах Таджикистана есть маленький уголок, который скупыми штрихами напоминает мне о днях, полных азарта и уверенности в своих силах. Мне хотелось бы, чтобы молодые альпинисты почаще заглядывали в этот уголок, в котором есть еще много вершин и ледников, до сих пор не получивших названия. Грозные, величественные горы так красивы, что любой человек, пришедший в эти столь редко посещаемые места, будет щедро вознагражден самими картинами природы за те трудности, какие ему придется испытать при восхождении на гребни водораздельных хребтов и ледяных вершин".
Нет, никогда не оторвусь я
От той тропы
Те каменные захолустья
Не знаешь ты.
Как горы нам врагами были
И как хребты
Мы тем горам переломили
Не знаешь ты.
Как мы теперь среди гранитов
Растим цветы,
Как выше льдов мы сеем жито,
Не знаешь ты.
И, не увидев там на деле
Мои мечты,
Как самого меня доселе
Не знаешь ты!..
Жесткая честная дружба с
пространством земли
Ненасытный в познании мира, Павел Николаевич, он опять в поисках новых дорог, новых трудностей, новых стремлений.
Председателю правительственной
комиссии по спасению челюскинцев
тов. Куйбышеву
14.03. 1934
Уважаемый тов. Куйбышев!
Считая, что каждая страница героической эпопеи экспедиции "Челюскина" и спасения челюскинцев должна стать известной широчайшим массам Советского Союза, я, по совету Р. Л. Самойловича, обращаюсь к Вам с предложением включить меня в число участников похода "Красина", который выходит из Ленинграда в ближайшее время.
Я – ленинградский писатель с десятилетним стажем работы. Участвовал в трех экспедициях на Памир (1930, 1931, 1932 гг.). В 1932 году был ученым секретарем Таджикско-Памирской экспедиции Академии наук (возглавлявшейся тов. Н. П. Горбуновым). Участвовал в полярной экспедиции ак. А. Е. Ферсмана в Мончетундру. До этого – в годы 1926 – 1929 – совершил ряд многомесячных плаваний на каботажных судах в Черном и Каспийском морях. В те же годы совершил ряд туристических походов по Кавказу, Туркмении и др. Вообще привычен к экспедиционным условиям жизни.
Эти путешествия отражены в моих книгах: роман "Мойра" – на морском материале, две книги стихотворений, книга очерков о туркменских моряках, повесть "У подножия смерти" – о моем пребывании в басмаческом плену в 1930 г. и о работе наших погранчастей по ликвидации банд (книга переведена на украинский язык), книга рассказов, стихотворений и очерков "Всадники и пешеходы" – о социалистической перестройке Памира и героической работе пограничников. Критика мои произведения оценивает весьма благоприятно.
Пишу роман о научно-исследовательской работе в Ср. Азии. Активно участвую в общественной жизни, работе ленингр. оргкомитета писателей и оборонной комиссии.
Холост. Мне – 31 год. Я – здоров.
Постоянно сотрудничаю во всех ленинградских лит. худ. журналах и в некоторых московских.
Мне кажется, своим участием в походе "Красина" я мог бы принести практическую пользу делу закрепления в истории героических эпизодов спасения челюскинцев.
Президиум и комфракция ленинградского оргкомитета, всемерно одобряя мое желание участвовать в походе "Красина", могут дать обо мне необходимые рекомендации, если в них будет нужда.
Конечно, материально я никак не заинтересован. Мне важно только пропитание на время похода. На "Красине", безусловно, согласен выполнять любую работу, какая была бы мне поручена.
Имею хороший фотоаппарат (полископ Цейсса, светос. 4,5), а потому при условии снабжения меня фотопластинками (6х10,7), которых в обычной продаже нет, мог бы обеспечить также серию стереоскопических снимков...
С "Челюскиным" – не вышло. Снаряжалась очередная экспедиция в Таджикистан, и отказаться от нее значило бы предать дело, людей и себя. И он снова в походах по окраинным местам нашей Родины. Весь 1934 год – по Таджикистану, с экспедицией.
...После путешествия по Казахстану в 1935 году Лукницкий, собрав обширный материал, сел за роман о... Таджикистане. И так будет происходить с ним не раз. Никогда не мог он отступиться от большой таджикской темы. Только война перебила ее... Он написал роман "Земля молодости" и в 1937 году отправился в Заполярье плавать по Северным морям. И это отдельная тема. Весь 1938 год – снова Таджикистан. Там узнал, что соратник его по памирским путешествиям Г. Л. Юдин возглавляет экспедицию в Восточную Сибирь и занят организацией ее и подбором кадров для будущего лета. И Лукницкий, вернувшись из Средней Азии, решил двинуться в Сибирь...
ФОТОТЕЛЕГРАММА ЮДИНУ(16.05.1939)
А что, если б, дорогой Георгий Лазаревич, Ваш бывший коллектор Павел Лукницкий спросил Вас: не хотите ли Вы взять его с собой в Бодайбо или в любое хорошее место на должность, скажем, хотя бы "обвевателя комаров" или "чинильщика карандашей"? Писательский уют оставил бы в Ленинграде, а сам, вооруженный "лейкой" и вечным пером, с удовольствием превратился бы в Ливингстона. Если это действительно возможно, телеграфьте сначала принципиальное "да", а все остальное – в письмах – потом. Привет Над. Серг. Крепко жму руку. Ваш П. Лукницкий.
ТЕЛЕГРАММА : ЮДИН – ЛУКНИЦКОМУ (19.05.1939)
Приглашаем старшим коллектором оклад 350 рублей выезд конце мая необходима организационная помощь. Юдин.
КАТКОВА1 – ЛУКНИЦКОМУ (весна 1939)
Устройство Вас в нашу партию и изобретение вакансии – дело моих рук. Мне даже пришлось преодолеть некоторое сопротивление Г. Л., который вообразил, что Вы теперь настолько зазнались, что думаете о каких-то особых условиях и не сможете удовлетвориться обычной скромной партией, тем более в места, не нашумевшие экзотической известностью. Вместе с тем Ленско-Витимский р-он (Патомское нагорье) имеет свою прелесть и красоту, а также экзотичность. Золото и тайга чего стоят! Отвечаем на Ваши вопросы.
Скорее отвечайте, т. к. надо знать скорее Ваше решение (претендент на Ваше место был уже в дверях, когда я Вашей телеграммой выбила его обратно).
Привет. Надеюсь, что поедем вместе. Н. Каткова.
Приписка:
Надеюсь, что Ваша столь известная положительность не расстроит наших надежд на Ваше участие в работах. Все девушки считают Вас уже нашим. Но, вообще, последнее время Вы выкидываете трюки. Возможно, это будет Вам полезно. Говорят, что все к лучшему.
Зная Ваш характер, убежден, что любой случай к лучшему, не упустите.
Г. Юдин.
Развитие индустрии в стране требовало беспрестанных вкладов. Нужны были новые и новые ресурсы. Чтобы шире развернуть добычу их, Геолком ВСНХ направлял геолого-разведывательные партии на поиски золота.
Трест "Лензолото" был организован еще в 1921 году. В 1923-м СНК РСФСР издал декрет, который расширял льготы для золотопромышленников. Открывались месторождения, строились золотоизвлекательные фабрики.
На приисках в отдаленных районах страны строились дома для рабочих и инженерно-технических работников, культурно-бытовые учреждения...
ИЗ ДНЕВНИКА ЛУКНИЦКОГО
В вагоне поезда...
...Таинственная, ярко-зеленая, несущая в ветре ароматы трав, цветов, леса – тайга; долины, лощины с болотцами, нагроможденные по холмам ярусы девственных лесов, еще более величественных в дождливый день. И везде просторы, просторы – благодатный край для переселенцев, до сих пор еще не освоенные просторы, которые зовут к себе людей, людей, людей, чтоб возникли неисчислимые отары скота, бескрайние пастбища и посевы.
Все это-в будущем. Сибирь еще только начинает рождаться. Поезд с заключенными около Нижнеудинска. Поезда с автомобилями, тракторами, многими грузами.
Все – на Восток!
Хозяйственные, продовольственные, промышленные, оборонные грузы.
Все – на Восток!
О попутчике
Комсомолец, лет двадцати семи. В армии три года, артиллерист. В Хасанских боях участвовал непосредственно.
До армии – лет восемь работал в глухих районах Сибири (в Нарымском крае).
"...Командирован в район – значит, несколько месяцев. А иной уедет в район весной, возвращается через год, осенью: пока доберется!"
"..."Остров смерти" (Александров) – 50 000 перебитых из пулеметов "Охотников за черепами". Судили".
"...Никому неведомые поселки в глухой тайге – осевшие со времен гражданской войны белогвардейцы. Те, что поюжнее, – занимались и хлебопашеством..."
"...Восстание 1932 года – 20 тысяч. Шли к Томску, из Сархата (?). Ликвидировано".
"...В период до 1934 – 1935 гг. законности часто не было".
"...Разбежался "рецидив" (термин для ссыльнопоселенцев). В Томске ловили всех беспаспортных. Приятель (рассказчика) сидел на завалинке, милуясь с девушкой. "Документы?" – "Не взял с собой, дома". Не разбираясь, забрали и его и ее. Получил ссылки два года. Через два года вернулся в Томск. Было много всякого..."
"...В Нарымском крае многие комсомольцы переженились на "бывших графинях" (молодых девушках). За это их исключали (низовые организации) пачками. В одной – до 250 человек. Дело дошло до Москвы. Москва велела восстановить, после тщательной индивидуальной проверки, в зависимости от нынешнего лица жены и самого исключенного. Вышедшая замуж за комсомольца, спецпоселенка восстанавливалась в правах. Поэтому все женщины набивались замуж, удавалось это чаще всего самым красивым".