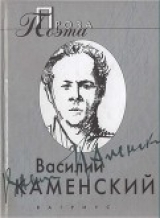
Текст книги "Василий Каменский. Проза поэта"
Автор книги: Василий Каменский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 11 страниц)
В Черкасске, в хате Степана приготовились, как к пасхальной заутрене, – ко встрече хозяина.
Все вымыли, вычистили, выбелили, полы устлали половиками, столы накрыли самобраными скатертями, стены увесили узорными полотенцами, перед иконами лампады зажгли, накурили душистыми травами.
Алёна, в малиновом сарафане, в синем повойнике, в сафьянных ботинках стояла у ворот.
Ждала.
Истомилось в тоске без берегов любинное сердце, изгрустились грустинные глаза по дальным дороженькам, изснились вспоминальные заветные сны о неразлюбной любви, искручинились кручины по ясному соколу – снежному лебедю, неустанному в ласках да песнях молодецких, истуманились туманы туманные, что горьким ожиданием заволокли все думы печали неземные, все радости безрадостные, излились слезы до дна сиротинные, перепелись песни бабьи – женские.
Нестерпимо жаркой любовью любила Степана Алёна, так любила, что будто и не любила, а горела в пламенной истоме, молилась, металась по ночам без сна, плакала призывно, убегала на высокие берега смотреть в даль, гадала, смеялась близкому свиданью, падала на ростани дорог, прислушивалась – не едет ли, ходила в церковь.
Ждала.
А за это малое время родилось великое.
Простым казаком уехал Степан померять силы свои на чужедальнем раздолье, испытать свое счастье богатырское, изведать походы великие, похвастать силами отчаянными, да удальством смелым, да головой бесшабашной, буйной.
Друг за другом катились эти долгие месяцы, как чудо за чудом разливались неслыханные, невиданные, негаданные чудеса на русской земле.
И эти чудеса творил удалой молодец атаман Степан Тимофеевич Разин.
Алёна, жена его верная, истая, любящая, заждалась.
Ждала у ворот, томилась.
У окошка сидела, думала:
«Каким желанным войдет Степан в хату свою, как к образам обратится, станет на колени и помолится о посланных победах, о радостях возвращения. Как все помолятся. Как Сонюшка да Георгий крепко обхватят отца и зацелуют родного. Как она сама от слез встречных говорить не сможет, а только смотреть ненаглядно станет, пока-то ночь прийдет, чтобы приголубить муженька любимого, соколика ясного, самой судьбой приласканного. Как еще оглянет Степан хату праздничную, для него приготовленную, и за бережные заботы обнимет ее, счастливую».
Алёна и о том думала, как пойдет она со Степаном на берег Дона и там перед Доном родным простит ему грех великий – людскую молву о принцессе персидской, и все простит, что было да миновало, – лишь бы домой воротился желанным, с любящим сердцем. Да и что не простишь, если любишь и ждешь любимого.
И как не простишь, если сказочной неслыханной славой покрылось имя его атаманское по всей земле, а победы, громом прогремевшие, до небес вознесли эту славу.
И теперь не страшно стало слушать, да и привыкла к этому, как тутошние царские слуги пугали ее лютой расправой со Степаном, ежели он покаяние царю не принесет.
Не страшилась черного конца Алёна еще потому, что черкасским атаманом был ее дядя Корнило Яковлев – верный царский слуга хитрый, властительный, но свой человек, всячески оберегавший семью Степана, всяческие заботы приложивший к сохранению спокоя Алёны за судьбу Степана и тем заслуживший доверие Алёны.
Он-то, этот Корнило Яковлев, первый и сообщил радость:
– Ну, Алёнушка, родная голубушка, зажигай лампады, молись: весть пришла, что Степан наш домой едет.
Гостинцев, слышь, тебе, голубушка, да ребяткам возы везет. Да знаю, знаю, – не до гостинцев тебе, матушка, а до гостя возлюбленного. Ну, жди, жди его, красного солнышка нашего, навеки прославленного, победами огороженного.
С этой минуты Алёна встрепенулась ожиданьем.
Хату приготовила, шитьем убрала.
Ждала у ворот.
У окна сидела.
Томилась.
Зазывно смотрела.
Но тщетно глаза проглядела: муж вернулся, а к ней не пришел…
Не женаСтепан с вольницей остановился зимовать в городке Кагальнике, что на острове, недалече от Черкасска, основался.
Городок, по обычаю, удальцы земляным валом обнесли, частоколом огородили, пушки поставили.
Успокоились. Притихли.
Степан долго молчанным хмурился и, наконец, попросил Фрола сходить за Алёной:
– Проведи ее тайной дорогой, чтобы никто не видал, не знал, а то царская опричина Корнила Яковлева заклюет ее и детенышей.
Поздним вечером Фрол, переодетый странником, постучался в окно бодажком к Алёне:
– Христа ради, подайте убогому.
Алёна открыла окно, хлеб протянула.
Фрол и шепнул:
– Не бойся, – это я, Фрол, за тобой Степаном послан. Иди за мной с оглядкой, с остереженьем.
Всю дорогу болью неведомого билось сердце Алёны:
– Что будет…
В черную шаль с дрожью куталась.
– Что скажет…
Ноги подкашивались. Слезы жгли.
А когда вошла в горницу к Степану, взглянула на мужа круглыми голубыми глазами, – на порог опустилась, в глазах потемнело, будто под землю ушла, зарыдала, смолкла, белое лицо черной шалью закрыла…
Глубинно молчал Степан.
И это молчание рассказало им, как река жизни разделила их на два берега: на одном берегу – мир, покой и семья, а на другом – мятеж, бури и дело голытьбы. И видно, не сойдутся эти берега, покуда течет река, покуда не высохла.
Степан тихо смотрел на Алёну:
– Не тужи, не горюй, Алёна, не суди меня строго.
Я сам себя осудил. Вырвал из груди то самое сердце, что любовью называется, что к тебе крепким узлом было привязано. Вырвал, чтобы не знать себя человеком ветхим, человеком, любящим одного человека. Ой, надо до капли единой отдать всего себя с головой делу ратному, да так отдать, чтобы до кровинки последней в казну сермяжную было положено. Вот долю такую клятвенную принял на себя. И ты, Алёна, не суди, не ропщи, а смирись: отрешился я от тебя, от жены своей…
– Ой, беда, ой, что говоришь, ой, беда, – стонала Алёна, – да слыхано ли горе такое мученское. Таким ли ждала тебя домой.
– И дома нет у меня. Дом мой там, где победы наши живут.
– Али мало побед тебе, что таким злым, чужедальним воротился.
– Побед наших мало. Ужо весной на Москву за царской головой пойдем, по всей земле русской распластаемся – тогда успокоимся. А воротился я зимовать на Дон, и не со злом воротился, а с добром по разуму своему.
– Ой ли, добро это, ежели от жены отрешился, детей малых забыл, дом бросил.
– Детям малым судьба крылья орлиные даст, – вырастут сами: а ребят не забыл я. Видеть хочу их, детенышей моих, говорить с ними, чуять близко хочу, согреть и обласкать хочу, и около них сам согреться желаю. И ты, Алёна, приведи ребяток на место тайное, где укажем тебе, – там и свидимся. А ко мне нельзя – неровен час – соглядатаи царские уследят: беда вам потом будет, ежели случится что недоброе.
– Да кого боишься ты?
– Врагов много тут. Знаем. Царское правительство дюже наслало сюда, под Черкасск, скрытой опричины. Корнило Яковлев про то лучше нас знает и стережет нас, как добычу знатную, да только руки у врагов коротки, – не такие лбы мы расшибали.
– Дядя Корнило не выдаст – зря ты злодеем его почитаешь.
– Молчи, Алёна, не заступайся за Корнилку Яковлева. Никогда с Дону выдачи не было – это правда, а только не лежит у меня сердце к атаману Яковлеву, – уж больно он хитер да жаден и высокой чести добивается. Казаки не любят его и к весне сменят. Мы своего атамана поставим. А этот предать может.
– Ой, ой, какие наветы наговариваешь. Да что стало с тобой, Степан? Он ли, дядя родной, Корнило наш, не заботился, не печалился о нас без тебя, он ли не хвалился победами вашими, он ли не гордился славушкой твоей, он ли не радовался приезду твоему. А ты поносишь его врагом, злодеем величаешь. Ой, чтой-то ты чураться добрых людей стал. Али за то простить ему не можешь, что про княжну персидскую Корнило поведал всю правду, да об этом и без него все знают. Все осудили тебя за княжну. Только один Корнило утешал меня да просил этот грех простить тебе. И простила я, и злобы не таю.
– А что поминать лихом княжну персидскую, когда в Волге утопил я ее, любовь свою, да заодно и от тебя отрешился, чтобы не знать, не ведать в себе ветхого человека, сердцем в любви болеющего. Не для себя и не легко отрешился от любви, что жила во мне пленом сладостным и дороги-пути мои путала, а раз отрешился – так и быть тому. И ты, Алёна, уразумей и прости это. Я не враг, а верный друг тебе, и верным останусь. Ребяткам скажи, что скоро, мол, свидимся, что батько, мол, гостинцы принесет, пряников камышинских, сластей саратовских. А Корнилке Яковлеву не верю, и ты его остерегайся.
С поникшей головой, с душой, запертой на замок молчания, с сокрушенным сердцем вышла Алёна от Степана.
Фрол провожал.
Черные люди следили, черные люди стерегли добычу.
В душу змеей вползКорнило Яковлев тенью у ворот стоял.
Сторожил Алёну.
Как всегда, крепко сторожил, цепких глаз не спускал, острое ухо держал лезвием, на густой ус каждое слово наматывал, вздыхал часто и приговаривал:
– Господи, благослови. Господи, благослови.
А часто, беспокойно вздыхал оттого, что готовился знатным вельможей стать – почести благие получить: награду щедрую, золотую, да милость царскую.
Давным-давно неотступно сторожит Корнило Яковлев, следит за Алёной, ласково, по-родственному заботится.
Знает, верит, что даром заботы не пропадут. Правда, было бы легче, короче, проще, если бы Степан Тимофеевич в своей хате жил, а то взбрело ему в голову в Кагальнике огородиться, пушки да дозорных поставить – туда и подступу нет.
Но все равно: еще задолго до прибытия на Дон вольницы Корнило Яковлев вызвался изловить вора-разбойника Стеньку Разина и выдать знатного атамана голытьбы правительству московскому.
Здесь дома, на Дону, изловить не трудно было, а выдать еще легче, ибо донское вольное казачество в обычае установление держало: не выдавать своих, да и никого не выдавать.
И никогда предательства – выдачи – вольный Дон не знал.
Все это на помощь пришло Корнилу Яковлеву, атаману черкасскому, дело предательства задумавшему.
Все давным-давно приготовил Корнило Яковлев.
– Господи, благослови. Господи, благослови, – вздыхала грудь атамана-предателя.
Тенью у ворот сторожил.
Разбитыми, медленными шагами возвращалась Алёна домой.
– Алёнушка, голубушка, – ластился подошедший Корнило, – поди, у муженька была, у Степанушки?
Вздрогнула Алёна, губы закусила, не хотела сказать и не могла других слов придумать:
– Уйди, боюсь я тебя, страшусь…
– Ох, господи, помилуй нас грешных, – вздыхал в черноте Корнило, – давно ли ты, матушка, бояться дядьку родного стала? Да чем я провинился перед тобой, Алёнушка, красавица моя? Али злые люди наветы нашептали? А ты, голубушка, своему родственному сердцу верь. Золотое у тебя сердце, да и у меня не серебряное. Поведай-ко лучше, что Степан тебе говорил, – зачем в Кагальнике сиднем-сидит, будто своей хаты нет, будто жена да ребята не ждут.
– Ой, с чего это взял ты, – завернулась в черную шаль Алёна, – что я от Степана иду…
– Вот, крест святой, сердцем чую, – вползал змеей в душу предатель, – а чую от любви, от забот своих о тебе, матушка. Али не привык я добрых советов давать тебе, али ты не знаешь, что верный, свой я, свой. Ты в бога веришь, а я без молитв не живу – вот перед богом и говорю, что любую мне тайну поведай: не выдам, но совет дам спасительный, помогу тебе умом-разумом. Не слепой я, вижу, что в обиде ты, в кручине от мужа идешь…
Алёна зарыдала:
– Нет у меня мужа… нет… не жена ему… нет…
Корнило вздохнул:
– Ох, господи праведный! И верить нельзя, – ужели от жены отрешился?
– Отрешился… – горевала в слезах Алёна, – ой, беда какая пришла…
– А ты, голубушка, погоди убиваться, – раскидывал умом Корнило, – погоди маяться. Степанушко буйный человек, сама знаешь, – ужо буйность минует, дух смятения успокоится, благодать божья снизойдет, и он, твой муженек преславный, образумится, опомнится, да снова шелковым, заботным станет. Ведь знаю, что любит он тебя, ой, любит и деточек шибко любит. Поди, как ему, сердешному, ребяток увидеть хочется, – вот бы и пришел домой на ребяток поглядеть, дитенки ждут не дождутся.
От блаженных утешений старика отлегло сердце Алёны:
– Поведу их скоро…
– В Кагальник? – ловил предатель врасплох.
– Нет… еще не знаю.
И вдруг как бы спохватилась!
– Еще не знаю… поведу ли.
– Дело твое, голубушка, – направлял на свою черную дорогу Корнило, – как ведаешь – так и поступай. А мой совет послушай: веди скорей ребяток к Степану – скорее он успокоится, образумится. Ой, как на дитенков, на тебя, красавица обиженная, поглядит, – сразу с божьей помощью свое отрешенье забудет, сразу женой-лебедушкой назовет. Да еще, увидишь, прощенья у тебя за обиду молить станет. Помяни слово мое, что я тебе правду говорил. Вот, Алёнушка, приходи с дитенками в монастырь наш, там в субботу всенощная большая, там помолимся о спасении душ наших грешных, там и побеседуем. Запомни, голубушка: в субботу – всенощная. Запомни. Ну, матушка, прощай-ко, иди себе в хату, да хранит вас всех господь многомилостивый.
Согретыми, облегченными шагами ушла Алёна.
– Господи, благослови, – вздохнул Корнило.
ПредательствоВ субботу колокол монастырский ко всенощной ударил.
– Господи, благослови, – перекрестился предатель, хлопотливо бегая по большому церковному двору, налаживая последние приготовления.
Здесь, в мужском монастыре, что стоял между Черкасском и Кагальником, тайно проживали, под видом монахов, царские стрельцы да сыновья бояр московских.
А в подвале церковном хранилась кованая железная клетка.
В конюшнях монастырских кони ржали.
Оружие в святых кладовых хранилось.
Корнило Яковлев с боярином Родионом Стрешневым, из Москвы от царя присланным, сновали по келиям, проверяя порядок.
Предатель потирал дрожащие холодные руки:
– Ну, боярин, кажись, с божьей помощью, все изготовлено ладно. Блесной засаде у нас без малого сотня скрыта, да полсотни рассыпано следить; а много ли со Стенькой из Кагальника выползут? Я смекаю, что самая малость.
– А ежели много? – опасался Стрешнев.
– Тогда отложим, – тер руки Корнило, – тогда обождем до часа благословенного, на рожон зря не полезем; а то лящей беды столь наживем, что в крови захлебнемся от резни разбойничьей. И так выходит, ежели Стеньку изловим да увезем, – надо будет стрелецким отрядам скорей подступать к Кагальнику и взять воров врасплох.
– Для Кагальника войска хватит, – разглаживал бороду Стрешнев, – лишь бы удалось Стеньку изловить да в Москву доставить. А еще бы господь пособил Ваську Уса, дьявола страшенного, поймать.
Корнило смотрел на паперть:
– Православные молиться идут. Того гляди Алёна с ребятами пожалует, а ежели с дитенками, – уж, стало быть, за ней странник Фролка, али другой кто, придет и поведет на место тайное. Ух, и хитрая, упорная бабенка, – даром, что отрешенная, а за Стеньку головой стоит, всех нас остерегается, проклятая. А это ведь я постарался – надоумил ее сегодня ко всенощной прийти с ребятами, – так, мол, люди не заметят, куды ребят ночью повела. Ну, она про себя и поняла эту уловку. Вчера к ней Фролка приходил под окошко, опять за милостыней, и тут они, значит, уговор учинили.
– Слушай-ко, атаман Яковлев, – забеспокоился боярин, – а может, баба Стенькина до церкви не дойдет – свернет в сторону?
– Ххе-хе, – хихикал предатель, – за каждым ее окаянным шагом следят – донесут живехонько.
– Ну, Корнилушко, – обещал Стрешнев, – и будет тебе награда из казны царевой превеликая и почесть знатная, милость государева. Сам знаешь, какой я добрый друг царю-батюшке Алексею Михайловичу, – сам тебя и покажу перед светлыми очами святого кормильца всея Руси.
– По царскому, государеву наказу, – крестился дрожащей рукой предатель в сторону алтаря, – изловим мы, с божьей помощью, вора-разбойника Стеньку, еретика, богоотступника, анафему. Посадим лютого зверя в клетку железную, да в подарок царю, государю великому, богом хранимому, на Москву отвезем. Помоги нам владыко, вседержитель небесный, и церковь святая, нерушимая. Ведь сыздавна наша православная церковь служила царю-батюшке, помазаннику божьему, и молилась за нас грешных, верных царевых слуг. И, благодаря господу, все шло чинно, как надо нам, пока вор-Стенька со своей сермяжной вольницей не нарушил праведного жития. А вот ныне пришел благословенный час совершиться, с божьей помощью, великому делу – здесь, у стены монастырской…
В эту минуту черным ветром налетел монах:
– Уследили… жена Стенькина с двумя ребятами в монастырь шла… оглядывалась… к ней странник подошел хромой… милостыню подала… по его дороге и свернула на Кленовую балку… туды идут…
– Господи, благослови, господи, благослови, – торопливо крестился предатель, – вот хитрая, окаянная баба.
– Господи, помилуй, помоги, – крестился боярин.
Прибежали еще два монаха:
– Уследили верно… Стенька вылез из городка с пятью разбойниками… а за ним выползли еще трое… и Васька Ус там… из разговоров слышно было… На Кленовой балке, в лесу сидят… поджидают, табак курят… наши окружают… змеями ползнем-ползут… окружают…
– Господи, благослови! – молился предатель, – господи, помоги, даруй победу нам. Церковь святая! Их, стало быть, только восьмеро, а девятый Фролка с Алён-кой. Ну, благодать, ну, спасенье.
Все бросились по келиям за стрельцами, боярскими сыновьями, монахами-помощниками.
– Будьте настороже.
– Выходите за ограду.
– Коней готовьте.
– Клетку железную везите.
– Ждите приказу.
– Все тайно делайте.
– Бегу на колокольню, пущай в большой колокол ударят, чтобы шуму да криков не слыхать было в лесу, ежели заорут разбойники.
– Беги и другим колокольням тайно накажи от атамана Яковлева. Попам про это скажи. Попы постараются.
И чернота ночная скрыла предателей. Ударил большой монастырский колокол.
– Господи, благослови, – шептал трясущийся Корнило, пробираясь на Кленовую балку кустами с черными людьми.
Скоро несколько режущих голосов простонало в лесу:
– О-о-о-й… О-о-о-й-и…
– Степа-а-а…
– О-о-о… а-а… – неслось эхо смерти.
– Чуйте, братья! – вскочил Степан и опрометью бросился на крик.
– Спасай!
– Спасай Ваську!
И когда один за другим кинулись на помощь удальцы, разбившись поодиночке, из засады выскочила стая черных воронов и вцепилась в добычу.
В миг единый ощетинились монахи ножами, топорами и зарезали, зарубили шестерых удальцов.
– О-о-о… прощай, Степан, – доносилось издалека, куда ушел Васька Ус с Черноярцем встречать Алёну.
– Палачи! Предатели! – рычал Степан, разрывая, как нитки, веревки, на него набросанные, размахивая кистенем по вязким головам озверелых врагов ночных.
– О-о-о-о… – стонала тьма.
– Степан-ан…
– Прощай-ай…
– Степан… Сте…
– О-о-й…
– Прощай… а-а-и…
И верещавший голос предателя:
– Режь… руби… дави всех, окромя Стеньки… В мешок Стеньку… в мешок… Вяжи его, вяжи… Давай клетку… Вези. Лупи веревками, присмиреет анафема… злодей… еретик… Попался!..
Сквозь звон колокольный всех церквей гулом подземным стонал связанный в мешке, бьющийся в веревках Степан:
– Ой, да беда навалилась… Ой, лихая беда… Прощай.
Васька Ус, прощай, моя вольница вечная… Предал палач Корнилко… Продал, палач, мою голову. Да не продать ему, палачу цареву, воли голытьбы…
Бессмертие СтепанаПо грязным, вяжущим, водянисто-снежным ухабам ямской-московской бесконечной дороги, через степи, болота, леса, горы, реки, займища, мимо деревень, селений, городов, владений барских, урочищ, монастырей, на дубовой телеге, запряженной четверкой донских коней, в железной клетке, закованного в цепях везли на Москву Степана Разина с братом Фролом.
Целая армия войска царского с ружьями, пушками сопровождала великого атамана.
А войско было отборное, верное: сыновья князей, бояр, купцов, воевод.
Когда мимо деревень, селений проезжали, от рева, от слез стон стоял:
– Великомученик наш!
– Страдалец! Заступник!
– Отец родной, Степан Тимофеич!
Степан со слезами кланялся, прощался:
– Не поминайте лихом. Бейтесь за долю свою великую!
Когда мимо владений господских проезжали, из барских окон кричали:
– Туда и дорога вору-разбойнику. Жалко только, что у тебя, вор-Стенька, одна голова, а не дюжина, – мы бы сами сняли, – хоть одну твою голову в огород повесили.
– У меня не одна голова и не дюжина, – отвечал Степан, – а у меня без числа голов. И будет времячко – на своих барских башках вы это узнаете!
Когда мимо монастырей проезжали, попы с монахами, иконами, хоругвями, святой водой выходили, о здравии и победах христову воинству молились, о спасении веры, царя и отечества, а Степану исступленно бросали:
– Будь проклят! Антихрист! Еретик! Диавол! Анафема!
– Ишь воронье раскаркалось, – отвечал Степан, – уж, видно, досадил я вам, большебрюхим, по самое зевло дармоедское.
Попы плевались.
А когда после долгомученской дороги в городах останавливались и по неделе, по две жили, и когда, наконец, весной в Москву приехали, тут было всякое:
Кто ревел, в ноги Степану валился, землю целовал.
Кто ругался, плевался, проклинал, кулаками махал.
Кто детей приносил, благословения ждал, благодарствовал.
Кто молитвы читал.
Кто глазел.
Кто прощенья слезно просил.
Кто камни в клетку бросал.
Под Москвой, у городской заставы, шествие остановилось.
Тут много времени стояли.
Царские власти наезжали; хотели допрос чинить, но Степан отказывался отрезно:
– Ответ держать перед голытьбой привык, а перед вами не хочу.
И Фрол отказывался:
– Мы вам ответ на Волге дали.
Пыткой думали взять допрос.
Разины не испугались:
– Двум смертям не бывать, а одной не миновать.
Эшафот приготовили на Красной площади. В воскресный день шестого июня, только как отзвонили после обеден, громовой молнией пронеслась по Москве страшная весть:
– Везут Степана! Везут!
Толпы народищу всякого посыпалось глазеть кто куда и сами не знают. Кучи кинулись за город.
Стрельцы разъезжали по улицам и кнутами наводили порядок.
Из Земского приказа выехала большущая телега с виселицей навстречу Степану.
Народ бросился за телегой.
У городской заставы ждал Корнило Яковлев со стрельцами, а посредине на первой телеге в железной клетке, закованный в толстые цепи, сидел Степан.
За ним на другой телеге сидел Фрол, закованный в кандалы.
Степан весело кланялся народу, бодро покрикивая назад брату:
– Фрол, не тужи. Ишь день какой славный! Весело!
Фрол прищуренно взглянул на солнце и улыбнулся.
– Я не тужу. Мне тепло.
Подъехала большущая телега с виселицей.
Вытащили Степана из клетки, поволокли к виселице.
Стоймя поставили на телегу, к перекладине голову цепью подтянули кверху, чтобы нельзя было опуститься ниже. Ноги привязали к телеге.
У ног его посадили Фрола.
Тронулись в последний путь.
Народ зашумел, загалдел, заревел, заохал, застонал.
Только Степан, залитый солнцем, спокойно и ясно смотрел на народ и на небо своими большими утренними, детскими глазами и светло чуть улыбался думам своим о Волге.
Все было нестерпимо просто вокруг.
Солнце. Тепло. Тихо на небе. Какие-то люди. Телега. Чужие голоса. Перекладина. Неловко голове.
Не то. Не так…
Глаза Степана устремлены в небо: видит он там синедальние Жигулевские горы, и раздольную бирюзовую гладь любимой Волги, и около, по берегам, удалую свою понизовую вольницу, и лебединую стаю расписных стругов на парусах. Слышит он там переливный звон голосов и молодецкие вольные песни.
Большущая телега с виселицей остановилась у Земского приказа.
Народ запрудил улицы и галдел.
Стрельцы размахивали кнутами да саблями.
Снова хотели начать допрос. Не удалось.
Степан и Фрол гордо молчали.
Судья заорал:
– Стенька у нас заговорит!
Почуял это Фрол, припал к Степану и поцеловал братские ноги.
Фрола отдернули.
Степана начали пытать: ему связывали назад руки и поднимали к перекладине, потом скручивали ремнем ноги. Палач садился на ремень. Тело вытягиваюсь, руки выходили из суставов. Другой палач изо всей силы бил по спине ременным кнутом. Кожа вздувалась, лопалась, открывалась язвами.
Сто ударов вогнали в Степана, но ни единого стона не испустил он.
И все стоявшие около дивились много.
Потом связали вместе ноги и руки, продели сквозь них бревно и жгли горящими угольями зад.
Гордо молчал Степан.
Потом по в кровь избитому, обожженному до черноты телу начали водить раскаленным железным прутом.
И это снес молчаливо Степан.
Тогда ему остригли русые кудри и стали на темя лить по капле ледяной воды.
И эту муку стерпел молчаливо Степан.
Тогда с досады, что ли, начали бить палками по его ногам.
И эти страдания молчаливо принял Степан.
Все принял безмятежно, безропотно.
Без единого слова.
Потом сняли обоих братьев Разиных с телеги и поволокли казнить на лобное место.
Сначала патриарший дьяк читал приговор с перечислением содеянных против веры православной, церкви святой преступлений вора-разбойника Стеньки Разина:
– Благословением святыя живоначальныя троицы и повелением святой российской церкви беглый донской казак Степан, сын Тимофеев, Разин объявляется непослушным сыном и отступником церкви.
Сей Стенька Разин воздвиг гонение на церкви Божии, развращал души христианские, призывал к бунту против властей; забвено-бо бысть сим Стенькой Разиным поучение апостола, иже глаголет, яко всяка душа властем предержащим да повинуется, несть бо власть, аще не от бога, сущий же власти от Бога установлены суть, тем же противляяся власти Божию повелению противляется.
Сей богоотступник, Стенька Разин, не убояся Бога, свою руку дерзновенно поднял не токмо на верных слуг царевых, но такожде и на смиренных служителей Божиих, творя великие обиды и расправы иереям и протопопам, священным архимандритам и христовым архиереям, ограбляя и разоряя их мирное житие.
Сей вор и грабитель, Стенька Разин, рукою грешною опустошал святые церкви и монастыри, присвоял себе казну церковную и монастырскую, паче же возмущал монастырских приписных служилых людей и крестьян, дабы чинили сии неповиновение игуменам своим.
Сей отступник и церкви божией поругатель, вор и разбойник Стенька Разин, елика многа поносил честных митрополитов, из них же смиренный митрополит астраханский Иосиф поглумлен бысть и богохульно повешен к великому и неслыханному посрамлению российския церкви.
Сей великий грешник, Стенька Разин, в безумии своем поруга церковь Божию.
Понеже преисполнися чаша терпения чинимых беззаконий и разбойств, церковь российская сего нечестивца, христианския веры хулителя, вора и разбойника Степана, сына Тимофеева, Разина в его последний предсмертный час проклинает. Аминь.
После князь-воевода вышел:
– Православные христиане! По грамоте батюшки-царя нашего, Господом Богом посланного, надо сущего разбойника Стеньку Разина круто казнить с братом его Фролом, чтобы все видели, как Бог наказывает злодеев за дела окаянные против царской власти. Да будет эта кара ему по заслугам, и чтобы другим злодеям вперед было неповадно. Аминь.
На помост поднялся палач с огромным топором и у черной плахи встал.
За палачом медленно, богатырской поступью взошел на помост Степан, залитый кровью и солнцем.
Народ всколыхнулся и замер.
Степан осмотрелся кругом.
Броско-высоко Степан еще раз вскинул в небо небоглазую обритую голову, да так вскинул лихо, что будто обветренным лбом к лебединым облакам прикоснулся, будто благословение от навеки перелетного дня принял дружно, будто единым духом выпил последнюю чарку мудрого вина жизни:
– Прощай жизнь! Благослови мой спокой. Ты видишь, – я легкий и ясный, будто ребенок на груди кормящей матери. Я совсем маленький. Прости меня. Не суди.
Золотым пламенем жарко горели главы церквей.
Внизу в красных кафтанах двигались среди моря толпы стрельцы, сверкая саблями.
Степан земным поклоном поклонился народу на четыре стороны и последним голосом молвил:
– Прощай и прости меня, бедный люд – земля русская. Не суди строго. Добра, правды, воли желал вам и бился за это, сколь сил у голытьбы было. Носите в сердцах завет мой: крепче стойте друг за друга, кто беден да обижен царем, боярами, князьями, купцами. Кровью стойте за волю вольную и не забывайте меня – брата вашего Степана. Хорошо умирать за дело великое. Не судите. Прости, прощай, бедный люд!
Стоном застонало море людское, ревом заревело, болью нестерпимой взвыло, слезами смертными разлилось, горем захлестнулось.
Степана четвертовали.
Палач сначала отрубил ему по локоть правую руку, потом отрубил по колено левую ногу, потом левую руку и правую ногу.
Для конца палач отрубил ему голову.
Четвертовали и Фрола.
С величественной гордостью принял Степан мученскую смерть и в самую последнюю минуту, перед отрубом головы, он зорко взглянул на солнце: может быть, снова увидел и Волгу, и Жигулевские горы.








