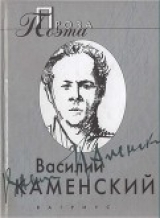
Текст книги "Василий Каменский. Проза поэта"
Автор книги: Василий Каменский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц)
Звездной ночью Степан с двумястами стругов да с тысячью конницы подступил к Симбирску.
В кремле засел со стрельцами окольничий Иван Милославский.
Симбирск укреплен двойным укреплением: на вершине горы кругом стоял высокий кремль, а за кремлем кольцом в полгоре следовал посад, обведенный дубовым частоколом и рвом. В посаде острог жил.
В городе стоял гарнизон из четырех стрелецких приказов с полсотней пушек и двухтысячное число дворян и детей боярских из Симбирского уезда и близких городов, сбежавшихся в надежную симбирскую крепость от нашествия Степана.
Выйдя из стругов, Степан расставил ночной караул, а сам с есаулами Васькой Усом, Черноярцем, Фролом и прочими пошел пересылаться с посадскими симбирцами.
Навстречу Степану вышли посланцы с хлебом-солью от посада симбирского и ударили челом, что посадские жители передаются в верные руки понизовой вольницы, и указали на те прясла стены, где утром симбирцы будут ждать молодецкую дружину; и указали еще на острог, где заточенные ждали от Степана воли; и поведали Степану, что от казанского воеводы князя Урусова в кремле ждут сильной помощи, посланной под началом окольничьего князя Юрия Борятинского, идущего правобережным сухопутьем, и что, говорили, в войске Борятинского идут из Москвы рейтарские наемные иноземного строя конные полки.
Степан отпустил посланцев, а Ваське Усу, Черноярцу и Фролу совет дал гнать к чувашам, черемисам и мордве за подмогой – благо они сами давно насылались.
Есаулы погнали.
Степан пошел ночевать на свой струг Сокол.
Ночь раскинулась густосиним шатром с наливными звездами.
Плёско плескалась вода о борты струга.
Ночные птицы кричали тревожно.
Долго не мог уснуть Степан.
А когда уснул, – увидел беспокойный сон: будто странником с посохом подходит он к своей черкасской избе, у ворот стоит Сонюшка – дочка его любимая-ненаглядная и плачет, смотрит на отца и плачет. Степан будто обиделся, что Сонюшка плачет, а не радуется, не прыгает, не бросается к нему на грудь, и вся неласковая, и будто говорит: «Ты, батько, опять не зайдешь домой, опять пройдешь мимо, мать тоже перестала любить нас, мы с братиком решили оборотиться в диких гусей и улететь».
– Где мать Алёна, – спросил Степан у Сонюшки и услышал чей-то совсем чужой, насмешливый голос: «У Корнила Яковлева – на тебя жалуется».
Потом будто Степан заметил, что у него на боку голова и волосы седые, долгие, и холодно, снежно на душе, и одиноко-безутешно. И Сонюшки нет, никого нет.
Проснулся Степан от железного шума: то удальцы собирались на приступ. Васька Ус готовил к бою.
– Выкатывай пушку!
– Примай!
– Кидай топор!
– Скорей, леший!
– Седлай коней.
– Эй, кремлевые, держись!
– Стой, раздавит.
– Редька!
– Курмалай!
– Ссаживай.
– Чаль!
Солнце рождалось красным расцветом.
День обещал много жаркой пальбы, много крови. Степан схватил саблю, сунул кистень за пояс, накинул красно-огненный кафтан и разом поплыл на шитике на берег.
Через час все удальцы двинулись.
Конники завели песню:
Ой ли, нам, соколикам,
Да воля не дана,
Ой ли, мы не молоды
От крепкого вина.
Удальцы подхватили яро, со свистом, с гиком:
Эй, гуляй, наливай,
Молодость, раздайся.
Эй, давай-поддавай,
Сам не поддавайся.
– Жги-жги-жги-жги-жги!
– Шпарь!
– Эй, симбирские!
– Кремлевые!
Степан на белом коне впереди, как раз подступил к тем пряслам дубовой стены, где ждали посадские. Круто остановив коня, Степан заорал застенцам:
Эй, добрые люди симбирские,
Отворяйте ворота дубовые!
Вы встречайте гостей со поклонами,
Понизовую вольницу жалуйте!
Степан махнул шапкой, и удальцы громом загремели:
– А ну, встречайте, братья симбирские!
Затрещал частокол, рухнули прясла.
Лицом к лицу очутились посадские жители с удальцами.
Перед симбирцами на беломолочном коне сидел Степан в огненно-красном кафтане, с горящими от солнца золотыми узорами.
И те из посадских симбирцев, что с хлебом-солью первые стояли, закричали:
– А ну, послушайте.
Горластая песня разнеслась в ответ вольнице:
Ой, вы гой еси, знатны-молодцы,
Гости наши жданногаданные,
Вы примите нас в дружбу верную,
Дайте нам волю вольную.
Отведал Степан хлеба-соли.
Посадские голосили ему:
– Во здравие ешь!
– Батюшко наш!
– Атаман!
– Степан Тимофеевич!
– Во здравие!
– Отцова родимая головушка!
– Приими!
– Спаси от кремлевских!
Удальцы двинулись в посад.
Степан показал на острог серокаменный с башней.
– К острогу! На волю!
И через час освобожденные заточенные, с подружными симбирцами да удальцами, круто расправились с боярскими ставленниками.
На острожную башню поставили пушки.
Стали укреплять острог, а вокруг кремля начали копать высокий земляной вал и взмащивать на него пушки.
Завязалась пальба нещадная.
В кремле вспыхнуло три пожара.
Удальцы напирали; метали в кремль зажженные смоляные факелы.
К вечеру прискакали дозорные и объявили, что к Симбирску подходит войско Борятинского с казанской стороны.
Степан засел в остроге направлять пушки.
Удальцы приготовились к битве.
Ночью войско князя Борятинского подступило к посадской стене и разразился огненный бой.
Удальцы вклинились в стрелецкую гущу и рубились отчаянно. В это время Степан заметил, что из кремля начали вылезать на помощь борятинским, и закричал вниз:
– Кремлевые вылезли!
Конница удальцов кинулась к кремлевым.
Степан видел, что вольницы значительно меньше даже войска Борятинского, однако, не унывал, потому что крепко надеялся на удальцов, да ловко наводил пушки, запаливая в густые места.
Вдруг издалека разнесся звериный, пестрый рев: то подбегали есаулы с подмогой.
Через полчаса все люди перемешались в одной свалке.
Лихо работали удальцы. Не сдавался и боярский стан.
Черемисы и стрельцы, удальцы и дворяне, посадские и кремлевские, мордва и рейтарские, чуваши и казанцы-татары, черемисы и бояре – все перепутались.
Трудно было своих очличить от чужих.
Крики, пальба, песни, ругань, хохот, свист, рубка – все это слилось с горящими факелами, с непроглядной ночью, с усталостью от злобы, с неизвестностью конца.
– Гам-гарр-алл-ннай э-з!
– Вали его!
– Опл.
– Коленом!
– Кто это?
– Зеляй!
– Тащи бревна! Бревна! Бревна!
– Ббах!
– У-у-у-у!
– Где Васька Ус – Ваську надо!
– Алешка, крепи!
– Понужай за Петькой!
– Руби!
– Айда!
– Волоки срамину!
– Чуван-талма!
– Ташши! Ташши! Ташши!
– На наш!
– Лезь на вал, мости!
– Стой обруснет.
– Ой – мать!
– Вот те, – не разбойничай!
– Еще не успел! Гони! Кистенем!
– Клюй!
– Ббахх!
– Тиля-ман!
– Жастым, – барм!
– Ек, ек, ек!
– А чтоб мазь яво яры!
– Бацк!
– Береги башку.
– Ты, шут, зачем?
– Стой. Давай пищаль.
– Али-грымз.
Эй, гуляй, наливай,
Молодость, раздайся.
– Увь-увь-увь-увь —
Эй, давай-поддавай,
Сам не поддавайся.
– Ххо-хо-хо-хо!
– Вухр.
Васька Ус вскочил на седло своего рыжего в пене коня и стоя заорал:
– Нажимай, робя, Борятинский отступает! Жми!
– Кремлевские заперлись!
– Рейтарские дуют назад!
– Эх вы, задницы худые!
– Князь спать захотел.
– Окаянная квашня!
– Хха-хо-хо-хо!
– Кто ты, куда?
– Стой, рейтарская морда!
– Я с бумагой к атаману от князя.
Рейтара доставили к острогу.
Степан вышел к рейтару.
– Мне ли послание есть от Борятинского?
– Есть.
Рейтар протянул бумагу.
Степан взял и, ничего не подозревая, стал читать.
Рейтар выхватил саблю и изо всей силы рубнул Степана в правое плечо, видно, метил в голову, да промахнулся.
Качнулся Степан, хотел схватить предателя, но не поднялась глубоко раненная рука, а только кровь ручьем хлынула; в глазах помутилось от боли, и сон вспомнился.
Атаман прижал рану, а между пальцев струей кровь текла теплая, рубиновая.
– Ты из дворян? – спросил Степан.
– Из дворян, – повалился в ноги рейтар, – прости, служить буду…
– Ежели бы из простых людей, – смотрел на свою кровь атаман, – простил бы.
Дворянина вздернули.
Степан крикнул:
– Давайте коня! Поеду по городу симбирской голытьбе волю объявить. Пора. Заждались голуби. Симбирск наш!
ВавилаРазболелась симбирская рана Степана, да столь разболелась, что занемогший атаман сдал в Симбирске атаманство Ваське Усу и Фролу дело завершать, а сам уплыл в горы Жигулевские.
Лежал на взгорье под шатром сосны, траву целебную к ране прикладывал, солнцем да звездами дышал, ветром обветривался, на Волгу зорко глядел, в думы, как в облака, облачался.
Здоровья ждал-поджидал: уж шибко руки чесались, рукав сам засучивался, а размахнуться погодить требовалось.
А вольница… Беспокойными глазами любви безбрежной, любви – солнца краше, любви – неба глубже, Волгой глаз следила вольница за здоровьем атамана.
И когда увидела, что Степан оклемался, отлежался, крыльями пошевеливать стал, – отлегло сердце голытьбы и снова, будто зелень после дождя на лугах, омылась цветистой общей радостью…
Атаман сидел под сосной и встречал гостей: выборных от сиротских сотен, посланных от мордвы, татар, чувашей, калмыков; принимал прискакавших на вспененных конях есаулов и разных пришлых – кто с чем.
Стекались в стан и посадские, и тягловые люди, чтобы поведать батюшке Степану свои горести, кручины, заботы.
А горя-горюшка горы стояли.
Все искали правду на земле.
Среди других явился к Степану беглый монах Вавила.
Этот обвинен был в Москве в том, что будто держал связь Разина с патриархом Никоном, жившим в ссылке – в Ферапонтовом Кирилло-Белозерском монастыре.
Сказывали на Москве, будто с Волги по Шексне приезжали под видом богомольцев посыльные Разина к опальному патриарху, будто даже намеревались освободить Никона из заточения.
В ту пору о Никоне много, будоражно толковали в народе.
В Москве не на шутку всполошились. И много несчастных, по одному только подозрению в сношениях меж Разиным и опальным патриархом, было схвачено и подвергнуто пыткам на кобыле.
Монах Вавила бежал от пыток.
– А на кой леший мне твой Никон нужен? – смеялся Степан. Поп, что ли я, чтоб от патриарха мне благословение принимать?
– Батюшко, Степан Тимофеич, – сообщал Вавила, – великий государь святейший Никон, архиепископ московский и всея великия, малыя и белые Руси и многих епархий, земли же и моря сея земли патриарх – гневно поссорился с царем.
– Ишь ты, а!
– Зане являлся патриарх защитником обиженных и убогих, и яко борец за правду на суде. Паче же не взлюбиша святейшего отца бояре, – како простолюдин, чернец из мужиков, мордвин нижегородский – Никон, возвысился пред царем паче многих бояр именитых и стал собинным другом царя. Оклеветали патриарха, до ссоры озлобленной довели.
– Кто оклеветал?
– Бояре.
– Ну, а народ?
– Народ возмущают супротив Никона попы. Они – лихоимцы, тунеядцы; службы не творят, а деньгу подавай им. Да и пить хмельное здоровы.
– Ох, дармоеды…
– Царь Алексей Михайлович забыл, как с боярами при всем народе, перед мощами митрополита Филиппа, кланялся собинному своему другу в ноги и со слезами умолял быть ему, Никону, всероссийским патриархом.
– Ну, а Никон? – пробурчал Степан.
– Никон все отказывался. Тогда – слышь – царь, простершись на земле и проливая слезы, паки умолял не отказываться, чтобы избрану быта. И, поразмыслив, Никон велегласно спросил: будут ли меня почитать, как архипастыря и отца верховнейшего, и дадут ли мне устроить церковь по моему усмотрению? На это царь, а за ним и всяка власть духовная и мирская, принесли тут же клятву исполнить его хотения. И вот как все ныне зело перевернулось!..
– Что же натворил твой Никон?
– Батюшко, Степан Тимофеич, – Никон ничего не натворил и верующие почитают его своим защитником от неправедных бояр. Никон, говорят, государя выше. А не по нраву приходится это боярам и царю.
– А что боярам по нраву?..
– Ну, и попы тоже. Начал патриарх новые спасительные книги печатать, да править церковные, да по ним попов учить. Природных-то поповичей, да мужицкий сын-мордвин! А на глазах земляка, к примеру, юрьевского протопопа Аввакума баба-мачеха в деревне когда-то таскала Никона, сына Мины, за вихры… Обидно, стало быть, попам учиться у мордвина.
– Обидно! Ха, ха…
– Одначе святейший круто повел: кого из попов долой, кого в палки, а кого в дьячки аль в монастырь. Земляка-то своего, Аввакума, в Пустозерский острог со всей его семьей загнал! Загалдели попы: за порчу, будто бы, веры православной, иные начали ругать Никона антихристовой собакой.
– Патриарх в собаку оборотился!
– А бояре пуще тому рады. Царский друг, окольничий боярин Родион Стрешнев – так тот свою собаку кличкой «Никон» прозвал…
– Да сам-то ты, монах, за Никона или за попов?
– Кто за Никона, а кои против. От попов смутьянство. Раскол. Идут раздоры. Объявились еретики. Патриарх грозит анафемой…
– Кому анафема?
– Анафема тем, кто за двуперстие держится, кто противится принять правленные по-ученому книги, да кто трегубой аллилуйей гнушается. А больше все, кажись, из-за правленых книг… Да такие раздоры, батюшко, Степан Тимофеич, такая муть пошла, что и не понять, и не рассказать… А и бояре промеж себя тоже дюже враждуют.
– Стало быть так: кто с кого шкуру дерет, тот пуще и орет. Запутали, окаянные, народную душу… Запутали божьим крестом да чертовым хвостом.
– Да, батюшко! Истинно – запутали. Уж так запутали… Да – слышь – еще от царя Уложение вышло. Теперь житье настало вовсе худое. И служилым, и крестьянам, и посадским – теперь крышка: не сдвинься с места, раз где кого застала писцовая книга. Попался – прикреплен к месту на веки… А кто ежели против этого самого Уложения ослушался, – велено казнить безо всякой пощады, чтобы – значит – на то смотря, иным неповадно было так делать.
– А Никон, говоришь, в Белозерском?
– В Белозерском, батюшко, в Кирилло-Белозерском монастыре заточен.
– Ага… А далеко ль отсель этот Кирилло-Белозерский, и почему туда запятил царь Никона?
– Собор, батюшко, Собор! По навету бояр… Царь с советниками созвал Собор. Путаницу хотели разобрать, да с мутью покончить. Понаехали греческие и иные из-за моря патриархи. Ну, вестимое дело, и порешили как угодно было царю да боярам. Продажные попы, да и кормежка им добрая была. Невесть что наговорили, да все на Никона и свалили… Что-де Никон на царя и бояр перед народом хулы произносит, царя-де почел латиномудренником, церковь православную испортил, в три креста за-место двух крестился и нудил к тому православных, патриаршую власть ставил выше власти царя, а соборные суждения самих вселенских патриархов блядословием называл… Стало быть, – бунтовшик! Ну, и сняли с Никона патриаршую шапку… да со стрельцами… да в монастырь. Слышь – стрельцы-то с дубинами хранят теперь Никонову келью, и нет к опальному патриарху никому доступа… Но народ-от чтит Никона, дюже в памяти остались его добрые дела. Народу – что поповский да боярский Собор! Народ досель зовет Никона патриархом всея Руси. Одначе, Никона не сломать, не на такого мужика напали! Слышь, – писал царю, что повелением того составленное Уложение есть проклятая книга, исполненная пре-беззаконий… Грозил царю, что за его беззакония псы будут в его царском дворе щенят своих родить, и радость настанет бесам от погибели многих неповинных людей.
– Ну, а прочие – что за Никона? Их куда царь загнал?
– Прочих тоже, – по монастырям да по острогам. Известна царская расправа! Да только досталось и тем, кто был против Никона. Руби все башки, чтоб замолкли. И будет мирное и безмятежное житие… Иные с ума спятили. Протопопа Аввакума перегнали за Урал. Этот чудеса начал творить. У боярыни-воеводши все куры пере-слепли и мереть стали. Она, собравши кур в короб, прислала к Аввакуму, чтоб-де батько пожаловал – помолил о курах. Кормилица наша, – подумал Аввакум, – детки у ней: надобны ей курки. Спел молебен, воду святил, курок кропил и кадил. Потом в лес сбродил, корыто им сделал – из чего есть, и водою покропил, да к воеводше все и отослал. Куры исцелели, исправились по вере воеводши в Аввакума.
– Ужо не поверить ли мне в того протопопа Аввакума, – смеялся Степан, – а то я вроде петуха болящего, – мне исцеление руки потребно, чтобы лупить попов кистенем по башкам.
Чугунное житьеЧугунное житье!
Так прозывалась жизнь на Жигулевских горах у иных молодцев, сбежавшихся от крепостного рабства в вольные приволжские края.
Вырывали эти молодцы подземелья в горах и жили там звериной жизнью.
Рычали. Скрежетали зубами, если чуяли врага. Бросались с большими чугунными кистенями, с печеночными ножами, с копьями, с пищалями. В живых никого не оставляли. Лезли на рожон. Сами гибли.
Хвалились всяким дурным. Величали себя чугунниками, истыми разбойниками.
Знали чугунники про Степана Разина, но жили своей жизнью – только разбойной, лютой, чугунной.
Песни пели лишь те, что жили на деревьях, и то редко – по праздникам, а прочие давали зарок не помнить слов. В веселые минуты чугунники лаяли, ревели по-медвежьи, ложились на бок и катались под гору, бегали на четвереньках, выворачивали пни, ели со шкурой зайцев и сырых рыб. Ели траву, ягоды, землю, кору. Весной опивались березовым соком и грызли заговорные ведовские корни от сглазу, от напастей, от болестей, от рожна. Верили чугунники в талисманный чугун. Знали только одну свою песню, чугунную:
Чугунное житье!
Ношу кривой татарский нож,
Индийское копье.
Раскинул, ловок и хитер,
Я на сосне шатер.
И хохочу! Хочу кричу!
Точу топор и жгу смолье.
В четыре пальца просвищу
Шарахнется сова, —
Забьет крылом – седьмым веслом.
Людей не вижу – не ищу,
И выплюнул слова.
Мы-м мычу, ядреный вол лугов.
Морковное жратье.
Повесил на рога врагов.
Шершавый ствол – старуха мать.
Пошел – жую рябину —
Сучье ломать. Ядрена мать-земля.
Чугунное житье!
А пуще всего чугунники верили в ведовство.
Среди них ведуны и ведуньи таинственно вершили свои ведовские дела, нагоняя вокруг страх и тревожную загадочность судьбы человеческой.
Особенно прославилась у чугунников киевская ведунья, будто прилетевшая с ветром из Киева.
Киевская ведунья поселилась в дупле у Молодецкого Камня.
Ходили слухи про нее разные. Кто говорил, что у нее только один глаз на лбу и птичий нос, кто будто видел ее летающей по ночам над Волгой белой птицей с долгим хвостом, кто будто слыхал, как она плачет на берегу, призывая суженого.
Но все знали, что ее ведовство отменное, верное. Все наветы ее и все предсказания сбывались неотступно.
Однажды к чугунникам приехал тайно знатный гость Степан Разин.
И захотелось Степану увидеть киевскую ведунью, погадать о судьбе своей мятежной.
Ровно в полночь глухую подошел Степан к дуплу, постучался бодажком.
Высунулась киевская ведунья из дупла, взглянула на Степана, узнала его, обрадовалась, стала звать к себе в дупло. Полез Степан в дупло, а там дыра в землю со ступеньками. Спустился Степан в просторное подземелье. Диву дался от красоты около.
Все стены и потолок были изубраны яркопестрыми шелковыми тканями. На тканях травы-коренья висели. На полу ковры пестрились с подушками. В одном углу красночерная птица сидела, и огромные глаза ее синим огнем горели.
В другом углу теплился светильник.
Взглянул Степан на ведунью – видит: стоит перед ним стройная, смуглокожая с чернобархатными глазами красавица и смеется белым, теплым смехом.
Долго и близко смотрел Степан на киевскую ведунью. Потом сел на узорную подушку.
Ведунья трижды обошла Степана вокруг.
И когда обходила, Степан заметил, что стан у ведуньи изломно-гибкий, а голые ноги смуглы и подвижны.
Удивленный Степан сидел отуманенный чарами ведуньи, ждал слов, потому что сам не знал, что можно говорить и – главное – нужно ли ему говорить.
Ведунья достала кубок, налила зеленого до краев зелия, положила травы, прикоснулась губами к зелью, и, смотря прямо в глаза Степану, стала говорить:
– Меня зовут Лебедия. Прилетела я к твоему сердцу и села на причаленку прислушаться. Твою судьбу узнать атаманскую, твои деньки сосчитать разгульные. Чую я глазами души правду сущую. А и ждет тебя слава великая заморская, да и тяжкий конец. И тому тяжкому концу поможет одна царица. Две царицы будут у тебя. Одну ты загубишь, а другая – тебя. Берегись этих баб, опасайся. На! Выпей за долю свою кровавую! Забудь о царицах, а то обидишь меня кручинную, одинешенькую Лебедию. Пей!
Вздрогнул Степан. Выпил кубок до дна, вскинул кудрями, любовно взглянул на ведунью и бодро, легко вздохнул.
– Эх-ма! Да нешто и впрямь я затуманился о дорогах своих всеравношных. Али я не за молодость, да не за хозяйку выпил крепкого зелия. Стану гостем, коль приятен.
Ведунья налила еще один кубок зелия. Отпила сама и подала Степану.
Степан разом осушил.
Лебедия обвила его шею нежными голыми руками:
– Возьми гусли и пой, а я буду слушать и любить твою судьбу атаманскую. Степан пел:
Залетел вольный сокол к лебедушке,
Заменился красой лебединою,
Запил зелием крепким
Закручинную гореваль.
И в пьяном, затуманном бреду о песне-были думал, что в душе своей, как зерно на ладони, нес.
В сладкой дурманной истоме лебединых ласк Степан забылся…
А завтра…
Завтра – утреннее солнце, веселый крик птиц, свежий ветер и молодость разгонят дурман, и когда над долиной заиграет на тростниковой дудке отдохнувший за ночь пастух, – перемешаются кручины с весельем, слезы со смехом, вечер с утром, неотзовность с надеждами, волны с веслами, паруса с лебедями, туманы с солнцем, топорики с кумачовыми рубахами, кудри со свистом.
Степан очнулся в подземелье у чугунников:
– Ишь ты, не то сон видал, не то явь принял, – будто в гостях у ведьмы киевской судьбу разгадывал, а, видно, не мне да и никому судьбы человечьей не разгадать.
Шибко хотелось Степану вперед заглянуть, чтобы верной дороги держаться, – оттого и метался он, оттого и раскачивался на качелях душевной мятежности.
Знать желал: так ли, не так ли великое дело ведет, и что сулят пути неведомые.
И вдруг вскидывал кудри:
– Али впрямь лучше не думать, не гадать, не туманиться, а, как скатерть самобраную, развернуть судьбинную долюшку-волюшку да ждать, что будет. Эх, ма!
И Степан развернулся.
Он созвал на гору всех чугунников из всех подземелий.
Вылезли чугунники косматые, чернолапые, в волчьих шкурах, в спутанных бородах, одичалые, мычащие, зверолобые, вылезли с чугунными большими кистенями, с дубинами.
– Эй вы, чугунники, – вскочил на пень атаман, богатырской рукой указывая в низовье Волги, – вот там, где небо с землей сходится, – туда наша вольница путь держит, туда вас, чугунники, с собой гостить зову на пиры бражные, на разгул развеселый, на расправу с теми, кто вас в берлоги загнал, зверью уподобил. Там – города богатейшие, города торговые, там – золота, серебра, каменьев самоцветных, шелка, бархата да сапог сафьяновых, да девок румяных, да вина заморского и боярских шей – превеликие множества. Туда и зову гостить, чтобы вы, чугунники, хоть разок в жизни отведали, как в хоромах сладко спать в обнимку с девками по-боярскому, как в хоромах сладко жрать пироги с изюмом да вином запивать, как в хоромах легко ходить в бархате, в сапожках, в соболиных кафтанах по-боярскому. Надо же вам, чугунники, хоть разок в жизни почуять себя в человеческом образе, в оправе господской. А то век скотами в барских конюшнях прожили да в подземелья с горя зарылись, будто и не люди вы. Очухайтесь! Давайте-ка, голуби, сядем с нами на струги быстрые да поглядим то самое место, где небо с землей сходится, где на приволье знатно отгостим, а там поминай, как звали-величали.
Будто стадо коней, встрепенулись, заржали чугунники и всем скопом рванулись за атаманом.








