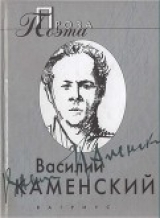
Текст книги "Василий Каменский. Проза поэта"
Автор книги: Василий Каменский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 11 страниц)
Расцвела живыми расцветами из ярко-пестрых человеческих душ дорога сиротская.
И та дорога сиротская прямиком пролегала на раздольный, приютный, вольнолюбивый Дон.
На Дон, – где по теплым степным берегам раскинулись казацкие донские станицы, прославленные в удалых походах, да и весельем зазвонным, и силищей несокрушимой, и умом отменным, и дарованьями самоцветными.
На Дон, – где пуще всего на свете дорожили вольностью, потому что мудро ценили сокровенные сокровища каждой души, каждого сердца, потому что умели отчаянно любить красную молодецкую жизнь и верный друг верного друга.
На Дон, – куда бежали все, кто не смог снести крепостного гнета Московского государства, кто не смог мириться с княжеским насилием, да боярским произволом, да воеводским зверством.
На Дон, – откуда не было выдачи, где не знали предательства, не ведали измены дружеской, не давали в обиду своих казаков.
На Дон, – откуда звонкими стаями вылетали чудесные, неслыханные песни о привольной жизни казацкой, о славных победных походах, о богатствах полоняночных, о красоте несказанной Дона родного, о дружбе полюбовной, нерастанной, крепкой, о славе молодецкой, разгульной, могучей, о стройных, загорелых от солнца казачках, с льняными косами, с утро-небесными глазами, с вишневыми ртами, с речами распевно-ласковыми, – уговорными, падающими в душу пресветлой звучалью.
На Дон прямиком пролегала дорога сиротская, вольготная.
И по той дороге сиротской бежали на донское казацкое устройство и крестьяне, и холопы, и монастырские люди, и беглые стрельцы, и дети служилых, и даточные, и особенно бежали украинцы: потому что московское правительство не хотело, после присоединения Малороссии, признать Малороссию казацкой страною.
Московское правительство охотилось яро за беглыми, посылая на охоту сыщиков из дворян.
Сыщики из дворян, приезжая в любой уезд, где обнаруживалось скопище беглых, приказывали на всех торгах бирючам кликать клич, чтобы ловили беглых и приводили к ним на расправу.
Пойманных били батогами и хлестали кнутами, водворяя на место жительства. А там, на местах жительства, насильно возвращенных беглых лупили, и издевались в свою очередь, и накладывали двойные повинности.
И беглому оставалось снова бежать. И бежать или на Дон по сиротской дороге, или ближе – в темный дремучий лес – разбойничать. Благо в лесу таких сбегалось немало затравленных.
Так вот просто и составлялась бродячая разбойничья шайка, жившая нападениями в глухие ночи на купецкие караваны с товарами.
В Пешехонье и на Унже велено воеводам созывать дворян, детей боярских и служилых, ездить с ними по селам и деревням, брать там сотских, пятидесятских и десятских, отыскивать разбойников, истреблять их станы и судить нещадно, и казнить смертью и разными муками.
Переполнилась русская земля новым слухом: будто вторая сиротская дорога открылась в низовьях Волги, будто потоками вешними текут удальцы из Воронежа, Тулы, Ельца, Шацка и прочих сельбищ, ища сборного места.
Московское правительство разослало грамоты воеводам городов: Самары, Саратова, Царицына, Черного Яря и Астрахани, чтобы жили с береженьем великим, чтобы находились между собою в постоянных вестях, чтобы отправляли в степи детей боярских и стрельцов ловить беглых людей.
И еще писалось в грамотах: «на Дону собираются многие казаки и хотят идти воровать на Волгу, взять Царицын и засесть там».
Атаман сермяжниковВ полуторах верстах по Дону, от Черкасска, стоял старый нетронутый лес.
Сквозь коряжины да сучья дубовые, сквозь валежник да заросль тянулась корявая тропинка, продороженная скотом, к круглой поляне, где трава росла густая, вкусная.
Люди не ходили туда из-за сплошной стены колючего терновника, и еще болотины мешали, а сверху шатром раскинулись дубовые ветвины.
Когда свечерилось и пастух с высокого места засвирелил, призывая скот домой, по тропинке к круглой поляне по одному, по два, по три стали собираться молодые донские казаки с загорелыми, веселыми лицами, а пуще валили беглые с сиротской дороги. Собралось всех пятьсот сорок два человека. Иные были вооружены и одеты подорожному. Держались гордо, строго, уверенно. Видно было, что шли на великое раздольное дело, на подвиги молодецкие.
В горящих глазах звенела стремительная молодость, и в упругих движениях чувствовалась отважная сила, готовность к борьбе и ко всяким случайностям судьбы.
А как только пришел еще один казак, пятьсот сорок третий, все сразу встрепенулись, будто соколы взлететь приготовились.
Тихим, но радостным звоном упал в лесную поляну приветный голос пришедшего:
– От неба до земли поклон вашей удалой вольности, братья.
– Здорово, Степан! В час добрый да легкий! Ты с нами! Вот слетелись, – знай – дорогу указывай! Веди напролом голытьбу!
Степан оглядел всех ясно-зорким взглядом, и чудесной радугой вдруг расцветилось его небоглазое лицо:
– Дорогу указывать должно атаману, а каковский я атаман – и сам не ведаю.
– Мы ведаем! Мы тебя избираем в атаманы, Степан Тимофеич, – сочно галдели крепкие голоса сермяжников.
– По воле нашей атаманом будь! Разве зря на сиротских дорогах голытьба орет: выбирай, ребята, Разина Степана, сына Тимофеева, – у него крутая голова на широких плечах и силища матерая. У него – речь величавая, кровь казацкая, вольная, бурливая, а ума-разума на всех нас хватит. Вот тебя, батюшко, и выбираем атаманом. Али сердце голытьбы не чует, кого нам вожаком поставить! Это дело – решенное, полюбовное. Все готовы, знай – веди, ты и в походах бывал.
Степан выпрямился, приосанился, взметнул кудрями:
– Не хочу ломаться, не хочу золотого времячка терять, а хочу только молвить – сумею ли вашим атаманом быть? Хватит ли буйной головушки на дело великое, на почин затейный?
– Сумеешь! Хватит! Выбираем! Ставим! – звенели колокольным звоном переливные восторги.
– Ужо царёво рыло своротим! Сами на трон сядем! Сами управлять будем по-сермяжному! Освободим бедноту крепостную! Приступом остроги возьмем! Князей, воевод, помещиков, дворян, купцов перещелкаем, как орехи! Эй, царская боярщина, берегись: бревнами станем лупить по жирным зарылбам! Отведем свою душеньку за мучительства! Кровь нашу правители да помещики заме-сто щей хлебали, смотри: одни кости остались. Отведаем, похлебаем и мы кровушки господской, сусла боярского. Чем хуже наше брюхо мякинное!
– Ой, шибко весело слушать мне вас, удальцы отпетые, – улыбался солнцем Степан, – знать и впрямь времячко приспело спелое, выросла в лугах трава. Знать и впрямь наш первый путь на Волгу-матушку лежит. Туда и попрем для почина. Волоком с Дону на Волгу попрем. Готовы ли струги?
– Ждут в кустах!
– Коли ждут – не будем томить их. А только сперва наведем ратный порядок. Всех стругов тридцать три.
– Нас здесь пятьсот сорок три.
– Ого! Ладно! Да голытьбы у Телячьего острога ждет сотни три. В струги, что побольше, сядем по три десятка, а где по два. Меня не в счет. Придется со струга на струг то и дело перебегать, речи станут атаманские сказывать, да пуще советы заводить. Остатнее – пособит судьба. Сказано – сделано. Али не так?
И чихнул Степан.
А удальцы пожелали залпом:
Чох на ветер,
Кожу на шест,
Мясо собакам,
Кости в ров, —
Степан Тимофеевич,
Будь здоров!
На вечное здоровье чихнул атаман.
ПрощаниеВ путь-дороженьку дальнюю снаряжались струги, – вот-вот, гордо выпятив груди-паруса, выплывут лебединой густой стаей и понесут волю крылатую вверх по Дону, а оттуда подымутся волоком и на Волге приют найдут.
Опершись плечом о ствол коренастого дуба, смотрел прощальными глазами Степан на солнечную зыбь родного Дона, а у ног муженька в грустинном молчании сидела Алёна.
Тихо, бережно пел Степан:
Ты знай, сиротинная,
Жизнь испытанная,
Что дорога твоя —
Ой, да грустинная,
Ты знай, горемычная,
Доля сермяжная.
Что дорога твоя —
Ой, хмельно-бражная,
И потом, про себя будто:
– Бегут… бегут… бегут сермяжники… Велика дорога сиротской голытьбы. Бегут… бегут… Вот как будто на яву вижу – текут. Будто людская река течет. И теченье чую, слышу. Бегут… Кто из княжеских крепостных конюшен. Кто из острога, да из-под плети. Кто из царских-стрелецких хором да из-под виселицы. Голодные, серые, обездоленные, измызганные. Бегут, спешат. Скорей, скорей! Ох, свет Алёна! Алёнушка! Ну и жизнь накатывается – чистый праздник. Знай, пошевеливайся! Того и гляди, сермяжники сюда сбегутся в условленное местечко в назначенный час. Дело решенное. Ух, и чешутся руки, а кровь бурлит, будто кипяток в печке. Ну, Алёна, не тужи, – не за смертью едем…
Сквозь слезы горючие причитала Алёна, припав к ногам любимого:
– Ой, страшно мне. Благословить хочу и отпустить боюсь. Ой, трудно мне станет покинутой жить, да с малыми ребятами Как я? Что я? И зачем тебе бремя нести?
Боюсь за тебя, и радуюсь за дело твое, и сама не пойму – почему сердце щемит, ой, болит…
– А ты, Алёнушка, помни, – утешал Степан, – не за себя несу свою голову, а за братьев сермяжных, обиженных. Знать, сама судьба посылает нас померяться силушкой с царской опричиной. Видно, невтерпеж стало жить голытьбе от зверской управы князей да богачей. Значит, невтерпеж, коли горем кишат сиротские дороги.
И надо, ой, надо лупить врагов кистенем по башке.
– Ах, Степан… на какую затею идешь…
– На затею кумачовую, на затею такую разудальную, чтобы века вспоминали. Такое вот верное, великое, наше сермяжное дело! И ты пойми меня. Пойми. Не сам ведь в атаманы напросился, даже не думал о почете таком, а людская молва родила меня, – выкинула, как волну на берег, и не под стать мне от высокой доли отказываться, ежели голытьба на мою головушку надеется. Не тужи, а гордись. Мне и самому тяжко разлучаться с тобой, Алёнушка, да с малыми детенышами, мне и самому надо было выбрать одну из двух дорог, или жить на Дону для себя да вчуже мучиться мученски за страданья обездоленных, или жить и ратовать за кровное дело народное, за разгул нашей удалой вольности, за правду голытьбы, за устройство казацкое на всей земле русской от Дона до Белого моря. Вот и выбрал я эту людскую дорогу широкую и по ней пойду с удальцами. А ты, Алёнушка, уразумей это, не кручинься, не кори. Пойми сердцем.
Алёна затомилась в слезах:
– Степан, Степан! Делай, на что послан судьбой, – только не забывай ты Алёну свою, покинутую женушку, Алёну с малыми детенышами. Не забывай, помни о нас, помни. А мы ждать станем, дни и ноченьки. Ой, томиться станем, изнывать в тоске.
– Не надо, не плачь, Алёнушка. Не кори меня, а гордись да радуйся. Должны мы, ой – великое совершить, и совершим. Знаю! Вот! Вижу! Прощай.
– Прощай, Степан! Чует бедное сердце мое, что не скоро мы свидимся… Ох, страшно мне, больно мне! Люблю я тебя и боюсь… И вот рада я, рада за радости твои… Прощай, мое солнышко, прощай, родимый! Прощай, пойду я домой одинешенькая, по дороге слез своих бабьих пойду…
Долго смотрел Степан в путь за Алёной и думал о женском сердце:
– Оно похоже на воск – такое оно гибкое от тепла и света, такое оно кроткое и простое, будто цветок на заре.
На ВолгеПрямо из сердца земли русской вытекает Волга, разливно завершая бегучий путь морем Хвалынским – Каспийским.
Крутобедрые, упрямые берега бережной любовью берегут течение заповедной реки-кормилицы.
На веки верные сторожа – горы Жигулевские – не дадут в обиду славу волжскую, быль затейную.
А оседлый люд, на прибрежностях кормиться севший, сыздавна жил и живет тут неизменно-истой любовью к реке-матушке, к берегам коренным, к этой земле обетованной, богатой урожаями, зверьем-пушниной – мехами, лесами, птицами, рыбой.
Недаром денно и нощно плыли по Волге купеческие караваны, доверху груженные всяческим добром – товарами, а чтобы для завидных глаз соблазна от богатства не было – на носу каждого судна пушка стояла для обереженья.
А на иных носах караванных судов даже стрельцы сидели.
Да и было кого остерегаться: не раз случалось, как в темную ночь нежданно-негаданно на легких стругах подкатывали к каравану лихие разбойнички и грабили так чисто да бойко, ловко да бесстрашно, что и пушка не успевала выстрелить, как тех разбойничков и след простывал вместе с добром.
И сколько их было, и кто, – знала только одна темная ночь на Волге.
Говорили разное: указывали на беглых холопов из помещичьих владений, называли скрывшихся острожников или провинных крестьян, болтали о татарах, киргизах, калмыках, судачили о скопищах сермяжников на больших дорогах, шептались о предчувствии беременной грозы, ждали первого грома.
И дождались.
Первый гром ударил и раскатился по всей Волге-матушке от устья до верховьев.
В низовьях, под Камышином, однажды в тихую чернобархатную ночь плыл богатый караван – из пяти груженых брюхатых судов – с пушками на носах, а на переднем – с двадцатью спящими стрельцами.
Спали-дремали у своих пушек пушкари.
Не спал только сам купец Жиглов, везший товары в Астрахань, да не спали рулевые и водоливы.
Суда плыли серединой реки и будто не плыли, а на месте стояли – такая тишина легла недвижная, беззвучная.
Лишь с берегов изредка доносились перезовы ночных птиц, и хлюпала вода у рулей.
Купец Жиглов сидел на ящиках, похаживал, посматривал, бороду поглаживал и подсчитывал, – сколько он обратно из Астрахани персидского шелку повезет в Москву, – а в этом его главная шелковая торговля и развертывалась.
А не спал по ночам купец Жиглов пуще из-за того, что в двух кубышках золото вез, чтобы побольше персидского, индийского шелку захватить в Астрахани, где его купцы заморские поджидали.
На спящих стрельцов купец Жиглов сердито поглядывал:
– Дрыхнут, собаки, нещадно, хоть глаза им выколи. Тишина ночная, будто смола сгустилась. Задремал и купец, осовел от черноты. И вдруг над самым ухом – глаз кривой и зубы оскаленные:
– Указывай, купец Жиглов, где лежат спрятаны две кубышки с золотом да бочонок с серебром?
Оторопел купец – глазам, ушам не верит, закричать хотел, а хриплый голос ему в ухо:
– Не кричи, купец, стрельцов разбудишь, а коли разбудишь – вот этот нож печеночный по рукоять в брюхо всажу и поверну не раз в кишках. Указывай золото!
– Тут оно в ящике, ищи, – хрипел купец, – бери, тут… тут…
А когда черный человек нагнулся над ящиком и шарить начал, купец железной палкой ударил по голове человека и, сбросив его в воду, заорал:
– Эй, стрельцы! Спасайте!
К купцу другой человек подскочил:
– Зря ты, Жиглов, удальца загубил, зря. За что загубил? Неужто золото дороже человечьей жизни? Али по-купецкому выходит, что голытьба за человека не считается? А тогда дозволь и тебя за тварь негодную признать. Указывай золото!
– Стрельцы, спасители! – верещал купец.
– Сарынь на кичку! – гремело на носу, над стрельцами.
– Сарынь на кичку! – неслось с воды.
– Сарынь на кичку! – раздавалось с других судов.
– Сарынь на кичку! – отвечало эхо ночное с берегов.
– Сарынь на кичку! – бурлила Волга по бездонным сторонам.
– Берите золото мое, – ревел купец исступленно, – вот оно в кармане, в мешке припасено, а про две кубышки наврали вам злодеи из холопов моих, вот крест святой, – наврали супостаты. Берите это золото, да только душу оставьте на покаяние, ибо не имею надежды и иного прибежища, кроме тебя, господи…
– Я знаю, где твое золото, – хохотал жигловский холоп в выкаченные глаза хозяина, – мы вот – скотина твоя, холопы твои присмертные, кровь наша – вот твое первое золото. А второе золото – две кубышки да бочонок серебра в нашу холопскую казну по правде поступило, – гляди в темень ярую, может, увидишь.
– Душегубы, воры! – базлал Жиглов, – отпустите душу на покаянье вожделенное, молиться за вас стану, воры. Никому, кроме бога, не скажу про вас, воры. Отпустите…
Пробегавший человек крикнул купцу:
– Мы не воры, не разбойники – атамановы помощники. А наш атаман-батюшко Разин, Степан Тимофеевич. Вот он к тебе идет – с ним и считайся.
Степан подошел подбоченясь:
– Ты ли, купец Жиглов?
– Я есмь раб божий Жиглов, – повалился в ноги Степану купец.
– А по какому купецкому правилу ты загубил человека, али по привычке? И чего достоин ты за злодеянье – суди сам.
– Перед Господом Богом отвечу, – ревел купец, – а у тебя, батюшко, прощенья прошу.
– Перед богом легко отвечать, – улыбался атаман, – а вот перед нами попробуй. Не волен я и прощенья тебе дать за человека, дважды тобой загубленного: по милости вашей купецкой, он и так весь иссечен в конюшнях был, – еле этот холоп спасенье в беглых нашел, а ты его и вовсе прикончил. Пойди-ко за ним, да у него прощенья и проси.
Купца швырнули в Волгу.
Пушку на атаманский струг спустили.
Ружья, сабли у стрельцов отобрали.
Товары, сколько приглянулось, очистили, свалили на струги.
Холопы жигловские пристали к вольнице.
Струги исчезли в смоляной черноте.
Суда плыли своей дорогой.
Тишина ночная нависла еще гуще, еще укрывнее.
Волга дышала величием молчания.
Перекликались в берегах совы и филины, да изредка глухо выли волки.
На парусахЖадно, ненасытно полюбил Степан Волгу-раздольницу, так полюбил ее сердешную, животворную, приютную в берегах, что не знал пределов благодаренью своему за щедроты-удачи оказанные, не ведал и чудодейственных слов таких, чтобы излить свою душу в преклонении за счастье дарованное.
А приливающее счастье рекой, будто Волгой, текло, и не было конца этому благодатному приливу.
Если подняться на гриву утеса Орлиного Клюва – можно любому глазачу увидеть размах горизонтов, а у Степана глаза краше солнца видели.
И ночью он, как луна, смотрел.
По горам ночным, будто по коленям матери, ползал.
А когда спускался обратно в стан свой и видел перед собой бегущую Волгу, струги в кустах, вольных людей, бесшабашно распевающих у костров песни свои излюбные, ретивые, падал Степан на землю, целовал ее, хрустко жевал, глотал, упоенно-любовно спрашивал:
– Как быть, куда идти, где найти?
Незаметно до самой воды докатывался и пил ее поцелуйно, с жаром лаская, будто единственную, пел ей горячую трепетную думу:
Волга, Волга! Не ты ли из сердца земли исток свой берешь, не ты ли наши сердца заливаешь любовью к тебе, не ты ли творишь нас великими, вольными, затейными, не ты ли указываешь нам пути-дороженьки!
Волга, Волга! Как мать, ты рождаешь нас и грудью вскармливаешь сильных для славы океанской.
Волга, Волга! И ты, как невеста, как возлюбленная, цветешь для любви нашей молодецкой, для подвигов удальских.
Волга, Волга! Во имя твое разливное наши песни распевные, самоцветные, наши крылья-паруса лебединые, наши легкие струги быстрые, дружные с чайками да с дикими утками.
Волга, Волга! Дорога наша размашная, неизменная, ратоборная.
Во пречистое имя твое, счастье, нам водою несущее, – распластываю я судьбу затеи знатной, и ты, Волга-матушка, кормилица-поилица, не оставь советом думы мои.
Вот я бычачьим ревом реву от радостей, что ты, Волга-любовь, заодно с нами, и готов всю жизнь повторять и знать только одно слово: Волга! Волга! И это одно безмерное слово преисполняет мой разум мудровольностью неисчерпаемой.
Волга, Волга! Ты сама, мать наша ядреная, видишь, кормилица, что все мы кумачовые дети, ребята твои, сермяжники крылатые, в молодости, в разгуле своем непочатую затею несем для блага народного-крестьянского-холопского-рабьего. И ты, Волга, храни, береги нашу буйную молодость, ты, сердешная, научи нас богатырями расти, чтобы крепли победушки наши на матерой груди твоей, чтобы жизнь на песню походила, как голубь на голубя.
Славил Степан молодость, купал ее в Волге, будто коня любимого.
В молодости, как в утреннем солнце, он видел все звучальные начала, все чудесные возможности и все звенящие концы.
В молодости, как в разыгравшихся волжских волнах, он слышал кудрошумный трепет движения, слышал прибойную хлесткость о крутологие берега, слышал песнеянную перепевность вдруг родившихся нечаянных криков с горы радостей в раздоль веселых долин, плодородных здоровеннейшим смехом. И-эхх! На!
С рассветом просыпался Степан от звона радуг, бегающих босиком по небесной поляне над головой.
– Что это раскинулось радужное и до неба в бриллиантах, – кричал он со сна.
– Держись за жизнь!
– Затыкай за пояса кистени!
– Эй, ядреные лапти!
– Сарынь на кичку!
– Глаза на Волгу!
– Сучи рукава!
– Катись колесом!
– Слушай атамана!
– На коня!
– На струги!
– На весла!
– Подымай паруса!
– Лети быстрым соколом!
– Вершай! Раздайся!
Так будила молодость.
В молодости, как в разветрившемся ветре, чуял Степан стихийную, яркую волю, смысл землевращения, красотинность смены цветов и времени.
Всей своей силищей богатырской ощущал Степан мудрость молодости в том, что творил жизнь по дарованию своему великому, океанскому, глубинному, искреннему, что жил во славу славную, молодецкую, что любил жизнь вольную от огня сердца своего, раскаленного кумачовыми днями да удальцами разудалыми, верными.
И как редкое вино в минуту развернувшегося веселия, пил свою молодость, пил жадно, много, гордо, пил неотрывно, так, как пьют в последний раз, с мучительно-сладостным желанием постичь нестерпимое счастье опьянения воли.
И, как молодость, пил вино за удалые, отчаянные сердца, чокаясь заздравной чаркой с волжской раздольной стороной, с бездорожными дорогами.
Все заветное обещал молодости и ей верил, ей отдал себя с головой.
Из молодости, будто из неисчерпаемого источника хрустальных чудес, неустанно черпал он свои крыловейные, жгучие, звонкие песни и когда пел – преображался в солнцезвучальный праздник, собирая и радуя всех около и себя.
Когда пел, сам первый пьянел от красоты своей песни и упивался своим голосом, по стволу которого, как ветви, струились переливные струны гуслей.
Буйно славил Степан буйную молодость.
Взбирался с удальцами на вершины Жигулевские, протягивал сильные руки в синедальную сторону, к самарскому кургану, к червонным песчаным берегам, к зеленым прикрытным островам – и кричал всемогучей грудью:
– Эй, на, на возьми! Полымем яростным расцветай расцветно, молодая жизнь!
Бейся колоколом, сердце разгульное. Искрись алыми искрами, пенься алой пеной, кипучая кровь!
А ты, башка кудрявая, с большезоркими глазищами, крепче держись, беспокойная, затейная, на спокойных плечах!
Не то еще вынесу, не с эстоль приму на себя, не таковским еще замирюсь с судьбой!
Видно, недаром сдружились с Жигулевскими вершинами, недаром воду из Волги пьем, да кровью-вином запиваем.
Так ли, не так ли жизнь развели, как пожар лесной? А будто так! Эх, мазь-яры, и впрямь будто так, ежели сыты, обуты, одеты, да ржем жеребцами, да победы одерживаем такие разудалые, что царскому войску не под силу стали, – вот как голытьба распоясалась. Не удержишь!
– А ну-ка, удальцы братья вольные, парни чугунные, души кумачовые, – давайте-ка сюда на поляну прикатите бочоночки браги медовой – выпьем за верхний симбирский путь, за силушку нашу несокрушимую, за удачу ратную, за молодость победную.
– Распируем три денька, три ноченьки, а на заре четвертой сядем на струги свои верные, заведем песни молодецкие, да ударим в крепкий лад расписными веслами.
– Гуляй, наша вольная молодость!
– Шуми!
– Развернись в Симбирск!
Эй, качай наша, качай,
Знай раскачивай, качай.
Ухнем ухом,
Бухнем брюхом.
– Расшибем!
– Стой! Укатится!
– Не шали!
– Харым-ары.
– Поддержи!
– Балма-ла.
– Чаль! Чаль чалку!
– Готовь костры.
– Свищи. Гуди!
– Бушуй!
– Мотри!
– Рой пяткой.
– Верещи!
– Кружи!
– При!
– Напором при!
– Не застуй.
– Снаряжай струги.
– Набирай моготы!
– Ворочай!
– Заводи, чугунники!
– Запевай, кистеньщики!
– Прочищай глотки.
Эй, за весла, братцы вольные;
Эй, соколики сокольные:
Держи май —
Разливье май, —
Сами жизнь мы делаем.
Пуще, гуще
Нажимай,
Нажимай на левую.
А вот чивай, да вот чивай,
Да чаще брагой потчивай.
Будто цветы на лугах, пестрели в горах молодчики, разъяренные вольностью, обветренные ветрами удач, прокопченные солнцем веселья, уснащенные, как мачты, снастями надежд, настроенные в дружный лад, ровно гусли звончатые.
И не было числа этим буйным головушкам понизовой вольницы, как не было конца притоку с дорог сиротских.








