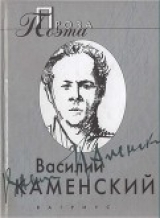
Текст книги "Василий Каменский. Проза поэта"
Автор книги: Василий Каменский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 11 страниц)
С цветочка на цветок лениво перелетывают яркоцветные бархатные бабочки: может быть, иным сулят любовь, а иных только целуют.
Душистую прохладу принес луговой ветерок, закачался на ветках, зашелестел, заблестел листочками на солнце.
Где-то за речкой забренчало медное гудило. Кони заржали.
Сонно ворона каркнула.
Неловкий большой жук прожужжал, и было слышно, как далеко он летел и как потом стукнулся о сухую ветку.
На опушке леса, в тени, на мягкой цветистой полянке лежу я. И нет никого вокруг.
Так вольно, вольно дышит грудь и светло улыбается сердце. Такую дивную, тихую песню поет душа, такую тихую, что кажется, будто лежу я раздетый до самой души, до самого сердца, а все остальное хранится где-то в другом месте, может быть, даже вон под той елкой: там что-то есть…
Впрочем, там муравьиная куча.
Ну, значит, под другой…
Как на молитве стоит лес и слушает святую тишину, наполнившую мир.
Дымятся дальние горы.
И над горами высоко в небе белеется одинокий полумесяц, точно парус… Кто там катается?..
Чу, где-то далеко, еле слышно перекликнулись горластые петухи.
И снова чудесное безмолвие.
Радостно пробиваются сквозь просветы вершин алмазно-пыльные струи солнца.
Радостно звенит голубой простор и манит в свое царство.
Радостно и гордо обняла землю красота молчания.
Радостно глаза целуют все, что видят.
Лежу на полянке и сознаю, и чувствую только одно, что вот-вот я сейчас оторвусь от земли и буду летать и буду летать, пока не устану…
И верю, даже верю, что в самом деле это может сейчас со мной случиться, и от одной только мысли в восторге замирает сердце…
Может быть, вот-вот… И жду…
Изредка я навешаю деревню, свою Озерную, чтобы попроведывать крестьян, потолковать, посмотреть огороды, полюбоваться полями.
Вернее сказать, я навешаю деревню, повинуясь какой-то могучей внутренней силе, которая неудержимо влечет меня к деревенским полям, к мужицким, простым избам.
Кроме Озерной, я один раз побывал в Заречной – да и то заходил в страдный день и никого не видал; больше не ходил никуда.
Впрочем, близко деревень не было. И главное, не хотелось уходить никуда. Зачем? Места и счастья мне хватало здесь вполне.
В Озерной на меня смотрели как на своего мужика-однодеревенца и обращались ласково, по-свойски; меня это очень радовало, и я глубоко благодарил всех в душе за ласку. Крестьянки потчевали наперерыв горячими шаньгами с творогом, сулили баскую невесту.
В Озерной мне знакома была каждая полица, каждый уголок двора.
Ну еще бы: во-первых, всего-то дворов было одиннадцать, а во-вторых, в каждой избе жили мои ученики, и большие, и малые.
Ребятишки не давали проходу, дурачились со мной, как с ровесником.
Я знал всех животных и здоровался с ними, похлопывая по шее, кто встретится.
Если где-нибудь у избы видел соху или борону, я приветливо улыбался им, как друзьям.
На крестьянина смотрел с благоговением, потому что видел в нем простого, честного человека с сильной, доброй и открытой душой, широкой душой, которая так и светилась тихой мудростью зеленых полей.
Ведь недаром, когда случайно встречал я крестьянина в полях, мне казалось, что его светлая, нездешняя улыбка знает какую-то огромную земную тайну, которую он никому не скажет…
Тогда я низко кланялся ему и думал: вот он, наверно, сейчас где-нибудь во ржи тихо разговаривал с самой Землей и так просто, как будто это было для него обыкновенным явлением…
И в самом деле, от рождения своего неразлучно связанный с Землей, он носил в себе ясный отпечаток всего, что его окружало.
Светлые волосы так походили на стог сена, а большая борода – на лесную чашу. Морщины на лице так напоминали вспаханные борозды, а загорелая, широкая грудь – сжатую полосу. В чистых, ласковых глазах так красиво отражалось раздолье зеленых полей, и в мягком, медлительном голосе слышался тихий, невозмутимый покой.
Всякий раз, когда я возвращался из деревни в свою землянку, я поднимался где-нибудь в стороне на высокую, открытую горку и оттуда долго с любовью смотрел на нивы и избы.
Долго смотрел… но в душе не было ни капельки зависти, нет, напротив: я решительно был доволен всем, всем.
Ведь глубоко в сердце цвели дорогие надежды и думались прекрасные думы.
Кроме того, я был молод, да, молод. А это что-нибудь значило…
Сенокос кончился.
Недели полторы я косил у наших мужиков на заозерных покосах.
Охоту начал утками. Намедни ходил за рябчиками.
Ох, вот уж был денек, только держись!
Дернула меня нечистая отправиться за рябчиками в ключистый кочковник, поросший непроходимо густым, старым низкорослым лесом.
Забрел так глубоко в чащу, как никогда еще не заходил.
Вдобавок заблудился, так как, прыгая с кочки на кочку по разным направлениям, я по рассеянности не запомнил дороги. Ни черта не запомнил – это бывает.
Хотя выводки рябчиков попадались часто, но я стрелял мало, и то, когда падал рябчик, его трудно было отыскать и еще труднее прорваться к нему сквозь сучковатую гущу, рискуя выколоть глаза или где-нибудь на сучке оставить нос.
Ноги мои то и дело обрывались с кочки, и я попадал в холодную, ключистую воду, из которой выскакивал как угорелый: лапти быстро засасывало вязкое дно, и едва можно было вытащить свои бродилы.
Уж вот везло как утопленнику. Ругательство сменялось смехом, смех – досадным ругательством.
Росс беспокойно смотрел на меня и, видимо, хотел тащить обратно по прежней дороге, но это было немыслимо: мы так безбожно колесили, что глаза жадно искали прямика.
Вдруг я услышал отдаленный громовой гул. Что это?
Выбрался на открытое место и увидел вдали черно-синий горизонт и по движению заметил, что идет громадная гроза прямо на нас.
Ххо! Еще этого недоставало, черт возьми!
Громовой гул повторился еще раз, и еще, и слышался все ближе, громче, решительнее.
Росс поднял морду, понюхал воздух и чуть-чуть протяжно взвыл: он не любил грозы и страшно боялся сверкающих молний.
Хотя солнце светило ярко и невозмутимо, однако все кругом как-то молча насторожилось, припало, точно перед ударом.
Мы выбрали повыше веретийку и послушно стали под навес густой, старой ели.
Внезапно налетел вихрь, закачались, пригнулись низко деревья, испуганно зашелестели, замотались.
Скрылось солнце. По небу понеслись быстро в разные стороны синие разорванные тучи, а за ними надвинулась огромная, густая сине-фиолетовая туча и начала заволакивать все небо над нами.
Я, как и всегда во время грозы, снял шапку, расстегнул весь ворот так, чтобы была открыта грудь, засучил рукава и спокойно открыто стал смотреть прямо в молниеносные глаза разрушения…
Так вот мне нравилось.
И всегда в эти черные, громовые минуты я думал о солнечном, розовом утре.
Кругом и в лесу почернело, как ночью.
И вдруг среди этой черноты изломанно дико блеснула молния.
Через несколько секунд зловещей тишины хряснул страшный, разрушительный гром и рассыпался звонко на мелкие куски.
– Тррра-рах!! Трах-тарр-тарр!
Эй, берегись, кому жить хочется!
И сильно полил густой, крупный дождь.
Потом снова блеснул изломанный огонь молнии и снова тарарахнул гром, почти около меня.
В этот момент я услышал треск и заметил, что недалеко, влево на открытом месте, вспыхнуло высокое, сухое дерево. Но дождь еще более усилился, полил дробнее, гуще и затушил огонь.
В воздухе стоял несмолкаемый гул:
– Гурр-урр-урр-рр!
Росс тихонько выл и вздрагивал при каждой молнии.
Мы промокли до последней косточки.
Гроза то ослабевала, то усиливалась еще яростнее. Гром с чудовищной силой ударялся о землю, далеко раскатываясь. Земля дрожала.
А я стоял без шапки, с открытой грудью, с засученными рукавами и улыбался: я думал о розовом, солнечном утре.
Росс выл.
Наконец, когда гроза чуть стала смолкать, мы приободрились и тронулись домой – что делать! – по прежней дороге.
Росс указывал дорогу, и мы колесили без конца. Брели упорно. Раздвигали ветви и осыпали себя крупными брызгами-водинками.
Лапти еще чаще срывались с мокрых мшистых кочек в воду и вязли.
Вернулись домой уже к ночи.
Иоиль радостно встретил нас с громадным костром.
Еще издали я кричал:
– Эй, Иоиль, спроси у моих лаптей, как им досталось от кочек.
Мы с Россом обезножели. Ухх!
Поспели грибы.
В воскресенье я взял наберушку и поплелся в березник за белыми грибами. Там их водится много.
Иоиль, Пич и Росс остались в землянке домовничать: сейчас жара, и я их понимаю.
В березник меня понесло по ближайшей тропинке через ключевое болотце, и я, понятно, весь вымок.
Зато спугнул два выводка рябков. Только фыркнули: фуррр… и спрятались.
Ну, прекрасно.
В березнике я живо нарезал полнехонькую наберушку белых грибов, несколько синявочек и из милости взял два подосиновичка.
На душе было светло, весело. Я принимался свистать на разные лады и бродил бесцельно, пока наконец не натолкнулся на тенистую полянку, возле которой пробегал, серебрясь на солнце, журчеек.
Ото! Тут кто-то был. Кто? Конечно, крестьянин.
Около журчейка лежал черпак, красиво сделанный из бересты.
И ясно представились заботливые руки крестьянина, его добрая улыбка, с которой он, напившись, клал черпак на полянку для всякого, кому он мог понадобиться.
Как это хорошо.
Я с благоговением взял черпак и гордо крикнул:
– За здоровье крестьянина! – и выпил черпак студеной, ключевой водицы.
Потом улегся на полянку и долго еще думал о крестьянине и черпаке из бересты.
Где-то высоко над головой свистела пташка, а внизу с ветки на ветку перепрыгивали синички-московки или, по-нашему, слепыши, отыскивая под листками червячков, букашек, и тихо разговаривали между собой о своих синичьих делах:
– Синь-синь-синь-синь…
Страда кончилась. Слава Земле!
О, как давно я не брался за свои записки: все было недосуг.
Лишь изредка я забегал навестить землянку и Пича, а все остальное время пропадал в полях у наших крестьян.
Потрудиться пришлось здорово. Хорошо.
Работа на полях кипела быстро и весело. Со всех сторон неслись голоса, звонкие песни, смех.
Кругом пестрели ярко-красные, розовые, пунцовые бабы, девки, синели синехребтые мужики, копошились пестроцветные ребята.
У всякого перед носом было любимое дело, свое собственное, родное дело.
Частенько я отрывался на секунду от работы и смотрел на золотое приволье, на деревню, на трудящихся и, глубоко вздыхая, не считал себя достойным даже завидовать этим счастливцам…
Только крепко, с какой-то далекой надеждой, снова сжимал в руке свой серп, захватывал другой рукой стройную рожь и быстро сносил ее.
Снопы связывал туго-туго.
Домой я должен был бы возвратиться несколько раньше, но из Заречной пришел крестьянин Ефим и утащил меня на зеречные поля, на небольшую помочь – нужно было пособить сжать рожь одному старику.
Третьеводни я вернулся, а сегодня вечером ходил на охоту и принес пару рябчиков.
Боже мой, как незаметно летит время: вчера на охоте мне на плечо упал желтый листик. Я чуточку вздрогнул, остановился, осмотрелся кругом и сразу понял и почувствовал, что уже пришла первая осень. Да.
И не слыхать пения птиц.
Однако мне ничуть не было больно.
Да, я любил лето, но я любил и осень.
Осенью было много охоты, и, главное, мне нравились осенние золотые одежды, которые спадывали, и та, какая-то особенная, высокая-высокая, безвоздушная прозрачность воздуха.
Кроме того, мне нравилось ходить по земле, усыпанной желтыми листьями и красными – они так приятно пахли осенней землей и мягко шуршали под ногами.
Я принес вчера также массу красной рябины Пичу и себе, – любим ее одинаково. Пич страшно обрадовался рябине и с усердием принялся за нее.
Я насбирал немного и брусники бело-алой, и фиолетовой черники.
Завтра прибежит Иоиль, – вот уж посбирает ягод, грибов – только ешь на здоровье.
В заречных лесосеках еще есть много малины – он побывает и там.
Утром сегодня я поставил в узинах речки три морды и потом спустился с удилишками на плотике, до омута.
Клев был плохой. Выудил одного только хорошего красноперого окуня да толстомордого язька, а остальное – незрящая мелочь.
Морды не смотрел – повременю еще.
Сейчас я пишу на нарах. Под нарами спит Росс, а Пич все возится с красной рябиной и посвистывает про себя.
Погода шемашится.
Целый день сеял дождик. По небу без конца тянулись серые тучи.
Мы сидели в землянке.
Я и Иоиль были заняты тем, что стругали из лучины спицы для нового птичьего садка…
Росс от безделья лизал свои толстые лапы и посматривал на нас.
А Пич вполголоса, но с азартом рассказывал нам какую-то замечательную историю из своей жизни.
И по тому, как он мигал глазами, и по тому, как он мечтательно держал набок свою голову, мы решили, что он сам выдумал эту историю и заврался без всякого стеснения.
Но ведь, во-первых, – была мокрая погода, а в-последних, – Пич действительно мог похвастаться молодостью – и это ему простительно.
Мы слушали его сколько могли.
Потом наступила наша очередь.
Иоиль рассказывал про русалок:
– В деревне Митревна баяла, быдьто русалчата в болшущих омутах водятся и быдьто в озерах тоже, вот ей-бог. Только в озерах мене – они щук пужаются. И в озерах дно бывает, а в омутах дна нету – там им вольно. Только у нас русалки маленькие, как девчонки. Зато, бают, ох, какие баскущие: волосы-те зеленые до пяток, глаза-те круглые, как блюдечки, и на шее у всех бусы-бубусы разных, что есть, цветов. Выплывают быдь-то русалки с новым месяцем и играют в разные игры да забавы, а как петухи запоют – они в омут мыряют, вот ей-бог. Лонись это мы с Ондрийком-Мякинником собирались пойти посмотреть на русалчат. Ладно. Днем-то сговорились, значит, а, как ночь пришла, Ондрийко сдрефил, испужался, а я один не пошел, ну их… Может…
Иоиль с легким намеком взглянул на меня. Пришлось, конечно, пообещать ему сходить к омуту, как только народится новый месяц.
А дождь шел, шел, шел.
Я стругал спицы, жевал стружки и поглядывал на серое небо.
В окошко тупо постукивали дождинки.
Дождливое состояние в конце концов подействовало на душу: я начал раздумывать о скуке старой девы. Нашел эту мысль ничуть не хуже погоды и запел одну подходящую песню.
Запел нарочно медленно, однотонно, слегка подвывая:
Затянулось небо парусиной.
Сеет долгий дождик.
Пахнет мокрой псиной.
Нудно. Ох, как одиноко нудно.
Серо, одноцветно-серо.
Чав-чав… чав-чав…
Чав-чав… чав-чав…
Чавкают часы.
Я сижу давно – всегда одна —
у истертого, привычного окна.
На другом окошке дремлет
одинокая, как я,
сука старая моя,
сука – «Скука».
С ней всю жизнь мы просидели
у привычных окон.
Все чего-то ждали, ждали.
Не дождались. Постарели.
Так всю жизнь мы просмотрели:
каждый день шел дождик…
Также нудно, нудно, нудно.
Чав-чав… чав-чав…
Чав-чав… чав-чав…
Чавкали часы.
Вот и завтра это небо
затянется парусиной.
И опять запахнет старой
мокрой псиной.
Почти полмесяца шли дожди, зато после целую неделю я не мог выбраться из лесу, потому что пришли дивные, ясные дни, и я охотился.
Вот теперь настоящая осень – желтая и прозрачная.
Эх-хо! Что делается кругом.
Быстро спадывают золотые одежды со стыдливых березок и лип. Уж много оголенных совсем.
Издалека сквозь фиолетовую сеть верхушек можно красиво видеть алую рябину.
А что творится в птичьей жизни!
Масса уже улетело птах в другие заморские, теплые края. Остались только запоздалые, далекие путники и теперь торопятся страшно. Перелет их в разгаре.
Летают семьями, собираются в стаи, на поедях о чем-то звонко толкуют, улетают.
Над головой то и дело слышно то снегирей, то чечеток, то щеглов, то синиц, то клестов.
Глаза невольно посматривают на небо и частенько любуются четким, строгим треугольником журавлей высоко-высоко в небе или длинной вереницей диких гусей, которые так славно перекликаются в выси.
В лесу и на полянах появилось много незнакомых, пролетных птиц.
И все полны общих забот о своем далеком пути.
Я ходил по лесу и прощался со своими крылатыми друзьями до новой весны, благодарил их за прекрасные песни, за дружбу.
– Черт возьми, эй, друзья мои! – кричал я им, сняв шапку, – до свидания! Мы еще увидимся. Весной каждый из нас будет снова в своем гнезде, и мы снова будем вместе встречать с песнями солнышко. До свидания! Спасибо вам за любовь, за дружбу и за песни!
Дни стояли высокие, солнечные, тихие.
В лесу сквозь просветы далеко было видно, как кружились в воздухе падающие желтые листья, как откуда-нибудь пугливо пробегал заяц или с дерева на дерево ловко перепрыгивала белка.
И кругом был слышен малейший шорох. Под ногами шуршали листья, и дорогу быстро перебегали зеленые ящерицы.
На Извивушке была тоже осень.
По гладкой, холодно-прозрачной воде плыли желтые продолговатые листочки ивы. Иногда к ним подбегали серебряные стрелки и обклевывали их, блестя на солнце.
Мой дощатый плотик выглядел каким-то печальным, осиротелым, точно потерял что-то. Лето? Комаров нет. Это хорошо.
По утрам бывает легкая изморозь. Полуденное солнце не жжет. Дни стоят ясные, высокие, спокойные.
Вечереет рано. И потому вечера длинные, красиво задумчивые, золотые. После заката быстро темнеет и становится очень прохладно, сыро.
Ночи густо-синие, многозвездные.
Часто падают с неба звезды: успевай только загадывать желания, чтобы исполнились…
А пока я кончаю записки до весны.
Как птица перестает петь до весны свои песни, так перестаю писать и я: ведь эти строки для меня – тоже песни.
Мы проживем среди природы, может быть, еще с месяц – не больше. И этот весь месяц я посвящаю своей охоте.
Я уйду в глубокий лес и, как дикий зверь, буду бродить там и по ночам разводить огромные костры.
А там – пойдет снег, и мы с Россом поплетемся зимовать в теплую избу.
В деревне ждет меня школа, ждут маленькие и большие ученики; надо со всеми поделиться своей грамотой, своими мыслями.
Завтра Иоиль забирает с собой Пича и уходит домой – ждать меня.
Завтра же мы с Россом распростимся с землянкой и уйдем – котомка с запасами уже готова – лесовать в глубокую, дикую глушь лесов и озер.
Если встретим жадную росомаху, медведя или волка – посмотрим, кто сильнее.
Если не встретим – будет лучше, потому что так спокойнее будем кочевать, наслаждаться первобытной, дикой непроходимостью, так будем спокойнее дышать настоящим лесным духом, который так приятно пахнет столетними пнями, вечным мхом и гниющими листьями; и пахнет также сильными побегами и золотыми растущими надеждами…
Зима прошла.
На пригревах зазеленели проталинки.
Кончился долгий, снежный, печальный сон, холодный сон земли.
Пора вставать! Пора вставать!
Солнце! Солнце! Столько солнца!
Солнце в небе, солнце в каждой душе, солнце в каждой разбухшей почке дерева.
Хочется, закинув голову, куда-то безудержно бежать, кого-то встречать…
Весна! Весна!
За растаявшим Мартом пришел Апрель – месяц половодья.
Прилетели дикие утки, обрадовались половодью.
А над озимыми, ярко-зелеными полями целый день звенит жаворонок.
Развеснилась весна.
Распахнулись голубые ворота, высокие-высокие, выше неба.
Шумно вбежал в голубые ворота желанный гость – Май-месяц; за ним влетели с звонкими песнями птицы и рассыпались повсюду душистые, пестроцветные цветы.
И начался беззаботный Праздник Зеленой Жизни.
– Что такое Май-месяц?
Это – празднество Рождения Земли.
В этот счастливый месяц Бог создал Землю, и каждую весну в эти дни он спускается с неба и гостит у Земли.
Оттого, может быть, в майские дни так мудро просветляются человеческие души и сердца наполняются чистой, утренней любовью. А Земля наряжается в цветы, как невеста.
Или многоцветный Май – это одна беспрерывная, ликующая, радо-радостная Песня, которую поет сама Земля. И под эту дивную Песню звери парами рыскают по лесу, птицы вьют гнезда и каждый человек, тайно улыбаясь, говорит:
– Люблю…
Что же такое Май-месяц?
Это – одно солнечное, розовое утро, когда молодые, стройные березки-белоножки выбегают из рощ на зеленый простор лугов, берутся за ветки, как за руки, и пляшут, и кружатся чудесными хороводами по цветистой траве, сияющей росинками-радостинками.
Или, может быть, Май – это самая красивая, одна-единственная сказка, которую слушают вместе и букашки, и звери, и птицы, и люди, и все глубоко понимают ее – любимую.
Ах, Май, Май!
Серебряные стрелки, серебряные стрелки!
В полдень,
на речушке Извивушке,
на дощатом плотике,
под зелеными грусточками,
схоронившись от жары,
я лежу.
И, прислонившись
носом к самой воде,
я гляжу на зеленое дно,
и мне все ясно видно.
Вот из-под плотика
выплыли остроглазые
рыбки и,
сверкнув серебром, убежали.
Из-под камешка
вдруг выскочили пузырьки,
бусами поднялись наверх
и полопались. Кто-то
прошмыгнул в осоку
и оставил мутный след.
Где-то булькнуло.
И под плотик пронеслась
стая серебряных стрелок.
Успокоилось.
Рука течения снова
спокойно стала гладить
зеленые волосы дна.
На солнечном просвете
сквозь кусты в воде
что-то – мне не видно что —
беленькое, крошечное
заиграло радужными лучами,
как вечерняя звездочка.
У! Из-под плотика выплыла
целая туча рыбешек.
И вот потянулись вперед,
рассыпались, зашалили,
точно только что выпущенные
школьники из школы.
Ужо подождите учителя —
старого окуня
или учительницу —
зубастую щуку,
они вам зададут!
Ото! Все разбежались.
То-то. Кто куда?
Потом все – откуда? —
снова столпились
и побежали дальше.
Над головой веретешко
пролетело, за ним кулик.
Ветерок подул,
закачались кроткие,
зеленые грусточки
над речушкой —
Извивушкой.
Хлюпнула вода под плотиком,
стрельнула серебряная
быстрая стрелка
и запуталась в шелковых
ленточках осоки.
Ну вот… Ах ты!..
Вот напугала дикая:
чуть не в нос стрельнула
шальная стрелка.
Я даже отскочил.
Дни мелькают быстро, весело и пестроцветно, точно юркие, разыгравшиеся мальчишки один за другим перевертываются через голову.
С утра я начинаю на разные лады распевать песни, которые нигде не слышал, и сам придумываю слова и сейчас же забываю их.
Часто мы поднимаем спор с Иоилем:
– Иоиль, – кричу во все горло, – я старше тебя, разве ты это не видишь?
– Нет, нет, – отвечает Иоиль, – я старше тебя.
– Нет, я!
– А нет, я!
У меня доброе сердце, и я уступаю первый, но с маленьким условием:
– Ну ладно, Иоиль, я согласен, что ты старше меня, но только на один год. Хорошо?
– Хорошо.
Я прекрасно лазаю по деревьям и каждый раз проделываю это с огромным удовольствием.
Особенно, когда есть ветер, положительно не могу удержать себя: я выбираю самое высокое дерево, взбираюсь на верхушку и, сильно раскачиваясь, нарочно подставляю лицо порывам ветра.
Однако мое мальчишество ничуть не мешает мне быть взрослым в свое время. Оно искренне делает меня счастливым и сильным.
В порывах ветра я часто слышу мудрые песни о безудержной воле. И, главное, так я ближе и глубже ощущаю радость жизни.
Кто осудит меня за то, что я весел и счастлив? Никто, да.
А я смело осуждаю всех печальных и несчастных.
Осуждаю вас, несчастные, за то, что вы безжалостно оскорбляете горестными слезами свою прекраснейшую Мать-Землю, которая позвала вас на радостный пир жизни. Осуждаю и за то, что знаю, как люди стыдятся видеть самих себя по-детски веселыми, вольными и не стыдятся показать друг другу своих жалких слез взрослых рабов; слез, оскорбляющих прекраснейшую Мать-Землю, которую воспевают птицы, украшают цветы, любят дети и радуют лучи солнца.
О, Земля!
Смотри: я скорблю твоей скорбью за взрослых печальных гостей, оскорбляющих тебя, лучезарную…
О, Земля, Земля!
Смотри: зато я люблю тебя горячей, истинной любовью желанных гостей-детей и радуюсь твоей радостью за них, величающих тебя, мудрую, родную, жизнедатную.
Я пляшу, кружусь от веселья, падаю на землю, целую каждую травинку, каждый листочек и так крепко и много целую землю, что потом она долго хрустит на зубах, а я, как птица, беззаботно распеваю свои песни, и душа сладостно жмурится от ослепительного счастья, точно глаза от утреннего солнца.
Да, жить – значит, каждый новый миг открывать новую радость.








