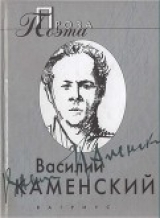
Текст книги "Василий Каменский. Проза поэта"
Автор книги: Василий Каменский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 11 страниц)
Василий Каменский. Проза поэта
Вступительная статья. Авиатор, футурист, анархист
Если разглядывая фотографии знаменитых футуристических действ в Политехническом, вы не знаете наверняка, как выглядит Василий Каменский, – ищите поэта с нарисованным аэропланом на лбу. Это он. Остальные, кто могут встретиться с ним в обнимку на антикварных дагерротипах, – Маяковский, Крученых, Хлебников, Бурлюки, Гуро, Лившиц, Татлин, Кульбин, Ларионов. «Гилея» – «контркультурная» группировка, в которую входил тогда Каменский, – была, пожалуй, самой крайней как в поэтическом, так и в политическом смысле.
От автора книжки-пятиугольника «Танго с коровами» – обоймы «железобетонных поэм», оттиснутых на оборотной стороне обоев, – публика ожидала какой угодно прозы, но только не такой, как «Землянка» или «Степан Разин». После строк «Весенней нефтью пахнет шум / 26 мест в автобусЕ рубинавом», проступивших сквозь настенную бумагу, после участия в «Садке Судей» немногие были готовы, как Каменский, к воспеванию «кумачовых душ» разбойной вольницы волжских казаков или истории творца, бежавшего прочь от утрированного города-убийцы в безлюдную глушь девственного леса. «Землянку» тогдашняя критика списала на счет увлечения Каменского гамсуновским «Паном», но «Разин» со всей необратимой очевидностью продемонстрировал «самовитость» (неологизм Каменского) нового прозаика.
Каменский начал «Разина», налаживая хозяйство на хуторе Каменка в тридцати семи верстах от Перми, где оправлялся после серьезной катастрофы на польском аэродроме в Ченстохове. Один из первых русских профессиональных авиаторов, он на своем аппарате «Блэрио» поднялся в воздух во время грозы, из-за шквального ветра потерпел аварию и получил тяжелые травмы. Поторопившаяся варшавская пресса писала тогда: «Погиб талантливый поэт и знаменитый летчик». Эти некрологи оказались важным для Каменского публичным признанием дара и мужества. В Каменке, изживая физические и психологические последствия аварии, он вернулся не только к корню своей фамилии, но и к «корню своей личности», к первичному коду творчества, к самому кристаллическому принципу сознания художника, вбирающему в себя и использующему все последующие, приобретенные, эмпирические и теоретические «вещества», к земле и прозе, а точнее «проэзии», как впоследствии определит Хлебников подобное словотворчество. Каменку поэт называл в стихах «своим святым местом».
Дальше «Разин» рождался на пароходе, идущем из Перми в Астрахань. В каюте похожего парохода за тридцать лет до этого, в 1884-м, родился и сам будущий поэт, так что уж кто-кто, а Каменский имел кое-какие права на «палубу» современности, с которой футуристы низвергали порой даже самых «святых».
«Проэзия» Василия Каменского была для современников и остается для нас доказательством самобытной природы нашего «будетлянства» по отношению к европейским, итальянским в частности, футуристическим образцам. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить воспетого Маринетти «Мафарку-футуриста», танцующего с одиннадцати метровым фаллосом, и «Стеньку-песневольника», в счастливых слезах поедающего с ладони родную землю. Участники европейского футуристического проекта мечтали о появлении из «яйца технологии, оплодотворенного титаническим духом» нового гомункулуса, нетленного андрогина, руководящего временем. Русские «будетляне» искали своего сверхчеловека в повторяющихся циклах национальной истории, подразумевая под «высшим поэтическим типом личности» проекцию волевого инстинкта всего народа.
По свидетельству Бурлюка, Каменский трактовал поэзию так же, как и пространственный узор. В таком случае «Разин» и другая проза, а впоследствии и драматургия стали эпической фреской русского бунта, панорамой, в центре которой бунтующий дух приобретает антропоморфные черты, и вот уже мы чувствуем наивную силу и неукротимую веру заранее обреченного великана и гусляра, прозревшего, что «песня сильнее меча». Разин исполнен в безукоризненном соответствии с не меняющимися требованиями мифа о герое, восставшем против смерти, страдающем и умирающем в поисках тайны вечной жизни. Опубликованный в сопровождении рисунков Лентулова, Кульбина, братьев Бурлюков и самого автора роман-сказ обогащен футуристическими неологизмами, избавившими «этническую» манеру письма от ненавидимой русскими «будетлянами» салонной стилизации. Изобретенные слова порой сложно отличить от удачной фольклорной находки, что еще раз подтверждает «будетлянское» положение о «народе-футуристе». Тому способствовало весьма внимательное отношение Каменского к народным песням о Стеньке и их литературным вариациям, собранным этнографами-народниками, первыми исследователями неофициальной российской культуры конца XIX века.
Как и полагается в сказе, стихи пронизывают повествование подобно кровеносным венам и артериям, именно они создают внутреннюю динамику текста и в первом чтении запоминаются прежде всего. Помимо непосредственных поэтических «номеров» – песен персидской принцессы, молитв гусляра о воле, хоровых «величаний гостя» – чередующиеся реплики «небооких» разинцев, разговоры детей, звуки битвы звучат как стих, песня, поток.
Василий Каменский всю жизнь относился к авторам, завороженным кровавыми цветами народных восстаний, после которых остается на дне души мудрый пепел. По-другому не добудешь этой материи. Критикам эпохи расцвета социалистического реализма это давало некоторые основания упрекать его в «скрытой пропаганде махновщины», а позже, уже перестроечной критике, возвращавшей нам литературу начала века, журить Каменского за «эстетизацию беспощадной ненависти». Солидарность с теми, у кого «Воля – расстегнута. / Сердце – без пояса. / Мысли – без шапки. / В разгульной душе / Разлились берега», единство с теми, кому «дано любить волю выше жизни», вряд ли найдет понимание у исследователей и просто читателей, ассоциирующих себя с каким бы то ни было государственным устройством. Такая солидарность и такое единство оправдываются, только когда питаются высокой иррациональной уверенностью в том, что «чудо живет на русской земле – чудо спасет». Согласно этой вере, молот власти замахивается и бьет по наковальне народного быта, чтобы летели искры нового несогласия, высекает из вековой народной обиды очистительный огонь духа, выжигающий порчу и восстанавливающий истинные пропорции между абсолютом и бытием, образцом и подобием. Отсюда столь слышен в «Разине» христианский, подвижнический мотив. Казненный и чудесным образом спасший свою душу от первородного адамова греха разбойник отсылает к евангельскому сюжету о распятом рядом со Спасителем и, благодаря вере, стяжавшем небесную благодать преступнике.
Роман имел успех. Это доказывается хотя бы тем, что его второе издание было остановлено военной цензурой. Власти терпели радикализм жеста в поэзии, пока они слышали: «Эй Колумбы – Друзья – Открыватели / Футуристы искусственных Солнц / Анархисты – Поэты – Взрыватели / Воспоем карнавал Аэронц» – но строже относились к радикализму содержательному, проявившемуся в прозаическом сюжете и выборе культивируемых героев.
У «сказителя» всегда есть особая, личная, субъективная связь с избранным образом. В детстве на Каме будущий скандальный поэт играл со сверстниками в «стенькиных молодцов», гоняясь друг за другом на бревнах – «стругах». Гимназистом Каменский зачитывался, как сказали бы сейчас, «лоточным чтивом», историями про выдуманных разбойников и душегубов – Яшку Смертенского, Ваську-Балабура и Маркиза – Вампира Трансильванского. Не случайна в «Разине» и повторяющаяся «сиротская дорога» – Каменский воспитывался без родителей. Даже самые драматические страницы, посвященные заключению Степана в клетку, его мукам и казни, были отчасти пережиты поэтом: в 1905 году он возглавлял забастовочный комитет в Нижнем Тагиле, за что был арестован, содержался в одиночке, где выдержал долгую и мучительную сухую голодовку. Впрочем, вряд ли было бы справедливо преувеличивать «социальное пророчество» романа, вышедшего в 1916 году. Каменского больше тревожил внутренний, но не внешний смысл восстания. «Увы, живет во мне ветхий человек, не весь еще распался, еще сильно устремляется против духа», – объясняет свою жизнь Разин накануне славного похода на Восток.
После «Разина» Каменский не раз еще вернется к портретной галерее русских вольников, напишет «Емельяна Пугачева» в 1931-м, «Ивана Болотникова» в 1934-м, будет искать в национальной традиции самозваных героев, воплощающих в нашей истории коллективный евразийский противогосударственный инстинкт, традиционно отличающий русский бунт от европейского – изначально индивидуалистического анархизма. Но именно с его «Разина» начинается в русской литературе ряд «незабываемых разбойников», продолженный Хлебниковым, Цветаевой, Есениным, Багрицким.
Архив Василия Каменского представляет собой редкое сочетание интереса к наивному, «необработанному» творчеству (Каменский, например, всю жизнь коллекционировал детские рисунки) и страсти к инструментальной новации. Хотя литературный выбор Каменского в течение жизни и смещался от стихотворных экспериментов к эпической, распевной, сказовой прозе и драматургии, он продолжал заниматься визуальной поэзией, и даже сегодня принципы его «свободно читаемых витражей» и «нарисованных стихов» используются веб-дизайнерами в Интернете для оформления сайтов, посвященных радикальному искусству.
Алексеи Цветков
Степан Разин
Привольный роман
Богатырский Русский Народ.
Тебе – мое молитвенное удивление перед жизнью твоей великомученской.
Тебе – мои до родной сырой земли земные поклоны за неизменную мудрую любовь твою к Русской Земле, и благами, и печалями, и красотой которой ты благодарно живешь.
Тебе – мои гордые, молодецкие радости – во имя твое могучее, кондовое, доблестное, коренное – русское.
Тебе – мои глубинные таланты, яркокрылые, раздольные песни – во славу твою океанскую, миротрепетную.
Тебе – мои силы все без остатку – твоей отдаю вечной борьбе за вечную волю.
Я чую, я верю, я жду – скоро грянет победный час – и совершится великое чудо: богатырский Русский Народ пасхальнозвонными, семицветными радугами раскинет свои вольные дни по Русской Земле и сотворит жизнь, полную невиданно-неслыханных чудес.
Я жду и готовлюсь.
Из сердца России разливно течет Волга, завершая бегучий путь океаном Каспийским.
Яснобедрые звонкие берега любовно берегут течение обетованной реки.
На веки верные сторожа – горы Жигулевские не дадут в обиду славу знатную, чудороссийскую, червонную.
А Великий Народ Русский, населяющий землю приволжскую, жил сыздавна, живет на здоровье сегодня и несокрушимо будет жить впредь – бурным расцветом сил своих матерых, землеродных, бурным разливом талантов своих самоцветных, бурной любовью своей неизменно-истой к России Вольной, к России Коренной, к России Чугунной, к России Молодецкой, к России Нашей.
(Из предисловия к первому изданию романа. Москва. 1915 г.)
АлёнаВ голубиный, полетный, хрустальный полдень весны, на берегу Дона, далеко от людей, на животе лежал молодой Степан, старший сын атамана донского, на песчаном бугре, у кустов, и расцветно смотрел. Рука застыла на гуслях.
На берег прибежала юная казачка Алёна – знатная красавица черкасская – гибкостройная, русокудрая, небоглазая, вся трепетная, вся лебединая, вся призывная.
Алёна осмотрелась кругом и, не заметив лежащего Степана, скинула с себя легкое одеяние и с визгом стала бегать по горячему сыпучему, червонному песку, пересыпая его со смехом из горсти в горсть и раскидывая вокруг.
Алёна ложилась на песок кверху животом и весело перекачивалась с боку на бок. Или вдруг вскакивала, выпрямлялась изгибно тростиной, протягивала тонкие руки к солнцу и обнимала лучистое тепло благодарно и медленно-лениво. Или забегала в реку, и плескалась там, и выбегала в брызгах.
Степан смотрел бурно. И будто не смотрел, а жадно-ненасытно пил большущими глазами. Пил. Пил.
Смуглое, гибкостройное, царственное, девичье тело Алёны родилось для Степана чудесным чудом, дивным дивом, невиданной венчанной красотой.
В наклонениях стана, в очертаниях рук, в изгибах ног, в округленностях груди и плеч, в гордой высоте небоглазой головы, несущей на себе будто утрохрустальную поющую птицу, – Степан увидел свою судьбу – свою невесту.
И сказал себе решение:
– Алёна будет женой моей.
Сам знатный своей красотой, силой, удалью, гуслярскими песнями, – он верил заранее в согласие Алёны, и прямой, и ярко-цветной, и солнце-радостной ясно открылась дорога дней впереди.
И когда вдоволь набаловалась, накружилась, натешилась своей девичьей юностью Алёна, когда заметно устала от весенних радостей, и усталая легла на песок перед солнцем и задумалась, Степан поднялся, встряхнул золотом кудрей, взял свои гусли и плотно подошел к Алёне.
Вздрогнула Алёна, хотела вскочить; но видно не хватило сил, и она закрыла румяное лицо руками от стыда. И затихла…
Степан стал на колени:
– Алёна, ты судьба – невеста моя.
Она молчала.
– Алёна, не стыдись меня.
Она молчала.
– Алёна, откройся и взгляни.
Она молчала.
Степан нагнулся к ногам и поцеловал ступни ее.
– Целую счастье венчанное.
Алёна чуть шевельнулась от огня поцелуйного.
– Алёна, нас благословляют солнце, песок и Дон. Ты сама пришла к суженому. Я ждал тебя.
Она молчала.
Степан снова нагнулся и поцеловал колени невесты.
Алёна встрепенулась. Грудь стала часто подниматься.
– Алёна, ты только одно судьбинное слово скажи мне, скажи: «да».
Тихо, чуть слышно, но жгуче-твердо Алёна решила:
– Да.
– Алёна моя.
– Степан мой.
– Невеста.
– Жених.
– Дорога.
– Путь.
– Лебедь.
– Сокол.
– Ветка над головой.
– Горячий песок.
– Откройся.
– На.
– И вот утро – и вот счастье.
– День желанный.
– Дай прикоснуться.
– Люблю тебя.
– Люблю.
– Жена.
– Муж.
Солнце лилось на землю, нестерпимо жарко раскаливая песок.
Дон катился разливно, бирюзовно.
Чайки играли в небе молниеснежные.
Гусли лежали спокойно. Ждали.
Так рождалась любовь на золотом берегу.
Так Алёна стала женой Степана.
Жизнь звалаДумно думал вольный казацкий сын Степан.
Да и впрямь заполнилось сердце в печалях неизбывных, неизлютных, неизгаданных.
Ходил по сыпучему берегу Дона с своедельными гуслями, распевал песни, какие сердце рождало. Валялся у воды. Листья смородины жевал. Птиц слушал. К шелестинности дубовой прислушивался. Удивлялся солнцу жизнедатному. Падал в траву душистую, жадно травянистый аромат вдыхал.
Ветром улыбался донским волнам.
И опять удивлялся всему на свете.
По струнам гусельным, как по своим кудрявым волосам, легкой рукой проводил и откликался отзвонким, мягким, степным голосом.
Песни складывались вольно и цветисто.
Слова, будто птицы, слетались с кустов, с солнца, с Дона, иные шли от сердца, иные отскакивали от струн.
И все об одном думно думал Степан.
Чудесно складываются песни, звеняще, разливно поются. А люди живут худо, не умеют жить, будто в остроге за решеткой сидят, будто дни в наказание приходят, в пытку лютую, нестерпимую, нещадимую.
Так ли это?
Степан смотрел кругом детскими большими глазами, пьяными от молодости, и спрашивал:
– Так ли это?
А жизнь, что разгульный ветер, что горячие лучи солнца, что малиновая даль, что трава душистая, что полёты, да песни птиц, что сердце молодецкое, что душа размашная. Жизнь звала на раздолье привольных дней, на богатырские пиры, на берега чудесной были, на праздники неслыханных подвигов, на сотворение из песен жизни.
Жизнь звала неотступно…
Степан чуял в себе весь трепет неизбывной силы, всю могучую моготу, все одаренье, землей-матерью данное, чуял правду в груди утрозарную, чуял многое в малом, знал, что великое может свершить, ежели волю свою разгонит что есть силы.
Жизнь самотворная, самочудная, истая. Жизнь прытью трепетная.
Мятущийся дух – крылья вольной затеи.
Мятущийся дух – пути неожиданно великих откровений.
Бродяжная русская душа не знает покоя, как не знает берегов, когда хочет радугой размахнуться.
Не знает, но любит покой, но ищет созерцания мудрой тишины, но радуется синему разливу глубинного величия.
А разлив тот – в далевых непочатых дорогах живет. И надо понять, расчухать да полюбить эту раздольность зазывную, да так полюбить молодецки, чтобы до неба ростом подняться и установить жизнь вечной вольности во славу мирославную, коренную, кондовую, доблестную, нерушимую.
Благо, широко пролегли дороги сиротинные и, будто реченьки горя людского, кровью лились из глубин рассейских на вольнолюбивый Дон.
Будто знали, кто на берегу стоит да буйным ветром волнам улыбается, да соколиными глазами в даль бирюзовую зорко глядит, да крылья на взлет направляет:
Так этому и быть!
Степан поднял огромный камень и бухнул в воду, будто решил:
– Кладу свою голову. На!
А было такВесной 1665 года знатный донской атаман Тимофей Разин, по прозвищу Донская Борода, со своим большим казацким отрядом пошел на ратную помощь войску князя Юрия Долгорукого против поляков.
С атаманом Тимофеем Разиным в походе были его молодые сыновья, Степан и Фрол.
Степан богатырским сложением и удалым умом походил на отца, да и отменныя песни выдумывал, распевая про волю молодецкую.
Фрол был нрава кроткого, грустного; и звали его Птицей-Девицей.
Провоевав до осени, казаки стали просить своего любимца-атамана Тимофея Разина, чтобы выхлопотал у князя Юрия Долгорукого отпуск домой на зиму.
Тимофей Разин ударил челом князю о воле казацкой.
Князь Юрий Долгорукий, славившийся своей жестокостью, наотрез отказал Тимофею, пригрозив ему перекладиной.
Возмущенные черной неблагодарностью князя за свою помощь, казаки собрали круг и порешили уйти домой самовольно. И ушли.
Князь Юрий Долгорукий бросился за казаками в догоню. Догнал их, учинил скорый суд и знатного донского атамана Тимофея Разина разом вздернул на виселицу.
Степан и Фрол, потрясенные нежданной, негаданной бедой, бывши сами свидетелями смертной расправы над своим любимым отцом, скрылись тотчас же, клятвенно замыслив не только отомстить за отца, но разделаться с-одноряд со всеми князьями, боярами, воеводами и знатью Московского государства, которых не терпели и казаки, и весь русский народ, закабаленный крепостным гнетом.
Степан и Фрол в опор погнали на верных донских конях на сиротские дороги. Поведали свое горе беглым удальцам, пораздумали, как быть-бытовать, как утешиться вдоволь без остатку, поразвеяли тоску мученскую сердечными встречами с молодцами-своевольниками. Видно полегчало, когда затянул Степан:
Времячко настало дивное —
Дивные вершить дела.
Лейся песня переливная,
Закуси, конь, удила.
Ой ли, молодчики,
Соколики ясные,
С Дону на Волгу направим пути!
Знай лети!
Не сворачивай!
Х-х-эй!
Времячко приспело спелое.
Выросла в лугах трава.
Размахнись ты, удаль смелая, —
Отчаянная голова.
Выравнивай!
А до поры до времени вернулись осиротелые братья Разины домой, на Дон, на ожиданье.
Считали бедноту за скотовСтоном стонала земля рассейская под ярмом царя Алексея Михайловича.
Будто вода в половодье, полнилась крестьянская жизнь горем смертным, горем взывающим.
Да и сыздавна так было.
В обычае на Руси сыздавна царские власти считали бедноту за скотов.
Людьми или холопами назывались вообще рабы, вошедшие в это звание по долговым обязательствам или родившиеся от рабов. Иные бедняки, обманутые и угнетенные произволом, продавали себя с детьми и со всем потомством, отдаваясь на вечную кабалу по записям.
Иные отдавались в холопство заимодавцам по суду, когда не могли выплатить им следуемой суммы. Кабала служила владельцу для предъявления его прав на раба.
Дворянин-помещик, убивший беззащитного крестьянина, особенно собственного, редко ответ держал.
Еще при царе Федоре Ивановиче бояре приговорили: если господа будут представлять к суду своих крестьян и обвинять их в преступлениях, – крестьян подвергать пыткам по одному слову владельцев.
Ежели владелец убьет кого захочет, из крестьян другого владельца, последний брал из имения убийцы на выбор любого крестьянина с женою и детьми без их спроса – совсем как безответную скотину.
Дворянин или сын боярский мог вместо того, чтобы самому подвергаться правежу, посылать на истязание мученское своих бедных людей.
Сам владелец имел право наказывать своего человека, как хотел. Безо всякого суда и следствия виновного призывали, скидывали с него платье и клали на брюхо; двое садились ему на голову, двое на ноги и били его прутьями до того, что у него рассекалась кожа.
Посады и черносошные села были обременены несносными повинностями. Бедняки платили царскую дань, полоняночные деньги, четвертные, пищальные. Отбывали всяческие повинности – возили к селитряным заводам дрова или золу или платили ямчужные; участвовали в постройках городов по разбитию для каждого посада или волости, сколько надо сделать городской стены или насыпать валы. Ставили на ямы охотников, содержали их. Доставляли целовальников и сторожей к тюрьмам и давали им обложные деньги. Мостили мосты по дорогам. Натурою давали стрелецкий хлеб и сами возили по местам. Возили царских гонцов и всяких служилых людей. Строили дворы воеводам. Деньги давали в приказную избу на свечи, бумагу и чернила. Поставляли даточных людей в войско и содержали их. При казенных постройках поставляли рабочих, отрывая их от земледельческих занятий.
Все поборы и все повинности правились по сохам, составленным по писцовым книгам.
Неисполнение повинностей каралось строго. Любой воевода, получавший выговор за недоборы с посадских людей, правил нещадно и побивал батогами насмерть.
За медленность в сборе стрелецкого хлеба велено приводить виновных в города и перед съезжею избою каждый день до вечера бить нещадно батогами, пока выправят с них хлеб.
Воеводы посылались на заведомое кормление, смотрели на должность не иначе, как на доход, и в своих челобитных выпрашивались на выгодные места.
Каждый год воеводы меняют воеводства. Жадные и наглые, они грабят и обирают народ бессовестно. А когда идут к отчету, – отдают часть добычи тем, которые их поверяют в приказах.
Часто воеводы отбирали у служилых людей жалованье для себя, а им приказывали насильно расписываться в получении и, в случае несогласия, пороли их.
Про воеводу говорили: ходит он с двухаршинным батогом и бьет людей, кого только встретит на улице, приговаривая: «Я воевода – всех исподтиха выведу и на кого руку наложу, тому от меня света не видать, а из острога не бывать».
Мучительства производились неслыханные.
По Уложению царя Алексея Михайловича долги помещиков и вотчинников правились на крестьянах.
А крестьяне были прикреплены в имениях и патриарших, и митрополичьих, и владычных, и монастырских, и боярских, и дьяконских, и дворянских, и приказных, и стрелецких, и толмачей Посольского приказа, и подьячих, и прочих всяких властелинских.
Наглость, произвол, темнота, пытки, грабеж смертно угнетали народ.
На Москве сидевшие в приказах целовали крест с жестоким заклинательством и обещали судить по правде, – не дружить сильным и друзьям, не брать поминков. Но «ни во что та вера и заклинательство; наказания не страшатся, руки своя ко взяткам спущают».
Продажно было правосудие: тяжущиеся платили и приказным, и дьякам, и подьячим. Давали сторожам, и денщикам на квас да на пироги.
Старорусские жители жаловались на воеводу, что он, пользуясь ябедами, брал с волостей въезжее, взыскивал кормы, отдавал на правеж по ложным искам, доверял ябедникам, посылал приставов и с ними посылал воеводских людей; эти пристава и люди воеводы под видом разбирательства доносов производили грабительства, а когда оклеветанные ябедниками жаловались воеводе, он сажал их в тюрьму.
Сказывали: в селе Дунилове, когда жители приносили боярскому приказчику свои оброчные деньги, он их не брал, но требовал взъемков и слупов, бил на правеже, сажал в подполье, а зимой в одной рубахе запирал в холодную повалушу. Приказчик брал поборы холстом, сукнами, отдавал насильно за взятки замуж крестьянских девушек.
Значит, недаром пустели посады и села.
Без оглядки, будто от неминучей смерти, бежали голутвенные люди на сиротскую дорогу.








