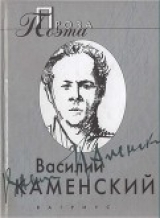
Текст книги "Василий Каменский. Проза поэта"
Автор книги: Василий Каменский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 11 страниц)
Выбрал Степан среди всех дней голубых самые бирюзовые, выбрал он среди всех ветров самый ровный да попутный, выбрал среди всех стругов сорок быстрых снаряженных, выбрал среди любимцев самых испытанных и пустился на парусах холщовых по морю Хвалынскому – морю Каспийскому в желанную, заманчивую Персию, в город Решт, где жил принц персидский Аджар, жил, да богатейшую торговлю шелками вел с Астраханью.
Знал об этом Степан.
В то время большие нелады шли между Персией и Московским государством. Из-за того больше, что Персия по всему побережью Хвалынскому, вплоть до самой Астрахани и дальше по волжским городам, всю шелковую, всю бархатную, всю ковровую торговлю захватила, скупая и перепродавая товары, из Индии шедшие.
Знал об этом Степан.
Принц-купец Аджар славился богатствами несметными, жадностью ненасытною, хитростью лисичьей, жестокостью царской и множество рабов держал, а в их числе и негры африканские были.
Знал об этом Степан и еще знал о том, что у Аджара есть дочь Мейран, умная красавица, та самая чудесная принцесса, что когда-то в грозовую ночь снилась, будто ждет не дождется драгоценного волжского знатного гостя.
Так нежданно-негаданно для Решта ярый ветер морской пригнал к берегам струги понизовой вольницы.
Врасплох Степан с вольницей в гости к принцу Аджару пожаловали.
Принц Аджар сначала испугался, а потом успокоился, когда атаман-богатырь поклонился:
– Много я золота привез с собой и вот желаю у тебя, принц Аджар, шелку, бархату, ковров персидских купить, да тоже торговать буду.
– Салям маликем! – низко кланялся гостям принц Аджар, обрадованный приплывшему золоту, – будем верными друзьями. Я люблю русский народ и желаю ему добра больше, чем желает русский царь.
– Для нас царя нет, – отвечал Васька Ус, – мы сами цари и сами себе добра желаем.
С удивлением и страхом смотрел принц Аджар на одноусого, одноглазого гостя, разодетого в боярский кафтан не по плечу, не по росту.
Да и все другие гости были одеты вроде Васьки, – кто в чем попало, а иные даже в парчовых шубейках боярынь.
В кипарисовом дворце принца Аджара жил Степан с есаулами, а вольница кто где по домам, а кто и на стругах – на всякий неровный час.
А как встретил Степан принцессу персидскую – утонул в любви нахлынувшей, будто на дно морское опустился: такая Мейран приворожная, невиданной красы чаровницей была. И сразу сердце свое девичье в сердце Степана вложила, будто ключ в замок.
И тем ключом открыла сокровища несказанные, клад заповедный: душу, как море Хвалынское, сердце, как солнце утреннее, глаза, как два полумесяца, слова, как гусли привезенные, и ласка – вина пьянее.
В лунные ночи в саду апельсиновом бродил Степан с гуслями и под окнами у резного балкона Мейран пел в истоме трепетной:
Сад твой зеленый,
Сад апельсиновый.
Полюбил персиянку за тишь.
Я – парень ядреный,
Дубовый, осиновый,
А вот тоскую —
Поди ж.
Видно, песни царевны чаруйным огнем
Пришлись по нутру.
С сердцем, пьяным любовным вином,
Встаю поутру
И пою:
Сад твой зеленый,
Сад апельсиновый.
Ой, Мейран:
Чуду приспело
Родиться недолго —
Струги легки и быстры.
Со славой-победой
Увезу я на Волгу
Зажигать удалые костры.
Мейран слушала и тайно ждала близкой встречи со Степаном.
По персидскому обычаю, как женщине, ей нельзя было видеть Степана дома.
И только в дни дворцовой охоты она могла среди природы и всяких случайностей видеть близко чужих мужчин.
Степан узнал об этом и быстро добился у принца назначения дворцовой охоты на тигров.
Сборы были торжественные, суетливые, праздничные.
Принц когда-то славился, как ловкий охотник на тигров, но теперь постарел, и его забавляла только сама обстановка охоты. Поэтому, кстати желая блеснуть перед Степаном, принц особенно пышно и ярко расцветил свой походный двор.
На величественное шествие смотреть собрался весь Решт, и загалдела пестротканная толпа, когда охотники тронулись в путь.
Пятьдесят всадников-персиян на белых лошадях и пятьдесят всадников русских удальцов на черных лошадях шли по сторонам, блистая дорогим оружием и раззолоченными седлами и поводами.
В середине всадников огромные, мускулистые, голые негры несли три роскошных паланкина. В первом паланкине сидел принц, рядом по левую сторону несли его дочь, принцессу Мейран, а по правую – несли Степана.
К паланкинам то и дело подъезжал Васька Ус, разливая по чарам заморское вино и с веселыми насказками угощая принца и Степана:
– Пейте чаще, охотнички, скорее тигры в глазах покажутся.
Так ехали целый день.
Степан распевал песни, взглядывая ясным соколом на Мейран.
А Мейран боялась от счастья поднять свои тихие бархатные очи, предчувствуя желанный час первых огневых объятий, первых мучительных прикосновений, снившихся так часто утром.
К вечеру спустились в тростниковую долину.
Прискакал к паланкинам вожатый и указал место стоянки.
Принц дал знак – все вдруг стихли и стали прислушиваться.
Из камышовых зарослей далеко разносился протяжный звериный рев полосатых хищников.
И как бы в ответ слышалось мяуканье тигрят.
Над головами пролетели большие ночные птицы, наполняя долину острым, тревожным криком.
Все осторожно стали устраиваться на становище.
Охоту решили начать с чуть рассветом.
Ночь протекла в приготовлении.
Принц приблизился к Мейран и, увидав ее спящей, пошел послушать тигров.
Степан усердно готовил ружье; однако, заметив, что принц отошел довольно далеко, быстрым мягким движением очутился в паланкине Мейран.
Он крепко обвил сильными руками трепетное тело принцессы и пламенными поцелуями зажег незагасные рубиновые костры любви.
Мейран произнесла только одно слово – «аббас», что означало – победитель.
И когда утровеющим заревом солнцевстально улыбнулись облака, а в долине синими кисейными покрывалами плыли туманы, орошая зелень, в тигровом логовище изредка раздавалось затихающее рычание.
Принц и Степан пошли серединой.
Хитрый, жестокий принц Аджар решил убить страшного атамана, за которым неотступно тайно следили придворные и обо всем доносили принцу.
А рабы принца знали про это и сообщали есаулам и самому атаману.
Принц задумал свое.
Степан задумал свое.
Несколько всадников, опытных в тигровой охоте, пошли сторонами травить логовище криками и выстрелами, чтобы загнать тигров в круг, где ждали с ружьями принц и Степан.
В один момент разом зарычали два крупных тигра и один за другим выскочили из логовища.
Принц выстрелил в Степана, – пуля ожгла плечо.
Тигр прыгнул на Аджара, – свалил с ног.
Степан выстрелил в голову принца.
Тигр, увидав брызнувшую кровь, вцепился в горло Аджара.
Другой тигр кинулся на Степана, а тут подоспели охотники, разогнали зверей.
Все вернулись во дворец с мертвым принцем.
Во дворце и в Реште началось смятение: придворные и купцы персидские обвинили Степана в убийстве принца.
Беднота персидская, рабы, гарем многожённый, большая часть дворцовой стражи, все, долго терпевшие жестокость принца, взяли сторону Степана.
Решт всполошился.
Начальники дворцовой стражи поехали по городу и стали призывать жителей к нападенью на вольницу.
Степан кликнул клич:
– Сарынь на кичку!
Удальцы вихрем налетели на приближенных принца.
Завязался бой.
К удальцам присоединились вооруженные негры-рабы, голытьба персидская и часть стражи.
Запылал костром дворец кипарисовый, а перед тем удальцы собрали все несметные богатства принца и уволокли на струги: золото, серебро, каменья-самоцветы, ковры, шелк, бархат, вино.
Не долго бой длился, – не много нашлось защитников у принца.
В шелковый ковер завернул Степан принцессу и унес на свой атаманский струг.
В Реште стоял корабль шаха персидского, и этот корабль, изубранный слоновой костью, Степан сделал атаманским.
Раздулись холщовые паруса, и вольница с песнями тронулась по зыбкой бирюзовой степи домой, на Волгу родимую.
Знатно нагостились, надуванились.
Целый зыбкий день да и ночь пролетную пировали, песни горланили с веселыми неграми, с собой пригашенными, потешались плясками, разводили гульбище во все колокола.
А на атаманском корабле – новом Соколе, в шелковом шатре, на пуховых перинах, подушками обложенная, заплетая свои двенадцать тонких кос, сидела Мейран, будто ночь в горах черноокая, будто заря предрассветная, юная, улыбчатая, – и близкая, и далекая.
Ненаглядно глядел Степан на любимую и ровно не верил чуду дивному, гусли перебирая:
Встречали отца родного
Сад твой зеленый,
Сад апельсиновый.
Невестой нарядилась подвенечно Астрахань.
Против пристани у Болдинского устья несметные толпы народищу налезли с утра раннего.
А утро сияло венцом алмазным.
Все, как жениха, ждали Степана с понизовой вольницей из персидского похода, что на весь свет славой раскатился.
На берегу брагу пили, веселились, смеялись, орали.
И всякое цветное болтали. Кто что.
Незрящий человек иной, с посаду царицынского, огненным языком молвил о Степане:
– Сыном, значит, наш Тимофеич Илье Муромцу будет. Всю свою силушку богатырскую Илья Степану в завет отдал.
– Ой, ой! Вот он напролом и идет. Потому верующий в моготу коренную.
– Вон мотри, робя, – гудошники да гусельники выстроились в струнный ряд.
– Пуще всего веселье любит молодецкое, звонкое, людное.
– Золота, серебра да каменьев самоцветных горы у него горные, а сам – слышь – в кармане семишник носит, больше, гыт, не надо. Душе легче, голытьбе нужнее.
– Веселый, размашный, доброты несказанной.
– Чистый ребенок. Глаза, что небо, говор, что песня, поступь лебединая.
– А ударит дубинкой – червонцы посыплются.
– В огне не горит, сабля не берет, пушка обратно ядром палит, топор отскакивает, стрела у ног в землю зарывается.
– Со счастливой долей на веки обручен.
– Отец родной.
– Разве чаяли, что так жить станем, – по вольности сермяжной.
– А вот-те и живем по устройству казацкому.
– Устоять бы только!
– Утолчемся!
– Он заступит.
– Кормилец наш, отец, заступник, великий человек.
– Эх-ма! Степан солнце-Тимофеевич.
Народу выросло плотной стеной. Каждому охота было еще раз увидеть Степана.
Иные за десятки верст притащились ко встрече долгожданной.
– Едут! Едут! Едут!
Раскатился гул, и тысячи глаз метнулись в сторону встречную.
В один отчаянный, радостный вой слились голоса.
Заиграли гудошники, гусельники.
Шапки, платки вверх полетели.
Будто несчетная стая великанов-лебедей, плавно и гордо на парусах с веслами подплывали к пристани струги Степана.
Впереди всех плыл знатный Сокол атамановский. На самом носу Сокола огнем горела огромная медная пушка, а на пушке верхом сидел Степан в красном одеянии, распевая веселую песню.
Три мачты с парусами были ярко расшиты пестроцветными шелковыми персидскими тканями и дорогими шалями.
На переднем парусе вышиты золотом слова:
«Здравствуй, вольный народ, астраханский». Алым бархатом затянуты борты Сокола, пол устлан коврами, канаты, веревки обернуты в цветистые ткани.
У бортов чернущие негры сидели, зубы улыбками оскалив.
На корме, под пышным балдахином, в нарядных кафтанах, на узорных подушках сидели удальцы и махали шапками народу астраханскому.
Около ног Степана, в желтой, полуоткрытой палатке, расшитой золотым шнуром, сидела на синей высокой подушке персидская принцесса, сияя бриллиантовым на голове полумесяцем.
– Ишь ты, ох, ох! – охали в воздухе удивления, – ох, ох!
– Цельной кораблище припер!
– Персидской выделки!
– Паруса шелковые!
– Сам отец на пушке сидит!
– Хорошо сидит.
– Не шелохнется.
– На нас глядит.
– Девка, мотри, девка персидская у ног сидит.
– В гости едет девка.
– Ох, ох, и какие-то чернущие люди с ним.
– Это негры. Бывали у нас такие. Может, индейцы.
– Ну и добра везет!
– За добром гонял.
За Соколом стройной вереницей тянулись другие струги, искусно изукрашенные персидским богатством.
А когда вся соколиная стая сошлась у пристани, то невиданная красота поразила всех.
И долго никто не мог тронуться с места.
А Степан, сидя на пушке, пел в народ:
Разлетелся сокол в небо знойное,
Разгорелся вольной волюшкой.
Заалело сердце беспокойное
Над народной долюшкой.
Ой, да ой, ты разудалая,
Жизнь на Волге – быль бывалая.
Как кончил петь Степан, как посмотрел на народ, на струги свои, на раздолье волжское, ясное, привольное, как взял в свое сердце память о былом, – волнами бурными всколыхнулась грудь: понял разом Степан, как стосковался по родной земле, и не стерпел.
От счастья не стерпел, что снова дома. Слезы упали. Заревел. Вскочил Степан и заорал что есть мочи:
– А и здравствуй, народ родимый, народ вольный, народ астраханский. Бью челом тебе и до сырой земли поклон на веки вечные кладу и от всей понизовой вольницы, от самого сердца, благодарения сказываю за памятную встречу, за дружбу верную. Когда бился в походе и не мыслил, что такие победы одержать доведется, а вот молодчики-братья постарались. Рубились, пластались, вас вспоминали: ужо, видно, соскучились по родным сердцам. Все думали, коли ратного люду не хватит – из вашего брата черпать пригоним. Всего было, всё передумали. Пуще всего жалко удальцов, что головы сложили на чужой стороне.
– Ой, ой, – заойкали на берегу и сняли шапки. Степан встряхнул поникшую голову, взял в руку три ветки: ветку оливковую, ветку шелковичную и ветку кипарисовую, что были сломлены в садах персидских, и, повернувшись к стругам, молвил:
– Эй, вы, понизовые вольники, в победных кафтанах, отчаянные, загорелые пластуны, братья ратные, сходите на берег с песнями да с подарками, делитесь с людом астраханским, делитесь, покуда живы да щедры, снесите на берег все сундуки до единого со всеми богатствами да выкатите бочки с вином огненным, заморским.
Толпа шумела, волновалась, кричала:
– Батюшка!
– Отец!
– Кормилец!
– Солнце наше красное!
– Душа наша!
– Сердце наше!
Степан, пьяный от встречи, шатаясь, подошел к принцессе, а потом разом осушил кубок и снова запел, приплясывая:
Эх, и звонкая
Удаль моя знатная,
День мой —
Ретивый и горячий конь в бою.
Я ли да не знаю,
За что свою головушку
Буйным бурям отдаю.
– Эх, Мейран, чуешь ли ты, что у нас тут кругом праздник напропалую разгуливает. Смотри: там наши есаулы сундуки с богатством выворачивают, – персидское ваше золото-серебро-шелк сермяжникам да бабам по совести делят. И всё до ниточки раздадут и вином заморским потчевать станут, до капли последней. Неужели тебе, Мейран, этого добра не жалко?
– Нет, – ослепляла улыбкой Мейран, – мне только жаль, что этого богатства очень мало, а бедных очень много. Я люблю бедных, люблю ваш народ и люблю бедный персидский народ, и мне стыдно, Степан, любимый мой, что я – принцесса, и за это меня не будут любить друзья твои.
Принцесса в горсть собрала концы кос и закрыла лицо, будто луну тучами.
– Много ума, много правды в тебе живет, – гладил Степан руки любимой, – и гордо знать, чуять сердцем, что ты хоть и принцесса, а мудро жизнь понимаешь и радуешься затеям нашим сермяжным, любишь вольницу и за нами от светлой души идешь, от чистоты своей юности. И то правда, что осудят тебя за отца твоего, да и меня осудят, что с царевной связался, а, видно, у любви свой суд есть, свои дороги неосудные. Вот люблю я тебя, Мейран, огненно люблю, и в этой любви – крылья мои, весельё мое и молодость, будто твой сад апельсиновый.
Мейран обвила могучую шею:
– Небо… земля… солнце… полумесяц серебряный… путь золотой… люблю тебя, песней твоей быть хочу, глотком вина счастья в победах твоих…
И когда пришел вечер, и загорелись костры на берегу астраханском, когда расшумелись песни, Степан вышел на берег и всю ночь лихо гулял-пировал с голытьбой.
Тридцать три негра плясали вокруг серебряной бочки с вином и пели свои знойные песни, хлопая в ладоши, ударяя в гонг и рыча тиграми.
Васька Ус на мачту взобрался и оттуда соловьем свистал.
По дороге укатанной– Раздувай паруса!
– Удивляйся ветрам попутным!
– Ветры и те с нами!
– Пособляют, сердешные! Разумеют в лоб!
– Не зевай, рулевой!
– Дуй, ядреный лапоть!
– Наворачивай! Эх, мазь-яры, ну и берега тут – размалиновые.
– Знай угощайся:
А вот чивай,
Да вот чивай,
Да чаще брагой
Потчивай!
Легкие, раздольные, осенние дни, будто кони стожильные, мчали вольницу от Астрахани к Царицыну, где встречали по-бывалому дорогих гостей.
От Царицына – к приютному Камышину, где текла родной водой речка Камышинка, по которой с Волги не раз заплывали малые струги с молодцами вверх, а там сушью переволакивались на речку Иловлю, – оттуда на Дон выплывали. Так и обратно на Волгу, как было и в первый путь.
Три разгульных денька, три гулящих ноченьки пила вольница камышинскую брагу за это самое место приворотное, причальное, да удачливое, – почти все молодчики отсюда на Волгу вытекли и на Дон связь держали.
Отгостились, в Саратов двинулись.
И в Саратове хлебом-солью встречали батюшку, отца родного, Степана Тимофеевича с соколиками ясными, залетными, перелетными, жизнь окрыляющими.
Отпраздновали круто да жарко, вспоминая о славных огненных днях, когда с боем лихим отвоевали царский-боярский Саратов да сразу вольность казацкую установили и крестьян от рабства помещичьего избавили, от поповского обиранья оттянули, от всяких даней-повинностей очистили, от воеводских злодеев спасли.
Было вспомнить о чем, было чему возрадоваться, ежели кругом, на сколько глаз хватал, благодать жила да дума заботная: только бы удержаться!
Правда, много было и таких в подворотнях, в монастырях схоронившихся, кто беду каркал: вот, мол, погодите – сила царская сломит солому сермяжную, учинит расправу во имя божие, покарает бунтарскую голытьбу. Да только мало кому верилось, что разудалую вольницу победить можно, раз у этой вольницы на плечах – великая разумом голова Степана Тимофеевича.
– Эх, только бы удержаться крепче, – вздыхала молва людская.
А для того удержанья вольности, кровью добытой, всюду, где появлялась вольница, атаман с есаулами перво-наперво ставленных помощников строго проверяли и наказы по устройству казацкому чинили твердо.
Из Саратова вольница в Самару двинулась, и там знатно встречали сермяжных хозяев, и там вспоминали о бывалых жарких днях, и там порядок наводили, наказывая:
– Крепи, храни вольность устроенья жизни, будь настороже, – врагов у нас много, а ежели попадутся – перекладин для царских голов не жалей, иначе несдобровать. Царь с попами да воеводами не спит.
Отведала хлеба-соли, квасу ядреного самарского отпила вдоволь вольница, дружно отгостилась и направила паруса в гнезда насиженные – в горы Жигулевские, к золотым берегам осени волжской, к приюту излюбленному.
– Эх, Васька, смотри, – трепетал Степан, – Волга-мать, будто за руку, ведет вас, малых ребят, на место приживное, пригретое, приласканное.
Васька Ус окинул глазом водную ширь:
– А кабы не Волга, не вылез бы я из пермяцкой берлоги, не отступился с рогатиной от сохатого, не свалил бы кедр, что два века для меня рос, не выделал бы себе самоходной лодочки, не погнал бы с Камы с песнями к тебе, не нашел бы ясного сокола – отменного Степана Разина, не придумал бы: али есаулом твоим стать, али башку сложить за любовь нещадную, за просто так, за здорово живешь. А только и отрады было – что Волга да слава о тебе, о делах неслыханных. А слава будоражила, – говорили разное, праздничное, больше эдак: с донской стороны проявился на Волге богатырь Степан Тимофеевич Разин, силищи непомерной, красоты невиданной, ума могутного, доброты щедротной, а как песню заведет про удаль молодецкую – так все люди вокруг отдают ему животы свои на дела потребные, вольные, праведные. А как кумачовым платочком взмахнет – расписные, острогрудые кораблики подплывают к берегу, а на корабликах здоровенные, рослые молодчики в бархатных кафтанах, сафьяновых сапожках с топориками да кистенями ждут своего атамана Тимофеевича в путь пуститься – молодость потешить, добром купецким запастись, с царской силой посчитаться, померяться. Ох, велика твоя слава богатырская, а атаманова слава шире и круче.
– Шут с ней – со славой атаманской, – замычал Степан, – не люблю я этой славы, не надо мне ее – я не воевода, не князь Юрий Долгорукий – я простой человек, ветхий человек. И никогда не желал я атаманом быть, брать на себя этакую власть непомерную, а ежели взял атаманство, – голытьба упросила, послушался. И пошла моя славушка гулять буйным ветром по свету белому, – ишь какой богатырь сыскался – Илья Муромец, а настоящий-то богатырь – голытьба сиротская, рабы, холопы господские, крестьяне крепостные, люд мастеровой, люд подневольный. Им слава пристала, – ими все сделано, кровью омыто, головами откуплено. И никакой власти голытьбе не надо, – пускай сами управляют собой через выборных, по-казацки. Ежели казацкое устройство худо и не по нраву, – найдут, как наладить жизнь и без нас.
Степан долго молчал, долго смотрел в звездную ночь на горы вдали иссиня-изумрудные.








