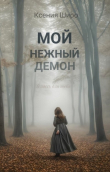Текст книги "Защита Чижика (СИ)"
Автор книги: Василий Щепетнев
Жанры:
Альтернативная история
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 15 страниц)
– При закрытых ставнях, – пояснил майор, любовно поглаживая массивную раму, – можно не опасаться даже пулемётного обстрела. Кирпич, который вы видели снаружи – тоже лишь декоративная оболочка. Несущие стены – армированный бетон. Толщина – шестьдесят пять сантиметров. – Он произнес эту цифру с особым, почти отцовским уважением. – Выдерживает избыточное давление до двух килограммов на квадратный сантиметр.
– Два килограмма? – переспросила Лиса, пытаясь осмыслить эту величину в бытовых категориях.
– Это много, это очень много. Выдержит волну от ядерного взрыва на расстоянии полукилометра. Но до этого, разумеется, не дойдёт! – поспешно, почти успокаивающе, добавил майор. – Убежище совершенно безопасно. Комфортабельно, как видите. Разумеется, – он кивнул в сторону коридора, – это только жилая зона. Основное же укрытие, с системами жизнеобеспечения, фильтрации, запасами воды и продовольствия, расположено этажом ниже. Надёжно. Очень надёжно. – Он замолчал, глядя на свет, лившийся в окна. Кстати, небольшие окна. Деревенские. В глазах Щусева читалась тихая уверенность человека, знающего, что он в крепости. А за окном, меж сосен, беззвучно пролетела птица. Казалось, она и есть та самая жизнь, от которой нас надежно отделяли шестьдесят пять сантиметров бетона, стальные ставни и фальш-окна «Вершины».
Мы вышли в коридор, оставив за спиной номер двенадцать с его фальш-окнами и железными кроватями.
Вернулись ко входу. Одна лестница шла наверх, на второй этаж. Другая вниз.
Включились тусклые лампочки, такие же «трамвайные», как и наверху, лишь обозначая начало лестницы, уходящей вниз.
Лестница была обыкновенной, «хрущевской». Майор пошел первым, его шаги гасли, слово на лестнице была ковровая дорожка. Но дорожки не было. Чистые ступени, бетон. Мы следовали за ним, осторожно ступая. Три марша. Я машинально считал ступени: одиннадцать, потом снова одиннадцать, и ещё одиннадцать. Четыре метра вниз, даже больше.
С каждым шагом вниз ощущение оторванности от мира, от солнца, от сосен за окнами усиливалось. Казалось, спускаемся не в подвал, а в чрево земли, где время течет иначе и мысли становятся тяжелыми, как свинец. Самовнушение, конечно. Даже самопугание. Котенок по имени Гав.
Внизу нас ждала ещё одна дверь. Массивнее предыдущих, с массивными засовами и глазком. Майор вновь задействовал свой арсенал ключей – на этот раз что-то похожее на ключ от сейфа, короткий и толстый. Замок щелкнул с таким звуком, будто открылась крышка гроба.
За дверью те же унылые светильники под потолком, отбрасывающие резкие тени на стены, выложенные голубым кафелем. Запах пчелиного воска усилился.
Перед нами открылся длинный, прямой коридор, по обе стороны которого располагались двери в отсеки. Всё было строго, функционально, лишено малейшего намека на уют. По-спартански. Никаких излишеств. Майор приоткрыл одну из дверей.
– Стандартное жилое помещение, – пояснил он. Внутри было тесно, как в купе плацкартного вагона, но рассчитано на двоих. Две узкие койки, привинченные к полу, крошечный столик, и пара полок. Никаких личных вещей, никаких следов пребывания человека. Стеллажи пустовали. Другие двери вели в такие же кубрики, но побольше – на четверых, и редко на одного. Камеры. Одиночки. Слово само вертелось на языке.
– Вместимость основного убежища, – продолжал майор, двигаясь дальше по коридору, его голос звучал глухо в этом подземелье, – рассчитана на тридцать человек при штатном заполнении. Но в случае крайней необходимости… – он сделал паузу, словно оценивая наши лица, – может разместить и пятьдесят. Временно.
Он показал на две тяжелые двери с надписями «ДГ-1» и «ДГ-2».
– Дизель-генераторы. Два агрегата. Каждый в отдельном, изолированном отсеке. Запас солярки – по пятьсот часов непрерывной работы на каждый. – Он произнес это с особым удовлетворением, как торговец, хвастающийся товаром. – Обеспечивают энергией всё: принудительную вентиляцию с фильтрацией воздуха, освещение, радиостанцию, кухонное оборудование… Ну, и прочее необходимое. Вода – из артезианской скважины. Очень глубокой. Независимый источник. Питание, снаряжение, медикаменты… – майор обвел рукой пространство, – рассчитаны на автономное существование в течение шести месяцев. Минимум.
– Питание? – переспросила Лиса, и в ее голосе прозвучала не столько надежда, сколько профессиональный интерес врача.
– Ресторан «Метрополь» здесь не откроешь, – усмехнулся майор, но усмешка была кривой, безрадостной. – Консервы. Преимущественно. Крупы, сухари, концентраты. Продукты длительного хранения. Сроки годности строго соблюдаются. Постоянно производится ротация. Как раз сегодня прибыла новая партия. А старую… увезут.
– В солдатские столовые? – не удержался я.
Майор на мгновение смутился.
– Обижаете, товарищ, – сказал он, стараясь говорить легко, но не вышло. – Старая партия… совсем не старая. Годности в полном порядке. Пойдут… – он запнулся, словно подбирая слова, – пойдут за милую душу. В пайки. Командного состава. Старших офицеров. – он быстро облизнул губы. Или показалось? Губы его действительно дернулись, как будто он мысленно пробовал на вкус этот «нестарый» паёк. Затем он повёл нас дальше, к двери с красным крестом. Медблок.
Майор открыл очередную дверь.
Два изолятора, каждый на двоих. Операционная. Зубоврачебное кресло и простенькая бормашина. Тут же кресло гинекологическое. И так далее.
– Если придется здесь работать – что ж, поработаем, – сказал я, представляя себя принимающим раненых после того, что творится наверху… – Только сначала списочек составим, чего не хватает.
Майор кивнул, не глядя на меня. Его мысли были уже в другом месте. Тогда я задал вопрос, который напрашивался с самого начала:
– А оружейная где?
Майор резко повернулся, его взгляд стал острым, колючим, как шило.
– Вы думаете, здесь есть оружейная? – спросил он тихо, но в его тоне была сталь, как в тех ставнях.
Я выдержал его взгляд. В этом подземелье, отрезанном от мира, вопрос оружия переставал быть абстрактным. Он становился вопросом власти, выживания, последней границы между порядком и хаосом.
– Без оружейной, майор, – ответил я так же тихо, глядя на кафельные стены, – всё это бессмысленно. Потайная могила. Но не убежище.
Несколько секунд тишины. Потом майор медленно кивнул. В его глазах промелькнуло что-то – уважение? Досада?
– Есть и оружейная, – произнес он сдавленно.
Он привел нас к ещё одной двери, неприметной, без опознавательных знаков. Открыл ее своим сейфовым ключом. Небольшая комната. Стойки с замками. На стойках – оружие. Не арсенал, конечно.
– Ничего особенного, – бросил майор, словно извиняясь за скромность ассортимента. – Десять АК-74. Два ручных пулемета, РПК-74. Боезапас на каждый ствол – штатный.
Я осмотрел скромный арсенал. Чистый, смазанный. Готовый к использованию. Но маловато будет для пятидесяти душ в бетонной ловушке под землей.
– Довольны? – спросил майор, и в его голосе сквозила едва уловимая ирония. Или усталость.
– Не густо, – честно ответил я. – Но, полагаю, на первое время хватит. Сколько будет способных держать оружие после… после всего? Сколько останется тех, кто захочет его держать?
Майор хмыкнул. Коротко, сухо.
– Если не хватит… – он кивнул в угол, где стояли два неприметных, но прочных ящика из крашеного зеленой краской дерева, – найдутся ещё. И в смежном хранилище два таких же. Расконсервируются по необходимости. Если таковая возникнет.
– Патроны? – уточнил я.
– В достатке, – лаконично и уже без тени сомнения ответил майор. В этом ответе была окончательность. Тема была исчерпана. Как и экскурсия.
На этом осмотр объекта «Вершина» завершился. Мы молча поднялись по тем же тридцати трем ступеням обратно, в «жилую зону», а оттуда – на воздух, который после подземелья казался пьянящим. Погрузчик работу закончил, и тишина наступила блаженная. Птички поют, бабочки летают. Майор с каменным лицом и тщательностью могильщика запер за нами все двери: убежища, подъезда, главного входа.
– Через… – он посмотрел на часы, массивные, армейские, – через двадцать минут у нас обед в столовой. Не останетесь? – спросил он, и в его голосе вдруг прозвучала какая-то человеческая нота, почти просительная. Одиночество начальника на секретном объекте.
Мы переглянулись. Остались. Во-первых, чтобы не обидеть майора, человека, показавшего нам наше возможное будущее. Во-вторых, чтобы получить представление о здешних обедах – последний кусочек реальности перед долгой дорогой. И, в-третьих, просто хотелось есть. Экскурсия пробудила животный голод.
Обед оказался неожиданно хорошим. Настоящим. Наваристый борщ со сметаной и чесночной пампушкой. Бефстроганов из неплохой говядины с рассыпчатым рисом. И в заключение – стакан прохладного компота из сухофруктов, с кислинкой, как я люблю. Всегда ли так кормят здесь, или только по случаю визита «особого контингента»? Кроме нас, за столами был старший лейтенант, лейтенант обыкновенный, и восемь нижних чинов, выражаясь языком четырнадцатого года. Солдаты, сержанты и старшины. Они сидели за своим столом, ели ту же пищу, но быстро, деловито, не поднимая глаз. Пустых щей им явно не предлагали. Здесь, на краю мира, в ожидании конца света, кормили по-человечески. Ирония судьбы или последняя привилегия? Просто служат сверхсрочники. Сверхсрочников нужно кормить. Кого ж, если не их?
Мы сели в «Волгу». Майор остался на базе, его фигура у входа казалась одинокой и навсегда привязанной к этому месту. За рулем теперь Лиса – её черёд. Машина тронулась, оставляя за собой серые корпуса «Вершины», ухоженный двор и сосны, стоящие молчаливым караулом.
– Ну, и как? – подала голос Ольга с переднего сиденья, как только мы миновали староверческое хозяйство имени Бонча-Бруевича. Голос звучал неестественно громко после тишины подземелья.
– Отрезвляюще, – ответил я. – Сразу хочется бороться за мир… ещё активнее. Перспектива «Вершины» – ну, так себе.
Три дня назад нам вручили мобилизационные предписания. Розовые листки, вшитые в военные билеты. Как объяснил референт Стельбова, товарищ Петров, человек с лицом бухгалтера и глазами следователя, порядок таков: каждый военнообязанный знает, куда являться в случае войны. Обыкновенно – в военкомат по месту жительства. Но если военкомата… ну, не станет, скажем, в результате непредвиденных обстоятельств, – он тактично кашлянул, – то являться следует в некое место «В». Нам же, в нашем особом списке, сразу указали это «некое место»: база отдыха «Вершина». Петров, поправляя очки, разъяснил сухо: база эта – одно из спецубежищ для членов семей высшего руководства страны. При определенных обстоятельствах – по сигналу – мы обязаны срочно туда перебраться. Ольга – это понятно. Мы с Надеждой – врачи, в убежище люди необходимые. Ми и Фа – без комментариев. А бабушки, – спросила Ольга. Петров замялся, перебирая бумаги. Бабушки… ну, бабушки – по ситуации. Берите и бабушек. Если успеете.
– А зачем оружие? – спросила Лиса, вписываясь на скорости в поворот. – Там же солдаты. Защитники.
Я посмотрел на её затылок. Наивный вопрос. Или проверка моих умственных способностей?
– Кто защитит от защитников? – ответил я вопросом на вопрос. – Если Москвы не будет… если привычный мир рухнет в одночасье… всяко может повернуться. Оружие – это не только против внешнего врага. Это последний аргумент порядка. Или последняя иллюзия власти. В убежище законы пишутся заново.
– Ты думаешь, это… возможно? – спросила она, и в голосе ее прозвучал страх. Настоящий, не наигранный.
– Возможно, – сказал я прямо, глядя на серую ленту дороги. – Но не будет. Для этого нам и показали убежище. Чтобы мы понимали: война – это не просто плохо. Это совсем плохо. Это жизнь в бетонной коробке с фальш-окнами, с консервами, с оружием на стене и страхом в душе. Понимание должно отрезвлять. Тридцать пять лет мира – они не сами по себе явились.
– Но если… если нападут? Америка, или… – подала голос Ольга.
– Тогда… – я вздохнул. – Тогда будем воевать, что ж ещё делать. Но для начала… для начала нужно попытаться пережить первый удар. Для этого и Вершина.
– А мы переживем? – как бы в шутку спросила Лиса. – Этот… первый удар?
Я закрыл глаза, вспоминая карты, диаграммы, сухие строчки отчетов, которые мне довелось видеть.
– Если будем в «Вершине» – несомненно. Я смотрел розу ветров для этого района. – Говорил я, как будто отвечал на семинаре по Гражданской Обороне. – Ветер обычно дует в сторону Москвы. А не наоборот. Потому здесь и расположено спецхозяйство – минимальный риск выпадения вредных осадков. Плюс гора, она прикрывает со стороны Москвы. Так что… да. Теоретически.
Дальше, до самой Москвы, мы молчали. Мелькали поля. Майские работы. Май холодный, год хлебородный. Обычная жизнь.
Мужики останутся мужиками А мы станем новой знатью. С розовыми листками в военных билетах и бронированными местами в подземном раю. Недаром же рядом с бункером показательное хозяйство. Вот мы и покажем. Винтовка рождает власть? Или страх рождает винтовку?
Дорога тянулась вперед, к дымному облачку над столицей, где жизнь кипела своим чередом, не ведая о «Вершине» и тридцати трех ступенях вниз.
Глава 10
14 мая 1980 года, среда
Рука помощи
Тишина в кабинете заместителя председателя Шахматной федерации Адольфа Андреевича Миколчука повисла густая, тягучая, как сгущённое молоко из холодильника. Миколчук сидел за массивным столом, покрытым зеленым сукном, потертым на углах, и его пальцы нервно перебирали телеграммы, маленькие, бездушные клочки бумаги, грозившие обрушить весь его, в общем-то, нехитрый, но налаженный мирок.
«Нет», – значилось на самой верхней. От Таля. Коротко, без объяснений, как ход конем через всю доску. А вот и другие: Полугаевский сказал «нет» раньше всех, Петросян – чуть позже, но столь же недвусмысленно. Карпов прислал телеграмму пространную, слова были вежливые, обтекаемые, но суть вычитывалась ясно: «Нет». А Спасский… Спасский из своего Парижа и вовсе не удостоил ответом. Молчание – оно ведь тоже «нет», да ещё какое! Оно звенело в ушах Адольфа Андреевича громче любой телеграммы.
Надвигался скандал. В мировых масштабах – пылинка, атом, ничто. Но для отдельно взятой шахматной федерации – землетрясение вселенской силы. Грозивший не просто оргвыводами, не пометкой в личном деле. Нет, речь шла о судьбе если не шахматной федерации, то самого Миколчука. Адольф Андреевич мысленно видел уже себя – отставного, с пенсией в сто тридцать два рубля, вынужденного коротать дни в парке на скамеечке. Скучно ведь. Чертовски хочется работать!
Он поднял глаза на присутствующих. Тех, кого смог собрать здесь, в Москве. В частности, на Михаила Таля. Рижский волшебник сидел напротив, его живые глаза смотрели в никуда, будто разглядывая невидимую шахматную доску.
– Михаил Нехемьевич… – начал Адольф Андреевич, и голос его предательски дрогнул. – Это… это ваше окончательное решение? – Он знал ответ, но надеялся на чудо. На просчёт в варианте. Как в партии.
Таль медленно перевел взгляд на него. В его взгляде не было злобы, только усталая ирония и какая-то печальная твёрдость.
– Помилуйте, Адольф Андреевич, – произнес он тихо, но отчётливо. – В шахматах, как вам известно, ходы обратно не берутся. Что схожено, то схожено. Сказано – нет.
И снова эта тишина. Она заполняла комнату, давила на барабанные перепонки. Шахматы… Казалось бы, тихая, кабинетная игра. Не олимпийский вид спорта, не бег с барьерами, не метание молота. Есть, конечно, шахматные олимпиады, но это все равно что… что кабачковая икра. Олимпиады, да не те. Игра в тени больших стадионов. Но вот беда – в Спорткомитете, этой кузнице рекордов, вдруг озаботились. Решили, что и шахматы в нашей великой стране должны «себя показать самым достойным образом». Чтоб весь мир видел: спортивная жизнь у нас прекрасна во всех проявлениях. И задумали они грандиозное: превратить вообще-то рядовой традиционный турнир памяти Михаила Чигорина – в шахматное событие года! Гром среди ясного сочинского неба!
Но как? Учредить огромный призовой фонд? Соблазнить западных звезд звонким золотом? Это не наш метод. С деньгами всякий сумеет купить успех, но деньги-то у нас какие? Деньги государственные, народные, трудовые. Расходовать их нужно с умом, в интересах опять же государства, а не гроссмейстеров. Им и так хорошо живётся. И родилась гениальная в своей бюрократической изощренности идея: призовые распределить с коэффициентами! Для иностранных участников – повышающий коэффициент два. Чтоб ехали, веселились, хвалили гостеприимство. А для своих, советских гроссмейстеров – понижающий коэффициент три. Патриотизм же, сознательность! Зачем им лишние рубли? Они и так счастливы играть на благо Родины. Фигурки двигать – это не отбойным молотком уголёк рубить.
Адольф Андреевич, получая эту директиву, сначала даже не понял подвоха. Пока не сел с калькулятором. Если, допустим, первое место займет иностранец – он получит целых десять тысяч рублей! Сумма очень и очень приличная. Для чехов, поляков, восточных немцев и прочих братьев по лагерю, так и замечательная. Да и для западников хорошая. А если первым станет наш, советский гроссмейстер, он получит только полторы тысячи.
Серьезно? – спросил тогда Адольф Андреевич у начальника отдела международных связей Спорткомитета. Тот удивился:
– Вам мало полутора тысяч?
– Не мне мало, а гроссмейстеру. Ведь полторы тысячи – только за первое место! А за пятое, к примеру, выйдет и вовсе триста рублей. За девятое – пятьдесят. Хватит на хороший ужин в ресторане, и только.
– А пусть не занимают девятое место! – парировал начальник, улыбаясь своей находчивости.
Гроссмейстеры не возрадовались. Те гроссмейстеры, кого планировали пригласить. Они были людьми, воспитанными в уважении к власти, но арифметику знали. И чувство собственного достоинства у них тоже имелось. Их возмущение было тихим, сдержанным, но твёрдым, как победит. Мы не займём девятое место. Мы никакое не займём, сказали они.
– Но вы же советские люди! – взывал к главному аргументу Миколчук, уже почти отчаявшись. – Патриоты! Разве в деньгах счастье?
– Мы советские, – соглашались гроссмейстеры, глядя куда-то мимо него. – Безусловно.
– Вам что, мало славы? Чести представлять страну? Одно то, что вы будете жить три недели в гостинице «Жемчужина» на полном пансионе! Лето! Солнце! Воздух! Море! Разве это не счастье? Разве это не награда? – Адольф Андреевич развел руками, изображая щедрость морских даров.
– Море – это хорошо, – заметил кто-то из угла. Голос звучал устало.
– Значит, согласны? – оживился было Миколчук, ухватившись за соломинку.
– Значит, нет, – твердо сказал Таль. – У нас матчи претендентов на носу. Нам нужно готовиться. Это наш долг. Наша главная задача. Извините.
Вот такой разговор. Другого и ожидать было трудно. И Адольф Андреевич, по большому счету, их понимал. Пятьдесят рублей? Даже триста? Но ему скомандовали свыше. Приказы Спорткомитета не обсуждаются. Их исполняют. А не можете – ступайте на пенсию.
Конечно, в необъятном Советском Союзе шахматистов – пруд пруди. Найдутся другие. Даже и гроссмейстеры, а уж мастеров у нас море разливанное. Для них участие в таком турнире – честь неслыханная! За счастье сочтут даже пятьдесят рублей получить, тем более, в «Жемчужине». Но одно дело – блистательные, узнаваемые во всем мире Карпов, Таль, Петросян, Спасский… И совсем другое – Иванов, Петров и Сидоров. Они, возможно, и таланты, но пока без поклонников. Интерес не тот. Градус события падает, как в разбавленном пиве. Не впечатлят Иванов, Петров и Сидоров мировую шахматную общественность. Не затмят они Фишера, которого, разумеется, тоже не будет. Турнир рискует превратиться в провинциальные посиделки при полном равнодушии прессы. А это – провал. Провал директивы Спорткомитета. И тогда… тогда опять маячит пенсия.
Пора. Пора протянуть Миколчуку руку помощи.
– Товарищи… – начал я заготовленную речь – Мне… мне понятны мотивы наших многоуважаемых гроссмейстеров. Матчи претендентов – это святое! Очень и очень ответственное дело. Здесь затронуты не только ваши личные амбиции, здесь, товарищи, речь идёт о спортивной чести великой советской державы! О престиже! – Я сделал паузу для значимости. – И потому… потому как бы ни привлекали сочинские пляжи, как бы ни манил ласковый шепот Чёрного моря… сознательный человек, настоящий патриот, не только может, но и должен отказаться от этой заманчивой перспективы провести три недели на море. Увы! – повторил я с драматическим вздохом. – Общественные интересы, государственные задачи – всегда и неизмеримо выше личных удобств и… – я чуть не сказал «денег», но вовремя поправился, – … и сиюминутных радостей! Высшая сознательность требует жертв!
Я закончил. В кабинете воцарилась мёртвая тишина. Таль смотрел на меня, сдерживая усмешку. Отказ от участия простят, усмешку – нет.
– Я… – сказал я уже тише, но с подчеркнутой скромностью, опуская глаза, – я, конечно, это другое дело. Совсем. Мне… мне не нужно участвовать в матчах претендентов..И потому я… – я сделал паузу, вкладывая в голос нотки трогательной наивности. – Я ведь ни разу не был в Сочи. В Ялте был, На Куршской косе тоже был, вот вместе с Тиграном Вартановичем довелось отдохнуть. А в Сочи… не был. То есть был, но в самом детском возрасте, с родителями. Помню смутно: пальмы, море… да и то не уверен, на самом деле был, или во сне. Так что для меня… Нет, и для меня это будет не отдых, а прежде всего – ответственная работа. Возможность внести свой скромный вклад в успех мероприятия государственной важности. А Сочи – это награда.
Я умолк. Мое заявление повисло в воздухе. Адольф Андреевич Миколчук медленно, очень медленно поднялся из-за стола. В его глазах, ещё недавно полных отчаяния, зажглась крошечная, дрожащая искорка надежды. Он смотрел на меня, как на неожиданного спасителя. Проблема, конечно, не решалась кардинально. Но – турнир с чемпионом мира – это как медный перстень с настоящим бриллиантом. Крупным бриллиантом! Узнав о моем участии, другие сами подтянутся: сыграть в одном турнире с чемпионом дорогого стоит. Это сильный козырь, который можно выложить в Спорткомитете: мы приняли меры! Убедили Чижика! Настоящего патриота!
Ну, что-то в этом роде.
– Да… – прошептал он хрипло. – Да, конечно… Очень сознательно, товарищ… – Он запнулся, волнуется. – Очень сознательно.
– Вот и отлично, – сумел сказать Таль серьёзно.
Остальные промолчали.
– Что ж, считаю совещание закрытым, – подвел черту Адольф Андреевич Миколчук голосом, в котором слышалась усталость долгого дня, разбавленная казенной важностью, как сметана к закрытию магазина.
И все, точно подхваченные невидимым, но неумолимым потоком, неспешно, с тихим шорохом стульев и приглушенным перешептыванием, разошлись. Все, кроме меня. И, разумеется, кроме самого хозяина кабинета, Адольфа Андреевича, который остался сидеть за своим широким, слегка потертым по краям столом, заваленным папками с надписями «Срочно», «На утверждение», «К докладу», и прочие.
Когда за последним из гроссмейстеров – а последним, с видом человека, забывшего что-то весьма важное, но не решающегося вернуться, оказался сам Полугаевский – тихо щелкнула и закрылась дверь, наступила тишина. Миколчук откинулся на спинку кресла, и оно жалобно скрипнуло, нарушая молчание, словно старый пес, потягивающийся у ног хозяина. Он снял очки, протёр переносицу, оставив на ней красноватый след, и взглянул на меня усталыми, слегка покрасневшими глазами.
– Я, конечно, рад, Михаил Владленович, – начал он, голос его звучал глухо, как будто доносился из-за ваты. Он взял паузу, долгую, мучительную, в течение которой его взгляд блуждал по стенам, увешанным портретами чемпионов разных лет, по книжным полкам, где томились уставы, положения и отчеты, и, конечно, обязательные синие томики. В углу стоял шахматный столик с фигурами, которыми играли Таль и Ботвинник в матче-реванше шестьдесят первого года.
– Но… – наконец выдохнул он, и это «но» повисло в воздухе, как вопрос о повышении оклада врачам и учителям. Который год всё висит и висит. Ни вверх, ни вниз.
– Но? – подал я реплику, стараясь, чтобы мой голос звучал легко и непринужденно. Я знал это «но». Оно было предсказуемо, как нормальный летний дождь.
– Но у вас, вероятно, есть свои резоны, не так ли? – спросил Миколчук, вновь надевая очки. Его взгляд за стеклами стал пристальным, изучающим, как у бухгалтера, проверяющего сомнительную смету. В этом взгляде читалась вся его жизнь – жизнь человека, прошедшего долгий путь до начальника отдела шахмат Спорткомитета СССР, человека, научившегося виртуозно обходить острые углы и гасить любые искры недовольства до того, как они разгорятся в пламя.
– Не только резоны, но и условия, Адольф Андреевич, – подтвердил я его невысказанную догадку.
– Надеюсь, они не выходят за пределы возможного, – вздохнул Миколчук, и в его вздохе было столько обреченности, будто я попросил у него новый роман братьев Стругацких, изданный «Посевом». Он потянулся к коробке «Казбека», замер, вспомнив, наверное, о врачебных запретах, и лишь потер пальцами край стола.
– И я надеюсь, – с оптимизмом произнес я, разводя руками, словно обнимая невидимые горизонты светлого будущего советского шахматного спорта.
– Итак? – спросил он, сжав губы в тонкую ниточку. Его пальцы нервно перебирали край папки с грифом «ДСП».
– Итак, – начал я, вставая и делая пару шагов к окну, за которым медленно гасли огни большого города, погружаясь в сизую вечернюю мглу.
– Во-первых, следует пересмотреть положение о коэффициентах при начислении призовых. Коренным образом. Нынешняя система… – я обернулся к нему, – она, Адольф Андреевич, мягко говоря, не способствует укреплению международного авторитета. Советские и зарубежные участники должны быть в равных условиях. Без всяких там «но» и «если». Принцип спортивного равенства, товарищ Миколчук.
– Это… – он помедлил, поскреб ногтем по этикетке папки, оставляя белую царапину на темно-зеленом коленкоре, – … это, я думаю, возможно. В принципе. Надо будет посоветоваться с планово-финансовым отделом… Составить служебную записку… Голос его увяз в трясине бюрократических процедур
– Не сомневайтесь, – уверил я его, и поднял взгляд к потолку.
Миколчук посмотрел вслед за мной. Потолок как потолок. Можно бы и обновить побелку, но в целом вполне пристойно.
– Далее, – продолжил я, переведя взгляд с потолка на хозяина кабинета. – Далее, уверен, вы как человек опытный и проницательный, прекрасно понимаете, что чемпион мира, действующий чемпион мира – это особая статья.
– В каком смысле особая? – насторожился Миколчук. Его рука инстинктивно потянулась к телефонному аппарату.
– Во многих, Адольф Андреевич. Во многих смыслах. В том числе, – я сделал едва заметную паузу, давая словам набрать вес, – и статья расходов особая.
– В какой же сумме это выражается? – спросил он, и голос его слегка дрогнул, предчувствуя недоброе. Он уже мысленно листал сметы, представляя недовольные лица в бухгалтерии и вышестоящих инстанциях.
– Мое условие, – произнес я четко, глядя ему прямо в толстые стекла очков, – очень простое: «Волга, Газ-24».
– Автомобиль? – вырвалось у Миколчука. Его лицо выразило целую гамму чувств, сменявших друг друга с калейдоскопической быстротой: искреннее, почти детское изумление, затем возмущение, и, наконец, леденящий ужас. Он даже отодвинулся в кресле, словно я положил на стол гадюку. – Автомобиль⁈ Да вы… Михаил Владленович!
– Нет, пылесос, – невозмутимо парировал я, позволив себе легкую, чуть язвительную улыбку. – Конечно, автомобиль, Адольф Андреевич. И не просто автомобиль. Обязательно в экспортном исполнении. Обязательно белого цвета. Белого, как совесть истинного коммуниста. И обязательно с вручением сразу, по окончании турнира. Прямо на закрытии. Под аплодисменты.
Я представил себе этот момент: вспышки фотокамер, завистливые взгляды коллег.
– Но у меня… – Миколчук закашлялся, смахнул невидимую пылинку со стола, его пальцы барабанили нервную дробь. – Но…у нас нет такой возможности! Автомобиль… да ещё «Волгу»… да ещё экспортную… Михаил Владленович, вы же понимаете! Это же не тренировочный костюм!
– Тренировочный костюм, кстати, тоже не помешает. Олимпийский. Но на костюме не настаиваю. А насчет автомобиля обратитесь к Павлову, – спокойно предложил я, как будто советовал диету для похудания. – К Сергею Павловичу. Не откладывайте, прямо сегодня. Вот я уйду, а вы сразу позвоните.
Я сделал паузу, давая время на совету укорениться в его сознании. – Учтите, Адольф Андреевич, это не лично мне приз. Ни в коем случае. Это приз победителю турнира. По самому что ни на есть спортивному принципу. Кто победит, тот и получит ключи от машины. Честно, открыто.
– Позвонить? – переспросил Миколчук с сомнением. – Сергею Павловичу? Да он… Он же скажет…
– Обязательно позвоните, Адольф Андреевич, – повторил я, уже двигаясь к двери, чувствуя, что пора уходить, оставив зерно сомнения прорастать в этой благодатной почве бюрократического страха и надежды. – Попытка не пытка, как говорится. А в данном случае, совсем наоборот. Это же шанс! Может, и обойдётся, а?
Я остановился у двери, взялся за ручку.
– И знаете что? – добавил я, обернувшись к нему. – Всё будет хорошо. Позвоните, и жизнь ваша, Адольф Андреевич, тотчас же заиграет новыми, самыми что ни на есть яркими красками! Уверяю вас.
Я вышел, тихо прикрыв за собой дверь. Оставив Адольфа Андреевича Миколчука сидеть в его кабинете с высоким потолком. Сидеть перед черным, немым телефоном, который вдруг стал казаться ему невероятно тяжелым и страшным, как вход в пещеру неизвестного, но грозного будущего.
Я знал, что «Волга», именно такая, в Спорткомитете была. Точнее, не сама «Волга», а ордер на неё.
Ещё в прошлом году ее заказали для меня. Как награду за то, что я отстоял звание чемпиона мира. Но потом решили, что и гонорар, и автомобиль – это жирно будет. К тому же у меня уже есть одна «Волга». И решили машину заиграть. То есть поощрить кого-то другого. Не пропадать же ценному призу. Ценный приз – ценному человеку, да. Об этом мне рассказал Тритьяков. Павлова пока трогать не хотели, перед Олимпиадой Павлова менять не стоило. Но намекнуть можно.
Вот я и намекну. Через Миколчука. Заодно и Адольф Андреевич взбодрится. И, как возможный приз, «Волга» очень привлекательна. И для советских шахматистов, и для зарубежных.
Для меня тоже.