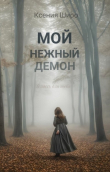Текст книги "Защита Чижика (СИ)"
Автор книги: Василий Щепетнев
Жанры:
Альтернативная история
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
Оглядываясь в зеркало, я не заметил ничего подозрительного. Никто меня не преследовал, никто не маячила упорно за спиной. Конечно, размышлял я, крутя баранку, в двадцатом веке, веке технического прогресса, есть и куда более изощренные способы контроля – радиомаяки, подслушивающие устройства размером с пуговицу, спутники, наконец. Но все это казалось мне слишком сложным, слишком дорогим и слишком… западным для нашего родного, цирка.
Мысль о слежке сменилась другой. Стрельбу-то в тот вечер открыл старый знакомец, некогда провозглашавший себя лучшим писателем Москвы и всех её окрестностей, Андрий Слива. Человек странной и несчастливой судьбы. Мы виделись с ним в последний раз жарким летом семьдесят восьмого года, при довольно пикантных обстоятельствах. Помню, тогда девочки сдали его милиции прямо в скверике у нашего дома. За непотребное поведение, или, выражаясь научно, эксгибиоционизм. Водилось за ним и кое-что похуже, темные слухи, которые так и не подтвердились до конца, но тень бросили. Потому и получил он свои законные пять лет лишения свободы. И, по всем логическим раскладам, никак не должен был оказаться у подъезда гостиницы «Россия» в тот вечер, да еще с «Макаровым» в руке. Но – оказался. И пока мы, оглушенные нелепостью происходящего, занимались Высоцким, он вопил, надрываясь, хрипя: «Ненавижу, Чижик, ненавижу!» Сначала громко, исступленно, потом – тише, еще тише, еле слышно… Пока не умолк совсем. Навсегда.
Нет, умер он не от моих выстрелов, хотя пули раздробили бедренную и большеберцовую кости – травма страшная, мучительная, способная вызвать травматический, а по-народному болевой шок. Но почему-то не вызвала. Он сохранил и сознание, и волю к действию. Если бы девочки не поспешили, не обезвредили его окончательно, он и лежа в луже собственной крови, мог бы продолжить стрельбу. Такая уж была у него в ту минута неистовая воля.
А еще запомнился запах. Когда я, после того как все стихло, наклонился над бездыханным телом Сливы, то отчетливо почувствовал странный, резкий, «химический» запах, не похожий ни на кровь, ни на порох. И пена. Белесая, мелкопузырчатая пена на посиневших губах. Как у отравленной собаки.
Потом, когда пришлось рассказывать компетентным органам, что и как произошло, версию выработали быстро и удобно: Слива, дескать, выкрикивал мое имя, потому что я его подстрелил. А в Высоцкого стрелял из общих, так сказать, соображений. Из черной зависти. Он же был известен как человек невероятно, патологически завистливый, наш покойный Андрий Слива. С бездарностями такое случается. Зависть гложет их пуще червя, толкает на глупости, а то и на преступления. Сплетни распускают. Доносы пишут. Стреляют, правда, редко. Зачем стрелять, когда можно донести?
Оставались вопросы, неудобные, как этюд с дуалями. Как он, Андрий Слива, оказался на свободе раньше срока? Откуда взял оружие? И главное – почему умер? Не от пуль же моих, в самом деле. Компетентные товарищи, с лицами непроницаемыми, как статистика уголовных преступлений, заверили меня: этим займутся. Уже занимаются. Тон их голосов не оставлял сомнений: заниматься будут долго, тщательно и, вероятно, безрезультатно. Тайна должна остаться тайной, как подобает государственной тайне третьего разряда.
Насчет «почему умер» у меня, однако, созрела своя версия. Не медицинская, нет. Скорее – из области мрачных городских легенд и наблюдений за подпольной жизнью столицы. Я думал долго, вспоминая этот странный, «аптечный» запах и пену на губах. Я думаю, что Андрий был под воздействием какого-то вещества. Сильнодействующего. Одурманивающего. Берсеркерского. Какого именно – кто ж знает? Мир ведьм и ворожей нынче не то что в средневековье – он разросся, обогатился достижениями науки. Грибы, да не простые, а с болота за МКАДом? Травы, собранные на заброшенных пустырях под присмотром старухи с глазами, как мутные бусины? Ягоды волчьи, да не те, что в лесу, а вымоченные в чем-то нехорошем? Или экзотика: сушеные насекомые, толченые улитки, лягушачья икра, настоянная на лунном свете и ненависти? Всё идет в дело у современных колдунов. А сверху – присыпка химии, дитя двадцатого века. Век-то у нас какой? Химический! И я уверен, как в том, что завтра взойдет солнце (если, конечно, небо не затянет олимпийской дымкой), что Андрий то ли сам, в приступе отчаяния или мании величия, принял некое снадобье, то ли ему «предложили» – да так настойчиво, что отказаться было смерти подобно. И убивать-то он шёл не Владимира Семеновича, а меня. Чижика. С самого начала. Просто перепутал в наркотическом экстазе, в чаду безумия. Увидел: слева – Надежда, справа – Ольга, а посредине кто? Посредине – я, Чижик, небрежно опирающийся на капот «Матушки», заветной мечте любого гражданина. У меня есть, а лучший писатель Москвы и окрестностей сидит в коммуналке в потёмках, потому что и за свет заплатить нечем! Вот она, искра, от которой вспыхнул пожар ненависти.
И начал стрелять. А потом умер – опять же, я уверен, не от моих пуль, а от яда. От того зелья, что подстегнуло его сердце, как кнут загнанную лошадь, а потом оборвало его бег. Вызвавшего мгновенный инсульт. Представляю, какое давление было у Андрия в тот миг – под двести пятьдесят, не меньше! Одноразовый берсерк. Живая граната замедленного действия. Убивая других, умираю сам.
Пистолет… Пистолет Макарова, но без серийного номера. Нет, не спилен. Номера не было с самого начала. Так бывает? В нашем огромном, загадочном отечестве – еще как бывает! Иногда для особых случаев выпускают партии, самые малые. Без опознавательных знаков. Для невидимых рук, выполняющих невидимые приказы. А то и вовсе: не перевелись еще умельцы-самородки, что в подпольной мастерской, в гараже, заваленном стружкой и запахом машинного масла, могут собрать «на коленке» пистолет, а ля Прохор Порфирич – грубоватый, но смертоносный. На безрыбье и рак – пистолет.
Второе соображение: попасть в человека с шести шагов – дело не архисложное, но и не совсем уж простое для дилетанта. Без тренировки, без привычки к отдаче и грохоту выстрела, бывало, и в собственную ногу попадает неопытный стрелок. Судя по тому, как Слива держал оружие (хотя и дрожали руки), как целился (хоть и плохо), его готовили. Натаскивали. Но видно, торопились. Или сам ученик оказался нерадивым. Иначе он попал бы все три раза, с таких-то смешных метров! А он попал только однажды – в Высоцкого. Две другие пули, словно слепые, пробили дверцу «Волги» и застряли в кожаном сидении, откуда их потом аккуратно извлекли пинцетом, как занозы. Нет, в картотеках ствол, разумеется, не значился. Призрак стрелял из призрачного оружия.
Будут искать, будут, заверяли компетентные товарищи. Возможно, и развяжут ниточку. Возможно. Но мне, Чижику, об этом, само собой, не сообщат. За ненадобностью. Тайны Кремля, даже самые маленькие и грязные, должны оставаться в стенах Кремля. Или раствориться в архивной пыли. Так уж заведено.
О происшедшем ни одна газета не обмолвилось ни единым словом. В Советском Союзе такого просто не может быть! Ни громких убийств у гостиниц, ни взрывов, ни пожаров, ни цунами. Ничего плохого. А раз не может быть, то его и нет! Солнце светит, флаги олимпийские трепещут на ветру, народ радуется предстоящему празднику спорта. И точка.
Я остановился у киоска «Союзпечати». Очередь из трех человек. Купил свежий номер «Вечерней Москвы». Заметил любопытное: рядом с привычными «Опалами» и «Космосами» лежали, вызывающе яркие, пачки «Мальборо» и «Кэмэл». По рублю за пачку! А прежде, у спекулянтов, трёшку стоили. Порадовался за курильщиков – вот она, заграничная мечта, материализовавшаяся в картонной коробочке. Порадовался и тому, что сам не курю.
Чуть дальше, у импровизированного прилавка, шла бойкая торговля пивом «Синебрюхов». Длиннющие очереди первых дней сменились очередями средними, терпеливыми, минут на тридцать-сорок. Народ брал по-прежнему жадно, насколько хватало сил унести и денег в кошельке. Опять же рубль – но уже за жестяную банку. Напиток заграничный, праздничный. Я и к пиву равнодушен. Однако за москвичей искренне порадовался. Могут теперь, сидя перед телевизором, с банкой «Синебрюхова» и сигаретой «Мальборо», вообразить себя хоть ненадолго где-нибудь в Хельсинки или Стокгольме. Иллюзия заграницы за два рубля на всё про всё – недорого!
И тут ко мне подошел очередной шкет. Лет пятнадцати, глаза бегающие, руки в карманах ветровки. Оглянулся по сторонам и вполголоса, конспиративно, предложил: «Дядя, картонку 'Мальборо» не желаете? Всего полтинник! Заманчиво: купишь пустую пачку от «престижных» сигарет за полтинник, набьешь ее дешевыми «Ту» или «Стюардессой» – и щеголяй перед сверстниками-нищебродами, создавая видимость шика. лепота.
– Нет, – вежливо отказался я. – Не курю.
Он не сдавался:
– Ну, за сорок копеек! Почти даром!
Но и это не соблазнило. Олимпиада еще не началась, а буржуазная зараза показного потребления уже вовсю разлагает нашу замечательную молодежь! Грустно, девушки, грустно.
Я вернулся в машину, развернул купленную газету. Листал страницы: сводки с полей (все в порядке), новости культуры (театр Сатиры ставит новый спектакль), спортивные достижения (готовы к Олимпиаде!). О происшествии у гостиницы «Россия» – ни полслова. Ни намека. Как будто и не было ничего. Только следы на дверце да эхо: «ненавижу, Чижик, ненавижу!»
Посидел так минут пять. В ушах тихонько зазвенело. Недавно я сдавал кровь. Не много, но и не мало – пол-литра. Девочки, Надя и Оля, тоже сдавали – не отставать же. Потом, конечно, налегли на гранатовый сок, на привозные яблоки, на бутерброды с красной икрой, – для скорейшего восполнения потерь. Но легкая слабость, этакая приятная истома, все же осталась. Как после хорошей, но изматывающей бани. Ничего, утешали бывалые доноры, скоро пройдет. Понравится – будете каждый квартал наведываться. Во-первых, талон на усиленное питание – мясо, масло, гематоген. Во-вторых, к отпуску целый день добавится! А станете почетным донором – так и медальку дадут, блестящую, на винте. Почет и уважение.
Я посмотрел на часы. Стрелки неумолимо ползли вперед. Мы договорились встретиться с девочками у главного корпуса больницы Склифософского. Поговорить с докторами, узнать, не нужно ли чего еще для скорейшего выздоровления нашего дорогого режиссера? Лекарства заграничные? Консультации светил? Атмосфера покоя? Все будет найдено, все будет обеспечено. Нет, я знаю – сделают все, что нужно, но так положено – волноваться, спрашивать и предлагать.
«Матушка» послушно замурлыкала. Пора ехать. Москва ждала, огромная, шумная, готовящаяся к празднику, хранящая в своих каменных недрах множество невысказанных тайн и нераскрытых дел.
Глава 9
11 мая 1980 года, воскресенье
Роза ветров
Мы ехали вслед за грузовиками. Близко не приближались, держались в полукилометре. Пыли на этой дороге было не больше, чем на любой другой, но дорога шла в гору, «шишиги» изрядно нагружены, сизый выхлоп виден издалека. Зачем дышать невесть чем? Лучше дышать лесным воздухом.
Справа лес, высокой и глухой стеной. Слева тоже лес, чуть пореже, но такой же безмолвный и неласковый. И кроме нашей небольшой, разрозненной колонны – ни души.
Эта дорога – она словно призрак. В «Атласе автомобильных дорог» ее не сыскать, на общедоступной карте Подмосковья эти места обозначены сухо и уклончиво: «Московская Возвышенность». Ни тебе городов, ни сел, даже крохотных деревень в непосредственной близи не значится. Лишь неприступный Еремеевский заказник, с его грозным предупреждением: «Посторонним вход воспрещен». Но мы-то, кажется, посторонними не считались. Или считались? Тонкая грань.
Впереди – Пантера и Лиса. Пантера за рулем, Лиса – штурман, с картой, которой нет, но с звериным чутьем на повороты. На заднем сидении я и майор Щусев. Майор – в повседневной форме, видавшей виды, с легкой потертостью на локтях и той небрежностью ношения, что присуща кадровым военным вне парадов. Я же в форме как раз парадной. Обновка. Сшили мне ее девочки, Пантера и Лиса. В порядке трудотерапии, наука советует. Если в вас стреляют – сбрасывайте стресс приятной работой. Форма есть форма, вроде бы для фантазии места нет, но вышло замечательно. Материал благородный, с легким шелковистым отливом. Крой – подчеркивающий, но не стесняющий. Исполнение – безупречное, каждая строчка, каждая пуговица – маленькое приятное волшебство. Уверен, на нашей пятой швейной фабрике такое вряд ли кто пошьёт. Капитанские погоны окрыляют. И «Золотая Звезда» Героя жаркая и блестящая, отлитая в вечности. Плюс орденские планки. Без этого парадный мундир неполон.
До Можайска мы добирались самостоятельно. К назначенному часу, как и положено, честь по чести. Путь от Москвы в этот погожий, солнечный день мог бы быть сплошным удовольствием. Вел «Матушку» я, вел и залихватски распевал весёлые ямщицкие песни. «Ах, милый барин, добрый барин, уж скоро год, как я люблю…» Звенел голос, бился о стекла, пытался заполнить пустоту. Ладно… Не очень-то весёлые песни. С чего бы им быть весёлыми? Откуда взяться веселью? Певчий смерть-чижик, ага, ага.
Настроение мое было… не то чтобы скверным. Оно было тяжелым, как свинцовая туча перед грозой, которая вот-вот разразится, но все тянет и тянет. Сначала – всплеск адреналина, пиф-паф и всё остальное, а потом, вестимо, расплата. Накатили раздумья. Глухие, невеселые. А следом за ними подползла иная гостья – грусть-тоска, широкая, беспричинная и беспощадная. Чувствовал я себя так, словно та самая Птица Счастья Завтрашнего Дня, о которой все твердят, не выбрала меня легким крылом по плечу, а ударила тяжелым, железным клювом прямо в темя. Счастья ли это Птица?
Но девочки старались. Чувствовали мое состояние, пытались ободрить. Подхватывали песни, улыбались, мне в зеркало видно. Им ведь тоже нелегко. Совсем нелегко. Но они держатся. Молодцы. Потому и предложение отправится на объект, ознакомления ради, пришлось как нельзя кстати. Все-таки дело не без пользы. И вдруг… вдруг отвлечемся? Хоть на час, хоть на минуту.
В Можайске заехали по указанному в предписании адресу. Там уже все было готово: три грузовика стояли в ожидании, их водители курили в сторонке, перебрасываясь редкими словами. Майор вышел, представился – коротко, по-военному. Майор Щусев. Я перебрался на заднее сиденье, уступив место у руля Пантере, а Щусев устроился рядом со мной, аккуратно положив фуражку на колени. Девочки заняли свои места – штурман и пилот. «Шишиги», пыхнув чадом, тронулись с места. Мы, выждав пару минут, двинулись следом.
Пение прекратилось само собой. Не то чтобы мы стеснялись майора, нам стесняться не пристало. Просто не пелось. Виной тому то ли обступивший дорогу со всех сторон лес – всё больше ельник, тёмный, мрачный и невероятно суровый, будто выстроившийся в почётный караул, безвременно, безвременно. То ли кураж, тот самый, легкий, бесшабашный, окончательно улетучился, испарился. В лесу не поётся. В широком поле – поётся, душа летит наружу. На воде, под мерный плеск волн – поётся, легко и вольно. А в лесу… В лесу петь страшновато. Боишься разбудить дремлющее меж коряг и валежника лихо, недоброе, древнее. Оно, лихо-то, и без того, кажется, не спит. Приоткрыло единственный глаз, холодный, как объектив оптического прицела, и наблюдает. Наблюдает и ждёт. Чего? Неведомо. Но ощущение это – тягостное, неотвязное – витало в салоне «Матушки», смешиваясь с запахом моей формы и одеколона «Шипр». Одеколон – это лепта майора.
Расстояние, казалось бы, пустяковое. «Матушка», в одиночестве пронеслась бы по этому шоссе легко, словно ласточка над полем, уложившись в полчаса, а то и менее. Но судьба распорядилась иначе. Скорость нашей маленькой процессии определялась теперь не капризом водителя или мощностью двигателя, а неторопливым движением трёх грузовиков впереди. Они надсаживались на подъёмах, и их серые спины, затянутые брезентом, казались неподвижными на фоне дороги. Равенство скоростей. Но за час доберемся, заверил Щусев.
Майор… Он немножко нервничал. Чуть-чуть, самую малость. Палец его правой руки, лежащей на колене, слегка постукивал по сукну брюк, будто отбивая морзянку. Взгляд блуждал по сторонам, цепляясь то за вершину особенно мрачной ели, то за перелетевшую через дорогу сороку. Сорока не заяц, сорока не страшно. Может, и на него давил безмолвный лес? Может, наше соседство? А может, просто съел что-то наспех в Можайске – соленый огурчик не той закваски или пирожок с ливером, опрометчиво купленный с лотка? Но он терпел.
Ровно через час мы достигли цели. Сначала указатель, белыми буквами по синему полю – «Красный путь». Затем, чуть дальше, другой – «ОПХ им. Бонч-Бруевича». И почти сразу, словно вырастая из самой земли на повороте, открылось селение. Оно не поражало ни размерами, ни архитектурой. Скорее, наводило на мысли о временах давно минувших, о тридцатых годах, когда все строили быстро, функционально и без излишеств. Несколько строений барачного типа, с одинаково тусклыми окнами. Финские домики, стоявшие рядком. Машинный двор, где несколько тракторов, похожих на спящих железных жуков, стояли под навесом. Конюшня – от нее несло теплом, навозом и сеном, запахом, казалось бы, неуместным среди техники, но здесь – родным. Коровник, низкий и длинный. ещё какие-то невзрачные хозяйственные постройки, назначение которых угадывалось с трудом. И водокачка – невысокая башенка с шатром, словно сошедшая со страниц учебника по обустройству колхозов.
Но поражали не строения, а дорожки. Не асфальтовые, а выложенные бетонными плитами, не какой-нибудь тяп-ляп, а немецкая работа. Деревья вокруг – всё больше липы, уже распустившие свои липкие, сердечком листочки, стояли ровными рядами, создавая тень и тишину. Тишина здесь была особая – не лесная, дикая, а какая-то… ухоженная, подстриженная, как газон.
– Это спецхозяйство, – начал пояснения майор, его голос прозвучал громче, чем нужно, нарушая установившуюся тишину. Он явно заучивал этот текст. – Небольшое, на сто двадцать работников. Овощи, фрукты-ягоды, молоко. Для спецстоловой, спецбуфета. – Он сделал паузу, подбирая слова, важные, подчеркнутые. – Минимум искусственных, синтетических удобрений. Полное отсутствие ядохимикатов. Всё исключительно натуральное. Здоровая пища – для здоровья людей.
Это был не его текст. Это был лозунг, висевший на стене небольшого домика, который, судя по вывеске «Контора» и занавескам на окнах, и был административным центром. Конторы, они везде конторы. Кто же на своей собственной избе, прибьёт лозунг о здоровой пище? И знамя – небольшое, но новенькое, алое – кто станет его вывешивать над крыльцом своего дома? Нет у нас такого обыкновения. Знамя – оно для площадей, для парадов, для контор.
– Живут и работают здесь староверы журбинского согласия, – продолжал майор, понизив голос, как бы сообщая нечто конфиденциальное, хотя кто мог его слышать, кроме нас? – Они здесь и при царе-батюшке жили, и после революции остались. В войну… – он кашлянул, – немцы сюда не совались. Можайск взяли, и по окрестностям шастали, но сюда не дошли. Да и времени у них, у фрицев, не было. Другие задачи, поважнее. Но староверы решили, что место тут особенное. Наполеон, говорят, обошел стороной. Гитлеровцы – тоже мимо прошли. Стало быть, место заветное. Святое.
– Работают кем? – спросила Лиса, Надежда, повернув голову с переднего сиденья. Ее голос, обычно звонкий и насмешливый, сейчас звучал ровно, с деловым интересом.
– Всеми, – отозвался майор. – В хозяйстве. И пашут, и сеют, и сажают, и урожай убирают. Таких работников поискать. Исполнительны. Трудолюбивы до крайности. А что в Бога верят… – майор махнул рукой, – так пусть верят. У нас же, как известно, свобода совести. Конституция. Работе вера не мешает. Напротив, дисциплинирует.
Людей на идеальных бетонных дорожках было поразительно мало. Совсем мало. Один-единственный человек только и попался на глаза. Мужчина под сорок, он шел не спеша, неся что-то тяжелое в берестяном коробе за спиной. И он не взглянул на нашу машину, на колонну грузовиков. Его взгляд был прикован к высокой липе у дороги. Что он там высматривал? Какой знак, какое предзнаменование в переплетении ветвей и молодой листвы? С нашего сиденья, из движущейся «Волги», ракурс был не тот. Не понять.
– Да, – вздохнул майор, словно подтверждая мои мысли, – они нелюбопытные. И наш брат им неинтересен. Совсем.
– Ваш брат? – быстро переспросила Надежда, взявшая на себя бремя общения с майором, пока Ольга сосредоточенно вела машину по незнакомому поселку, а я летал с веточки на веточки древа собственных мыслей. – А кто ваш брат?
– Наш брат… – майор замялся, – это… военные. В общем смысле. Они – как бы сами по себе. Мы – сами по себе. Ну, это… по жизни так. А по работе… ничего, есть контакт. Как положено.
Посёлок остался позади. Дорога пошла в гору, но уклон невелик, да и горой это можно было назвать лишь с большой натяжкой. Пригорок. На общедоступной карте Подмосковья этот бугорок не обозначен вовсе – просто часть Возвышенности, безымянная. Но на той карте, что я привез из Берлина, купленной больше из любопытства, было четко выведено: «Навь-Гора». По-немецки, конечно. Высота – 340 метров над уровнем моря. Что ж… Триста сорок, так триста сорок. Чем богаты, тем и рады. У иных и такой горы нет.
Навь-Гора… Звучит странно, чуждо, отдавая седой древностью и чем-то потусторонним. И «Матушка» наша, взбираясь на этот склон, казалось, вздыхала чуть глубже, а майор Щусев невольно поправил фуражку на коленях, глядя вперёд, туда, где дорогу перекрывали уже не деревья, а ворота.
Майор показал рукой на строения, затерявшиеся среди высоких сосен.
– База отдыха «Вершина», – произнес он с гордостью. – Министерства обороны. Ныне пребывает на реконструкции. Официально. Ремонт, понимаете ли, требуется капитальный, а средств… – Он развел руками, и в этом жесте читалась целая эпопея ведомственных согласований, урезанных смет и вечной нехватки. – Средств пока не предвидится. Потому отдыхающих нет. Пустует.
Слова «пустует» повисли в воздухе с какой-то особенной значительностью. И действительно, обширный двор, на удивление ухоженный – ни травинки лишней, словно подметенный крупной щеткой, – казался вымершим. Если бы не грузовики. Три «Шишиги», Газ-66 то есть, цвета грязи и пыли, стояли у невзрачного ангара, похожего на раздувшуюся избу. Их разгружали. Подъезжал, негромко урча, небольшой погрузчик, его вилы ловко подхватывали контейнер – серый, безликий, на вид четверть или треть тонны – и аккуратно увозил его в зев ангара. Споро. Без лишних слов, без суеты. Работали двое: оператор погрузчика и водитель шишиги. Вот и все действующие лица на этой обширной сцене. Никаких восьми человек. Никакой толчеи. Только методичный гул мотора погрузчика, скрежет металла и тихий шелест страниц блокнота. Ладно, шелест страниц я для красоты вообразил. То есть он, конечно, был, шелест, но за шумом двигателя не очень его и слышно. Совсем не слышно.
Мы, послушные указанию майора, проехали по бетонке глубже, в сердце базы. Недалеко. Совсем недалеко. Казалось, сделали лишь десяток оборотов колес.
База отдыха «Вершина» великолепием не поражала. Она не поражала вообще ничем. Обыкновенная. Стандартная. Унылая. Таких баз на дюжину двенадцать. Даже больше! Словно штамповка с какого-то ведомственного конвейера образца шестидесятых. Двухэтажный жилой корпус, по длине и убогости фасада напоминающий хрущевку на два подъезда, но без балконов и с каким-то особенно тоскливым видом. Рядом – приземистая коробка столовой-кухни, с трубой, из которой, впрочем, вился обнадёживающий дымок. Волейбольная площадка с обвисшей сеткой. Беседка. Раковина эстрады, ряды самых простых деревянных скамеек. Без излишеств, в общем. Экономика, как известно, должна быть экономной. И база «Вершина» являла собой живой памятник незыблемой истине. Не совсем, правда, живой, памятник-то. Спящая красавица, малость постаревшая. Или её восковая копия во стеклянном во гробу.
«Матушка» остановилась у входа в жилой корпус. Мы вылезли, осторожно разминая затекшие ноги. Все-таки сто сорок восемь километров даже по хорошей дороге слегка утомляют. От порога Дома На Набережной до порога базы. И какая разница в этих порогах!
Майор, поправив фуражку, встал перед нами, приняв позу заправского экскурсовода перед важным экспонатом. Лицо его выражало сосредоточенную серьезность, смешанную с легкой долей сожаления, что люди ленивы и нелюбопытны, не оценят.
– Итак, это, собственно, и есть объект «Вершина», – начал он, делая широкий, всеохватывающий жест рукой. – С какой стороны ни посмотри – рядовое, ничем не примечательное строение. Типичное детище строительных батальонов. Функционально. Скромно.
Мы согласно, почти синхронно, кивнули. Да, рядовое. Да, непримечательное. Даже откровенно убогое. Кирпич, когда-то, видимо, желтый, ныне выцвел до грязно-серого, местами покрылся лишайником. Штукатурка, нанесенная, должно быть, второпях и с большой неохотой, давно облупилась, обнажив швы кладки. Стройбат, несомненно, потрудился на совесть. Лет пятнадцать назад. Или двадцать. Времена, когда раствор замешивали на энтузиазме и приказах сверху. Следы их трудового подвига были налицо – точнее, на стенах.
– Однако, товарищи, – вдруг улыбнулся майор, и в его улыбке промелькнуло что-то хищное, знающее, – не судите опрометчиво, как говаривал кардинал Ришелье. Внешность, знаете ли, бывает обманчива. Давайте посмотрим на внутреннее содержание сего невзрачного сосуда.
Он подошел к главному входу. Дверь, надо отдать ей должное, выглядела неожиданно солидно на фоне общего запустения – массивная, с мощной коробкой. Заперта наглухо. Майор порылся в кармане кителя и извлек ключ. Ключ оказался внушительный, тяжелый, формой и размерами напоминавший куриную лапку, отлитую в стали. Он сдвинул стальную же заслонку, ключ вошёл в скважину. Майор провернул его с видимым усилием. Замок, впрочем, открылся почти бесшумно. Хорошо смазан, должно быть. Дверь, толстая, явно слоёная (дерево-сталь-дерево, как бутерброд), без скрипа подалась внутрь.
– Никакой на свете зверь, – с плохо скрываемой гордостью сказал майор, распахивая тяжелое полотно, – не ворвётся в эту дверь! Сие творение рук человеческих!
Он не договорил. Как по мановению волшебной палочки, а точнее, по сигналу, который, видимо, разнёсся по невидимым проводам, со стороны столовой показались двое солдат. Бегом-бегом-бегом. На груди – автоматы Калашникова. Лица – не юношеские. Взрослые лица. С жесткой складкой у губ и прищуром бывалых глаз. Сверхсрочники. Сержант и старший сержант. И лица, и хорошо сидящая форма, и сама манера держаться – всё дышало выучкой, дисциплиной и той особой «душой», что вкладывается в службу годами. На положенном расстоянии, четко, как на плацу, они перешли на шаг. Старший доложил, отчеканивая каждое слово:
– Товарищ майор! Наряд по сигналу «Тревога-1» прибыл в полном составе! Старший сержант Петренко! Сержант Игнатов!
Голос был твёрдый, без тени волнения. Майор кивнул, едва заметно.
– Вольно. Проверка объекта. Можете следовать на пост.
– Есть следовать на пост! – ответил старший сержант, и оба, развернувшись с идеальной синхронностью, зашагали обратно, к столовой. Верно, на свой пост. Тишина снова сомкнулась, но теперь она была иной – настороженной.
– Объект, как вы знаете, находится в режиме консервации, бездействует, – пояснил майор, как бы извиняясь за суету. Голос его был ровен, но в глазах читалось удовлетворение от слаженности системы. – Соответственно, любое вскрытие штатного входа автоматически включает сигнал тревоги на посту охраны. Элементарные меры предосторожности. Когда объект заселен, разумеется, система деактивируется.
Мы переступили порог, оставив за спиной сосны, тишину и майский воздух. Внутри пахло старым деревом и почему-то пчелиным воском. Первое впечатление: не совсем хрущевка, но очень близко к тому. Однако, присмотревшись, понимаешь разницу. Все было поразительно чисто. Полы, старый линолеум, но вымыты до блеска. Стены в мой рост, выкрашены масляной краской в неопределенный зеленовато-голубой цвет – «госпитальный», как его иногда называют. Выше – побелены старой, уже не первой свежести, известью. Никакого запаха свежей краски или штукатурки – значит, ремонт проводился давно. Но при этом – ни облупившихся участков, ни царапин, ни надписей. Объект, несомненно, достоин звания «Дома высокой культуры быта», если бы такое звание присваивалось бункерам.
Коридор, длинный, прямой, освещен редкими тусклыми светильниками под потолком – те самые, «трамвайные», экономичные, дающие ровно столько света, чтобы не споткнуться. По обе стороны – одинаковые, покрашенные в тот же «госпитальный» цвет двери с металлическими номерками. Как в самой заурядной сельской гостиничке, где останавливаются агрономы или ветеринары. Номера двузначные: «11», «12», «13»…
Майор достал из кармана другой ключ – поменьше, обычный «личиночный» – и открыл дверь с номером «12». Дверь скрипнула. За ней – темнота. Густая, непроглядная, как в погребе. Майор нащупал выключатель. Щелчок. И загорелся свет. Не яркий, не праздничный, а именно такой, как в трамвае поздним вечером – тусклый, желтоватый, плоский. Он не столько освещал, сколько обозначал предметы, отбрасывая длинные, неясные тени.
Обстановка предстала во всей своей «гостиничной» простоте, сельского, вернее, армейского типа. Две железные кровати, покрытые серыми байковыми одеялами. Между ними – две тумбочки, простенькие-простенькие. Посредине круглый стол, на котором на стеклянном круглом подносике стеклянный же графин и три стакана. И в углу, на небольшой полке, венец цивилизации: телевизор. Маленький, транзисторный, черно-белый, экран не больше почтовой открытки. Пол – паркетный, голый, безо всяких следов ковриков или дорожек. Холодный и звонкий под каблуками.
– Но почему окна такие темные? – спросила Лиса, подходя к одному из окон. Снаружи, сквозь стекло, должен был литься свет, но здесь царил полумрак. Стекло казалось непрозрачным, закопченным.
– Ах, окна! – оживился майор. – То, что видно снаружи – это, собственно, и не окна вовсе. Фальш-окна. Имитация. – Он подошел к тому же окну. – Если изнутри… – Он взялся за ручку, вроде бы обычную, но более массивную. – То вот сначала – окно из закаленного стекла. – Он открыл первую створку. За ней открылся не вид на сосны, а… глухая стальная поверхность. – Затем – стальные противоударные ставни. – Майор потянул скобу, и с глухим стуком тяжелые стальные плиты, скрытые в стене, раздвинулись в стороны. уж затем пришла очередь «фальш-окно» из закаленного стекла. Он открыл и их, уже наружу, впустив в комнату свет и свежий воздух. Стало веселей. Хорошо снаружи, на воле. Видны были сосны, кусочек неба.