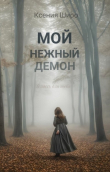Текст книги "Защита Чижика (СИ)"
Автор книги: Василий Щепетнев
Жанры:
Альтернативная история
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц)
Допустим. Допустим даже такое. Допустим, существуют где-то в тени, как призраки прошлого, наследники троцкистско-зиновьевского блока, недобитые враги народа, убивающие видных партийцев из черной ненависти к светлому будущему всего человечества. Фантастика? Возможно. Но жизнь иногда преподносит сюжеты и почище бульварных романов. Однако… Я-то, я – ни разу не видный партиец. Меня-то за что? Так, верно, и ягненок вопрошал волка – меня-то за что? Случайность. Рок. Нелепая ошибка. Или… тонкий расчет?
Тритьяков, выслушав мои версии, сказал, что стюардессы на международных линиях все как на подбор, многократно проверены, безупречной репутацией, и вообще… – он многозначительно постучал пальцем по виску, – … сотрудничают, да. Информируют. Но за ней, конечно, присмотрят. Хотя кому как не вам, Михаил Владленович, не знать, что люди смертны. А порой – внезапно смертны. Вот и попутчик ваш умер внезапно, но, скорее всего, сам по себе. Безо всякой сторонней помощи. Сердце. Печень. Сосуды. Кто их разберет. Погодим, дождёмся результатов вскрытия.
И вот я гожу в ожидании результатов этого вскрытия. Гожу, стоя на трибуне Мавзолея, среди самых важных людей страны, под голубым майским небом, под мерный гул проходящих колонн, прославляющих мощь и единство государства, в котором человек может умереть так нелепо и так внезапно от бутерброда со шпротинкой и глотка советского виски. Абсурд? Да. Но разве сама жизнь не абсурдна в своих самых неожиданных поворотах?
Берти и Кубасов уже спустились. Я оглянулся в последний раз на стремительно пустеющую Красную площадь. Знамена свернули, музыка смолкла, лишь редкие кучки запоздавших демонстрантов брели к выходу. Ветер гнал по брусчатке обрывки газет и конфетные фантики – жалкие следы только что отшумевшего великолепия. Низко, на бреющем, летала одинокая ворона. И я пошёл. Пошёл вниз по узкой лестнице, ступая след в след за славными космонавтами, чувствуя холод гранита под подошвами и ещё больший холод неразрешенных вопросов внутри. Последний свидетель. Последний в очереди.
Спуск был недолог. Двенадцать ступенек вниз – короткая передышка на площадке, затем ещё двенадцать ступенек – уже в почти полную тень, под сень мавзолейных стен.
– Пожалуйста, сюда, – вежливо, но с той не допускающей возражений интонацией, что свойственна людям, привыкшим сортировать потоки, произнёс дежурный. На его руке алела повязка – не просто красная, а ярко-алая, с четко выведенными белыми буквами «ДЕЖ». Символ не столько дежурства, сколько непререкаемой власти в этом локальном пространстве. Никаких сомнений, никаких лишних вопросов. Повязка говорила сама за себя.
Я послушно пошёл «сюда», и оказались в… зальчике. Именно зальчике, а не зале. Небольшом, уютно-казенном помещении, которое неожиданно напомнило мне буфеты на вокзалах тех самых провинциальных городков – Узловой, Графской, Ртищево. Тех, где вечно пахнет чебуреками и ожиданием опоздавшего поезда. Та же практичность, та же легкая унылость. У стены – буфетная стойка, пустоватая сейчас, с рядами невзрачных стаканов за стеклом. Посреди зала – высокие столы с темно-коричневыми, под мрамор, столешницами. Столы эти были рассчитаны явно на то, чтобы перекусить стоя, наскоро, опершись локтем. Сесть за них было немыслимо – ни стульев, ни табуретов рядом не наблюдалось. Аскетичная функциональность.
Впрочем, у дальней стены, под казенным портретом Ленина, стояли другие столы. Числом два. Обыкновенные, низкие, деревянные, с придвинутыми к ним такими же простыми скамьями. На скамье вольготно, могли уместиться двое, чуть потеснясь трое. Студенческой братии так и все четверо. Но сидели там отнюдь не студенты.
На одной стороне стола, вполоборота друг к другу, восседали Стельбов и Суслов. Напротив, одиноко, но с видимым комфортом, разместился Косыгин. Они сидели непринужденно, как старые знакомые после рабочего дня, и о чем-то неспешно толковали. Совершенно демократичная, почти патриархальная картина. Не знать – подумаешь, что это крепкие, видавшие виды хозяйственники районного или, максимум, областного масштаба задержались в командировке и коротают время в ожидании поезда. Суслов и Косыгин, конечно, в возрасте – что есть, то есть, седина, морщины, особая неторопливость движений. Но разве мало таких на директорских постах по всей необъятной стране? Золотой фонд опытных кадров, съевших зубы в бесконечных боях за выполнение и перевыполнение планов, за освоение фондов, за отчет перед вышестоящими инстанциями. Лица усталые, но спокойные, в глазах – привычная глубина и некоторая отрешенность от сиюминутной суеты.
Нам же отвели местечко в углу, у стены. На столике уже ждали, аккуратно разложенные, три тарелочки простой белой посуды. На каждой – по маленькому, аккуратному бутербродику: ломтик белого батона, слой желтоватого сливочного масла, и поверх – две аккуратные, жирно поблескивающие шпротинки. Рядом с каждой тарелочкой – маленький граненый стаканчик, наполненный на четверть золотисто-янтарной жидкостью. Виски. Ей-ей, всё один в один, как в том роковом самолёте! Тот же скромный «взлетный паёк для поднятия духа».
И, окинув взглядом зал, я с изумлением обнаружил, что на всех столиках стоят точно такие же тарелочки со шпротными бутербродами и стаканчики с виски! И, что самое поразительное, даже на столе, за которым сидела Большая Тройка, уже красовались три идентичных комплекта! Видимо, пока я пропадал в песках Ливии, в высших кругах вошла новая, необъяснимая мода на аэрофлотовские закуски. Или наоборот, «Аэрофлот» продвигал в массы кремлёвскую моду.
В зальчике все говорили вполголоса, даже в четверть голоса, как в читальном зале библиотеки. Все, кроме Большой Тройки. Их разговор был слышен, как литавры среди балалаек.
– А вот мы сейчас и узнаем мнение специалиста, – произнес Андрей Николаевич Стельбов, его голос, спокойный и чуть насмешливый, легко перекрыл затихающий гул. Он не повышал тона, но все вокруг мгновенно притихли ещё больше, будто втянув головы в плечи. – Раз уж он у нас тут совершенно случайно оказался.
Я понял, что речь обо мне. Взял со своего столика тот самый стаканчик виски. Поднес к носу. Понюхал, с профессиональным видом, который, надеюсь, выглядел убедительно. Да, виски. И не тот дешевый, что подавали на борту. Аромат сложнее, глубже, с оттенками дуба, дыма и… чего-то ещё, неуловимого. Похоже, настоящий. Односолодовый? Ирландский? В тонкостях я не силен, не такой уж знаток благородных напитков. Но что это никакого сравнения с аэрофлотовским вариантом – это было кристально ясно. Жизненный опыт, редкие, но памятные случаи, когда приходилось не только нюхать, но и пить нечто подобное, подсказывали: передо мной качественный продукт. Дорогой. Не для всех.
В этот момент меня осторожно, но настойчиво тронули за плечо. Я вздрогнул, едва не расплескав жидкость.
Обернулся. Передо мной снова стоял дежурный, лицо его было непроницаемо, как маска.
– Вас просят к столику, – сказал он тихо, кивком указывая в сторону Стельбова и компании.
– Кто? – спросил я просто, В простоте – сила!
– Товарищ Стельбов, – ответил дежурный, чуть помедлив, будто удивляясь необходимости пояснять очевидное.
Глядя дежурному прямо в глаза, ответил:
– Я не один.
Ответил, и немедленно выпил. и пить там – на один выстрел. Виски пробежало по горлу, и разлилось теплом внутри, гулять, так гулять.
Дежурный на мгновение остолбенел. Его глаза расширились от неподдельного изумления. Такого поворота он явно не ожидал. Он молча отступил на шаг, затем, словно вспомнив инструкцию, развернулся и пошёл к большому столу. Проконсультироваться. Вернулся через несколько томительных секунд.
– Просят всех, – сообщил он уже без тени удивления, просто констатируя факт.
И мы пошли. Кубасов, Берти и я. Трое участников странного ритуала. Почему бы и нет? Все красавцы на подбор, все герои. Кубасов так и вовсе – дважды Герой. Мы этого достойны.
Подошли к столу. Стельбов, не вставая, чуть подвинулся по скамье, освобождая место и кивнул Кубасову:
– Присаживайтесь, Валерий Николаевич, посидите с простыми людьми, расскажете нам что-нибудь космическое. Земля-то с орбиты как видится?'
«Валерий Николаевич» – это было сказано громко, отчетливо, на всю залу. Умный ход. Теперь все присутствующие в этом зальчике, все они теперь знали: Андрей Николаевич Стельбов не только в курсе, кто вернулся из космоса, но и знает космонавтов лично, в лицо, и по имени-отчеству. Раньше, когда героев космоса можно было пересчитать по пальцам одной руки, это было проще. Теперь, когда отряд разросся, это показывало не просто хорошую память, а ясный ум и внимание к деталям, достойное настоящего руководителя.
Косыгин, сидевший напротив, молча, но выразительно жестом показал на свободное место рядом с собой. Жест был небрежно-приветливый: мол, не стесняйтесь, за нашим скромным столом никто не лишний. Особенно герои.
Едва мы устроились – Кубасов рядом со Стельбовым и Сусловым, я с Косыгиным, Берти примостился рядом со мной – как из ниоткуда материализовался новый дежурный, ловко несший поднос. На подносе – три новых стаканчика виски и три блюдца с теми же неизменными бутербродами со шпротами. Ловко, без единого звона, он расставил все перед нами и так же бесшумно растворился.
– Вот, собственно, у нас тут и возник вопрос, Миша, – начал Стельбов, обращаясь ко мне, как ни в чем не бывало, будто мы продолжали вчерашний разговор. Он указал пальцем сначала на свой стаканчик, потом на бутерброд. – Некоторые очень уважаемые врачи… – он сделал многозначительную паузу, – … врачи с большими именами и учеными степенями, считают этот… аперитив, скажем так… источником бодрости и чуть ли не залогом долголетия для каждого уважающего себя взрослого мужчины. Настоятельно рекомендуют. А что, скажи на милость, считает по этому поводу современная молодежь? Ну, и наука, само собой. Просвети нас, Чижик!'
Я собрался, откашлялся. Что-то пересохло горлышко, нужно смазать, ага.
– За всю молодежь, Андрей Николаевич, ручаться не могу. Но современная медицинская наука… – я сделал паузу, стараясь говорить четко, как на лекции, – основываясь на данных метаанализа… то есть обобщений множества исследований… считает, что нет убедительных, доказательных свидетельств в пользу того, что малые дозы алкоголя сколько-нибудь существенно увеличивают продолжительность жизни. Никакого статистически значимого эффекта.
– Вот как? – неподдельно, почти по-детски огорчился Алексей Николаевич Косыгин. Он даже слегка поник, разглядывая свой стаканчик с виски, как вдруг лишившийся любимой игрушки. Его лицо, обычно замкнутое и сосредоточенное, на миг стало просто усталым и разочарованным.
– Однако, – поспешил я добавить, видя его реакцию, – нет и неоспоримых, категорических свидетельств вреда малых доз. При соблюдении меры, конечно.
– Малых – это каких именно? – спросил Косыгин уже с практической заинтересованностью, как будто речь шла о норме расхода топлива на трактор.
– Под малыми понимают эквивалент примерно… пятидесяти граммов водки в день.
– А виски? – уточнил Стельбов, слегка покачивая свой стаканчик.
– Водки, виски, коньяка… – я махнул рукой, – всё, что крепостью около сорока градусов. Плюс-минус. Главное – доза и регулярность. Хотя… – я запнулся, чувствуя себя шарлатаном, но понимая, что нужно закончить мысль. – Корифеи медицины прошлого, те самые, на чьих трудах все зиждется, часто рекомендовали простой способ: прислушаться к себе. К своему организму. Он, мол, сам подскажет, что ему нужно. Что полезно, а что нет. Только прислушиваться нужно в спокойном состоянии, в тишине, в одиночестве. Без суеты.
Воцарилось короткое молчание. Его нарушил Михаил Андреевич Суслов. Он негромко, почти задумчиво произнес, глядя куда-то поверх наших голов, на портрет Ленина:
– Он подскажет… Да. У хронического алкоголика он особенно громко подсказывает. Часто. И много.
Его сухой, без эмоций голос стоил иного крика. Стельбов тихо усмехнулся. Косыгин потупил взгляд в свой бутерброд.
– Значит, – подхватил Стельбов, обращаясь ко мне, но смотря при этом на Суслова, – если этот самый организм просит часто и много… он, по-твоему, хочет поскорее умереть? Так, что ли?
Вопрос повис в тишине зальчика, где запах шпрот и виски вдруг куда-то пропал, и стало холодно, очень холодно. Даже блики на стаканчиках казались теперь какими-то мертвенными. Мавзолей же.
– Это как выйти в открытый космос. Что ждет человека в космосе? Смерть. Но космонавты в космосе работают, с каждым годом все серьёзнее. Скоро будут космические хутора, деревни, а там и города.
– На Марсе? – спросил Косыгин.
– На Марсе тоже, но, думаю, прямо в космосе. Лет через двести, триста, пятьсот – но непременно будут, – и выпил вторую порцию.
Мир, труд, май!
Я понял. Собственно, я знал с самого начала. Я – наживка. Подсадной чижик. Отравленная пешка. Пешка, которая на доске выглядит незащищенной, «беспризорной», стоит на видном месте, и противник думает, что её можно забрать. Легко и без последствий. Цап-царап! А через несколько ходов его положение становится безнадежным.
Пешка, конечно, погибает, но кто их считает, пешки. Они для того и существуют. Для жертв.
Глава 7
2 мая 1980 года, пятница
Творческий вечер
Тревожно заволновались скрипки, будто стайка перепуганных птиц в предгрозовом воздухе. Им робко, нерешительно вторили валторны, их медный глас дрожал на грани слышимости. А за ними, словно отдаленные, пока еще тихие, но неотвратимые раскаты надвигающейся грозы, отозвались ударные.
И я запел финальную часть:
Заааачем я тогда проливааааал свою кровь?
Каждое слово – вопль, вырванный из самой глубины. И следом, уже с той особой интонацией обреченного, который видит всю тщету, но продолжает идти:
Зааачем ел тот список на вооооосемь листов?
Зал замер. Не дышали. Казалось, даже пылинки в лучах софитов застыли в полете.
И я завершил моралью свежей и оригинальной:
Зааачем мне рубли за подклааааадкой?
Пауза. Глубокая, как колодец каборановского Замка. И тихо, с горькой, окончательной усталостью, почти шепотом, но так, что слышали все, до последнего ряда:
Всё. Финал!
Аплодисменты. Сначала робкие, словно стыдливые, потом нарастающие, превращающиеся в гул, в овацию. Я на сцене, мокрый от пота, в нелепом провинциальном пиджаке, без поклонов ухожу, припадая на якобы больную ногу.
– Антракт! – прозвучало просто, буднично, как в самом заштатном сельском клубе, из уст ведущих, Светланы Моргуновой и Юрия Ковеленова. Их голоса, такие надёжные после только что пережитого крушения надежд, вселяли уверенность, что не все так и плохо на этом свете. Если не гнаться за импортом.
Я выступал не в сельском клубе. Дело вершилось здесь, под сводами Государственного центрального концертного зала «Россия», в самом сердце столицы. На Творческом вечере. Так было написано крупными, важными буквами на всех афишах, на изящных программах, на билетах, за которые отчаянно дрались, порой и буквально.
Творческий вечер Владимира Семеновича Высоцкого, приуроченный к присуждению звания Заслуженного Артиста РСФСР. Само звучание – торжественное, непоколебимое, как гранитный постамент. Творческий вечер. Будто речь о чинном собрании, о лекции с демонстрацией достижений.
Да, пока мы все – и артист, и публика – приходили в себя после бури, пока в буфете звенели рюмки и обсуждали только что услышанное, Лиса и Пантера времени даром не теряли. О, эти неутомимые! Много, очень много успели они за эти месяцы. Организация – сила, да. Комсомол – сила, несомненно. Но главное – уменье придать этой силе нужный вектор, направить бурный поток в необходимом направлении. И тогда – можно, как говорится, горы своротить. Хотя, если вдуматься, добиться присвоения Владимиру звания было, пожалуй, посложнее, чем заставить Эльбрус или Арарат пойти к Магомету. Впрочем, великий пророк, никогда гор к себе не звал. Зачем ему горы, ему люди нужны. И потому Ольга и Надежда лишних движений тоже не делали. Не ломились напролом. Они приложили ту самую «мягкую силу», как теперь модно говорить, но с ювелирной точностью, в самую нужную точку незримого механизма власти. Словно опытные часовщики поправили крошечную шестеренку. И – вуаля! – механизм заработал, четко и слаженно. Звание получено. Вечер состоялся. Факт свершился. Все прилично, благопристойно, по всем правилам.
Утром девочки, Лиса и Пантера, едва успев выпить чаю, умчались по своим неотложным делам. Москва – это не Ливия, понимаете ли. То, что в благословенной стране можно сделать на неспешное «раз-два-три-четыре», здесь требовалось успеть на один лишь стремительный «раз». Промедление ставит в конец очереди, опоздавший обречен плестись в хвосте прогресса, событий, интриг.
Лиса и Пантера плестись в хвосте не желали. Никогда.
А я? Я еще был полон неги «Тысячи и одной ночи», традиций благословенного, неторопливого Востока. Хотя, строго говоря, Юга. Но суть одна. Неспешно совершил положенные утренние процедуры. Неспешно поразмышлял о сущности вселенной. Неспешно выкушал маленькую чашку зелёного чаю. Неспешно посмотрел новости, где в репортаже о вчерашних торжествах меня три раза показали крупным планом, стоящим на трибуне Мавзолея. Строгий, серьезный, подтянутый. И немного чужой самому себе на этом экране. Посмотрел и сегодняшнюю «Правду» с огромной фотографией трибуны Мавзолея, где тоже сумел распознать себя: газеты, даже в столице, печатали отвратительные фотографии.
Именно в этот момент мирной, почти идиллической неспешности резко, настойчиво зазвонил телефон. Взял трубку.
– Михаил? Это Севостьянов, – Голос председателя Шахматной федерации СССР, летчика-космонавта, Героя, звучал энергично, без предисловий, по-московски деловито. Он не спросил, как дела, не поинтересовался самочувствием, а прямо пяткой в лоб, гений карате:
– Слушай, не изменились ли твои планы на сегодня? Договоренность в силе?
А я сначала справился о здоровье Виталия Ивановича, как там его близкие, и лишь потом ответил да. В смысле – в силах. Виталий Иванович попросил меня составить компанию нашему венгерскому другу Берталану Фаркошу. Отчего бы и не составить? Тем более, что и генерал Тритьяков считал, что это будет полезно. Для всех.
– Тогда Берти выезжает, – сообщил Виталий Иванович. – Будет у тебя минут через тридцать, не позже.
И я начал набирать обороты. Медленно, быстрее, быстро, так быстро, как только возможно, еще быстрее. Москва брала своё.
Оделся с прицелом на вечернее выступление. Выбрал добротный, но безнадежно провинциальный костюм – темно-синий, слегка мешковатый, изделие Чернозёмского швейного комбината. К нему – рубашку без изысков, галстук скромный, ботинки практичные. Все в гармонию к костюму, то есть – максимально по-чернозёмски, просто, но надёжно. Ударник коммунистического труда приехал в столицу.
И как раз в тот момент, когда я застегивал последнюю пуговицу пиджака, Берти и подъехал. На «Чайке», что предоставили ему в этот день. С водителем и сопровождающим. гидом в штатском, человеком лет тридцати.
Поехали!
Задача поездки ясна и благородна: показать венгерскому другу, герою космоса, Москву во всем ее величии. Чтобы он понял, проникся, ощутил раз и навсегда: вот она, Столица с большой буквы, а не какой-нибудь Копенгар, или Будапешт, не в обиду Берти будет сказано! Нам есть чем гордиться, чем поразить воображение человека, видевшего Землю из космоса.
Однако Берти проникался… как-то вяло. Нет, в положенных, стратегических точках маршрута – у Царь-пушки, на Ленинских горах перед панорамой раскинувшегося города, у новеньких олимпийских объектов – он восхищался. Кивал. Говорил: «О, да! Великолепно! Очень впечатляет!» Но чувствовалось – из вежливости. Глаза его, усталые, с глубокими тенями, часто теряли фокус, устремлялись куда-то вдаль, поверх крыш, в небо, которое он так хорошо знал. Может, месяц в невесомости давал о себе знать? Эта странная земная тяжесть, этот шум, эта суета? Или он просто видел за парадным фасадом что-то иное, не предназначенное для глаз гостя? Непонятно.
К полудню нас привезли перекусить. В ресторан «Седьмое Небо». Уж не знаю, кто составлял этот план развлечений для космонавта. Мало Берти было настоящего неба, что ли? Или хотели подчеркнуть: вот, мол, и на земле у нас есть свое «небо», высотное и комфортное? Выдали персональные, красиво оформленные приглашения. Мол, приглашаем посетить и так далее. Сопровождающие – водитель «Чайки» и наш гид – приглашений не имели, Им предстояло ждать в машине, глядя на затянутое обычной московской дымкой небо. По очереди жевать чебуреки, что продавали неподалеку. На улице жевать, не в «Чайке», дабы запахом не оскорблять. Я и сам расскажу Берти, как невероятно похорошела Москва за годы Советской власти в целом, и к Олимпиаде в частности. И мы пошли – только мы двое – к лифтам, уносящим в заоблачную высь ресторана, оставив внизу и машину, и людей, и земные заботы. Насколько это вообще было возможно в этот день, в этом городе, в этой жизни.
Она и в самом деле похорошела, Москва, никаких сомнений. Это я узнал сразу по приезду, когда ехал мимо подновленных фасадов, мимо клумб, где пробивались первые, вымученные городской почвой тюльпаны. Все москвичи, как муравьи перед приходом важного гостя, по мере сил участвуют в субботниках. Улицы, по которым торжественно пронесут Олимпийский Огонь, подкрасили и подмазали с особым усердием; тротуары подлатали и метут дважды в день, даже люки подземных служб, кажется, отдраили. Весною город особенно хорош: серость отступает, а новая краска еще не успела покрыться вездесущей пылью и гарью. Воздух свеж, прозрачен, и казалось, сама столица вдохнула полной грудью, готовясь к предстоящему празднику спорта и показухи.
Особенно здесь, наверху.
Но вот кухня «Седьмого Неба», увы, как была посредственной, так и осталась. Напоминала она «Аэрофлот», ну, небо же. Подали разогретые зеленые щи, с кислинкой, будто простояли не час, а день, или даже два. Цыпленок «табака» – вернее, его иссохшая половинка, лежащая на тарелке в окружении безвкусного риса. Зато тарелка фирменная, с башней и надписью «Седьмое Небо».как маленький островок в море безвкусного риса. И в довершение – стаканчик виски. Один. Скромно. Девять девяносто. Однако, сказал бы Киса.
Удивительное дело, о трезвости и здоровом образе жизни толкуют на всех углах, плакаты висят, лозунги, а куда ни глянь – виски. Даже в комплексный обед включили, как обязательный аперитив. По случаю Олимпиады, что ли? Чтобы гости с Запада почувствовали себя как дома? Виски на «Седьмом Небе» был отечественный, советский, из тех, что пахнут не столько ячменем, сколько посредственным спиртом и благими намерениями. Но окружающие пили его с видом знатоков и нахваливали.
– Не хуже шотландского, – с апломбом заявила дама лет тридцати пяти из чинной компании за соседним столиком, причмокивая губами после первого глотка. Ее спутники кивали солидно, будто оценивая тонкий букет выдержанного коньяка, а не загадочной смеси алхимиков одна тысяча девятьсот восьмидесятого года.
Берти молча наблюдал за сценой, в уголках его глаз дрогнули едва заметные морщинки – то ли улыбка, то ли удивление.
– А как на орбите с этим делом? – спросил я, указывая взглядом на нетронутый стаканчик перед Берти. Вопрос сорвался неожиданно, отчасти чтобы разрядить молчание, отчасти из искреннего любопытства.
Берти вздохнул, тихо, едва слышно. Его взгляд на мгновение устремился вверх, будто сквозь потолок ресторана он видел бесконечность, откуда недавно вернулся.
– Никак, – ответил он просто. – Почти.
Голос его был ровным, но в нем чувствовалась усталость, знакомая всем, кто долго находился на пределе.
– Там…– Он снова посмотрел вверх, – там реакция организма непредсказуема. Может напасть неукротимая рвота. А рвота на станции… – Он поморщился, как от внезапной боли. – Рвота…это ужас. Ужас и ужас. Плавающие капли, которые невозможно поймать, запах… Кошмар. Хуже только… – он чуть помедлил, – … понос. Это уже катастрофа. Полная.
Я невольно представил ситуацию и почувствовал, как под ложечкой засосало. Берти тем временем продолжал с усмешкой:
– Я, знаете ли, пронес на борт маленькую фляжку палинки. Настоящей, венгерской. На удачу. Тайком. Думал, глотнем с товарищами в особый момент. – он покачал головой. – Но мы её не пили. Ни капли. Так и оставили нераскупоренной, привязанной к стойке на «Салюте». Первую неделю…– он махнул рукой. – тошнота и без того сильная. Невесомость. Непривычно. Повернешь резко голову – уже мутит. Потом, конечно, привыкаешь понемногу. Через месяц чувствуешь себя почти как дома. На небесах, можно сказать.– он снова взглянул на стакан виски. – А на небесах… к спиртному как-то не тянет. Зачем ангелу спирт? Да и программа… – он отчеканил слово. – плотная. Очень. Каждая минута расписана. Некогда расслабляться. Но иногда…– Он улыбнулся уже искренне, по-товарищески. – иногда можно элеутерококк принять. Тонизирующий такой, адаптоген. Его на «Прогрессе» много доставили. Советский элексир бодрости. Средство Макропулоса.
За этой неспешной, чуть грустной, но по-своему приятной беседой незаметно прошел отведенный нам час. Виски Берти так и остался нетронутым, зачем портить день, как он пояснил. Мой стакан я тоже не тронул, не хотелось отравлять и без того сомнительное удовольствие от обеда. Потом, по плану нашего неутомимого гида, мы успели сходить в зоопарк. Берти смотрел на вялых львов и меланхоличных слонов с тем же вежливым, но отстраненным интересом, что и на олимпийские объекты. Казалось, он видел за решетками и вольерами что-то другое – бескрайние просторы саванны или ледяные пустыни, которые лишь мелькали в иллюминаторе. Звери отвечали ему равнодушными взглядами существ, давно смирившихся со своей участью.
И вот настал долгожданный час. Гвоздь программы. Творческий вечер Владимира Семеновича Высоцкого, заслуженного артиста Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, в Государственном концертном зале «Россия»! Само звучание вызывало трепет. За три квартала до концертного зала стало ясно, что сегодня – событие из ряда вон. Пробка. Милиционеры в белых перчатках, похожие на взведенные пружины, яростно размахивали жезлами, разворачивая автомобили: «Паркуйтесь на соседних улицах! Мест нет! Все занято!» Но наша «Чайка», конечно, была пропущена мгновенно. Волшебный пропуск на лобовом стекле, не пропустить такую машину – немыслимо. Мы проскользнули, как нож сквозь масло, мимо тщетно сигналящих «Жигулей» и «Москвичей».
Милиция милицией, а народу – воистину во множестве. Толпа гудела, как перегретая трансформаторная будка. У самого входа, вдоль ограды – везде стояли люди. Молодые, с горящими глазами, постарше, с лицами, изборожденными жизнью. Они ловили взгляды проходящих, шептали, почти молили: «Билетик? Лишний билетик не найдется?» Безнадежно, конечно. Но вдруг чудо?
– Граждане! – гремел металлический голос из громкоговорителей на крыше милицейской «Волги». – Творческий концерт будут показывать по Центральному телевидению! Все увидите в лучшем виде, не хуже, чем в зале! Проходите, пожалуйста, не создавайте скопления!' Голос звучал убедительно, по-отечески. Но расходились вяло, нехотя. Отходить от этих стен, от этого света, от этой возможности быть причастным – казалось предательством. Надежда упрямо не желала умирать. Она витала в воздухе, густом от весенней сырости и всеобщего нетерпения.
К творческому вечеру Владимира Семёновича я начал готовиться еще в марте. Мысль пришла внезапно: сделать из его песни о валютном магазине оперную арию. Не пародию, нет. А именно возвысить ее, облечь в классические одежды, но так, чтобы живая, колючая, узнаваемая мелодия Высоцкого осталась, как душа в новом теле. Идея казалась безумной. Но тем заманчивее. Я пропадал за роялем днями, расписывал партитуры с фанатичной тщательностью. И отослал партии в Москву дипломатической почтой. Без шуток, в самом деле дипломатической почтой – иного надежного способа быстро доставить столь ценный груз в столицу не нашлось. Эстрадно-симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио – это асы из асов, лучшие из лучших. Они не просто прочли ноты – они поняли замысел. Вчера на репетиции, когда зазвучали первые аккорды, когда медные духовые подхватили знакомую, но так неожиданно мощно звучащую тему, а струнные создали тот самый «возвышенный» фон… у меня по спине пробежали мурашки. Получилось. Вполне и вполне. Не шедевр, но – честно, искренне и с любовью.
И вот сегодня этой самой арией я закрыл первое отделение. Вышел на сцену после череды поздравлений. Артисты Таганки – свои, родные, с их особым, «бунтарским» шармом. Артисты Театра сатиры – с легкой иронией. Артисты Вахтанговского – с величавой театральностью. Артисты МХАТа – с подкупающей человечностью. И… я. Примазался, да. Моя физиономия, я в образе провинциала в столице, с выражением легкой озадаченности, даже пришибленности, опять будет на экранах телевизоров. Сначала на трибуне Мавзолея – символ лояльности. Теперь – здесь, на сцене рядом с Высоцким, в лучах славы. Двойная экспозиция советского человека.
Костюм я тоже загодя продумал. Тот самый, добротный, чернозёмский. Галстук подобран с претензией на столичность (хотя и выглядел невероятно старомодно), ботинки начищены до зеркального блеска. Провинциал, стремящийся выглядеть достойно столицы и события. На сцене, под ослепительными софитами, в громе аплодисментов, подхваченных оркестром, я и выложился. Я и могу, и умею, на пять минут меня хватает с блеском.
Но я пел, зная, что за кулисами, ждет своей очереди сам Высоцкий, с его хрипловатым, неподражаемым, прожигающим душу голосом. И этот контраст – между моей «академической» обработкой и его живой, необузданной стихией – казался мне вопиющим. Я пел о бунте, о сопротивлении, облаченный в парадный костюм провинциального человека, на самой официальной сцене страны, в момент высшего официального признания того, чей дух никогда не укладывался в официальные рамки.
Аплодисменты были горячими, искренними. Но были ли они адресованы мне? Или той искре подлинного чувства, той памяти о настоящем бунте, что тлела в знакомых всем словах, даже облаченных в чуждые им латы оперного звучания? Я кланялся, улыбался, чувствуя, как капли пота стекают по вискам под палящими лучами софитов, и думал лишь об одном: вот сейчас начнется антракт, и я смогу, наконец, скинуть этот душащий галстук, символ моей сегодняшней, такой неуклюжей, попытки быть своим среди этих чужих святых.
В антракте, когда в буфете звенели рюмками и стаканами, я повел Берти в ложу литер А, к Лисе и Пантере.