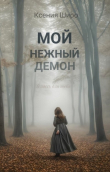Текст книги "Защита Чижика (СИ)"
Автор книги: Василий Щепетнев
Жанры:
Альтернативная история
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц)
Нет, мне туфли не жмут. Привыкла нога, вспомнила. Тогда почему я об этом думаю?
Продолжил чтение.
В Сахаре найдено огромное кладбище динозавров. Действительно, огромное. Но точно мы не знаем. Эта находка монополизирована советскими учеными. И ливийскими, конечно. Как без ливийских ученых, их квалификация отлично известна всему научному миру.
Пока мировой общественности представлены лишь немногочисленные фотографии. Да, впечатляют.
Советские ученые сообщают о совершенно уникальных экземплярах. Так, либиозавр, как окрестили один из обнаруженных видов, размерами превосходит все прежние мировые находки, достигая в длину тридцать пять метров. И это не предположение, такова длина найденного скелета, практически полного. Когда его увидит научная общественность? Скоро, уверяют советские ученые. В Триполи создается Институт Сахары, в который войдет и палеонтологический музей с экспозицией находок, там будет что посмотреть.
Когда западные исследователи будут допущены к месту находок? Скоро, заявляют ливийские власти. Но сначала западные страны должны преодолеть пещерное предубеждение против народа Ливии, против мирной политики Ливийской Джамахирии.
Возвращаясь к динозаврам: как они могли существовать в пустыне? Этим гигантам нужно много, много пищи, где же её взять?
Но Сахара отнюдь не всегда была пустыней. Либиозавры жили около девяноста миллионов лет тому назад, в середине мелового периода, Северная Африка в ту пору была влажным, болотистым местом, со множеством рек и озер. Да что девяносто миллионов лет, девять тысяч лет назад она была саванной, с реками, не уступавшими по полноводности Волге или Дунаю. По саванне бродили жирафы и слоны, газели и антилопы, и, конечно, хищники. Даже в девятнадцатом веке можно было встретить льва или антилопу! Климат климатом, но люди тоже несут ответственность за то, что стало с некогда цветущим краем.
Но вскоре всё обещает измениться. Уже меняется. Ливийский лидер Муаммар Каддафи затеял строительство огромной оросительной системы, которую он именует Великой Рукотворной Рекой. Он хочет гигантские запасы пресной воды, обнаруженные в глубинах пустыни, извлечь и перебросить на север страны, создав по пути сотни и сотни оазисов, и, в конечном итоге, превратить всю Ливию в благоухающий оазис. Утопия? Полковник Каддафи уверен в успехе. В этом ему помогает Советский Союз, чей огромный опыт строительства различного рода каналов и плотин был использован в соседнем Египте, где построили гигантский гидроузел, известный как Асуанская плотина, величайшее сооружение на территории современной Африки, видимое даже из Космоса. Великая Рукотворная Река станет ещё более грандиозным сооружением, уверен Муаммар Каддафи, и тогда из космоса Ливия предстанет огромным зеленым полотнищем, зелёным, как её знамя.
Я сложил журнал. Да, из космоса всё будет красиво, а с земли – даже красивее. Но знающие люди, те, с которыми я общаюсь, говорят, что всё сложнее, чем кажется. Строительство займёт при самом благоприятном сценарии лет двадцать, а если пойдёт как всегда – то и пятьдесят. Но это и хорошо: сегодня экономика страны просто не справится с огромным потокам воды. Сейчас население Ливии около трех миллионов человек, трудоспособных едва четверть, ведь женщины Ливии традиционно занимаются семьёй, детьми, на трактор или к станку идут редко. Кому работать-то? Постепенный ввод мощностей – именно то, что нужно. Рост урожаев стимулирует и рост населения, экспорт продуктов питания укрепит экономику, и, по расчётам, через двадцать лет население страны удвоится, а через пятьдесят – удесятерится. Тогда-то проект и явит миру невиданную мощь. Почему нет? Уже сейчас на ливийских базарах во множестве дыни, арбузы, помидоры, огурцы, выращенные в Новых Оазисах. В декабре они начну поступать в Союз, аккурат к новогоднему столу. Главное, чтобы черноморские портовики не подвели, справились. И тогда к традиционным новогодним мандаринам добавятся традиционные новогодние дыни. И ананасы! Ананасы в шампанском!
Я представлял благолепные картины, как на дореволюционных рождественских открытках: милые нарядные дети, улыбающиеся родители, всё озаряет тёплый свет, а кошка, сидящая у очага, обещает счастье и благополучие.
Да что дореволюционные картинки! Я помню, как люди обсуждали Третью программу. Мне тогда аккурат семь лет стукнуло, уже понимал: скоро, скоро всем будет полный коммунизм. Ходили по двору и планировали: здесь разобьют клумбы, здесь посадят персиковые деревья, а здесь фонтанарий построят, чтобы в жару радовал всех свежестью и прохладой.
Кто построит? Да мы же и построим! Даже маменька и папенька мечтали, да. В каждом райцентре непременно театр. В деревнях и сёлах – клубы, с художественной самодеятельностью. Днём на тракторе, а вечером Шекспир!
Сейчас тот самый одна тысяча девятьсот восьмидесятый год, что в Третьей программе.
По ней, никем и никогда не отменённой, должен быть построен фундамент коммунизма. И первый этаж. В моем школьном учебнике за четвертый класс были картинки с поясняющей надписью: бесплатное во всех отношениях жильё, бесплатный проезд на городском транспорте, бесплатный общепит, короткий рабочий день. Потрудился четыре часа, а дальше иди в библиотеку, в драмкружок, на стадион, или сажай для души цветы. Вишни тож.
Утверждают космонавты и мечтатели, что на Марсе будут яблони цвести.
И что сбылось?
Для меня – всё, кроме Марса! Даже дом с фонтанчиком есть! С бассейном взрослым, с бассейном детским! И персики растут прямо во дворе, очень красиво цветут, девочкам нравится. И сирень! Коммунизм? А контрамоция обязательно должна быть непрерывной? То есть наступит ли коммунизм для всех и сразу, или лишь тот достоин счастья и свободы, кто каждый день идёт за них на бой?
Идея гнёздного коммунизма? Почему бы нет? Для широких народных масс она, конечно, непривлекательна. Как это так, одни, понимаешь, живут при коммунизме, в пяти комнатах с видом на Кремль, десять костюмов имеют, а другие впятером в барачной клетушке теснятся, в сорных ящиках бутылки ищут.
И логика в их словах есть. Трезвый ум подсказывает, что никогда, никогда они не будут жить в пяти комнатах, и десяти костюмов у них никогда не будет. Ну, может одному-двум на барак чудом повезёт, получат лет через пять двушку, а остальным вряд ли. И потому трезвый ум не в чести, нет, собранные бутылки наскоро моют, несут в пункт приёма, а на вырученные деньги покупают «Три топора» и сырок «Городской». Так легче день простоять и ночь продержаться. А на завтра – повторить.
Но мало ли что непривлекательно для широких народных масс. Закон всемирного тяготения тоже непривлекателен, каждый мечтает во сне о полётах, но оно существует, всемирное тяготение, и даже если правительство примет постановление об его, всемирного тяготения, упразднении, это не поможет.
Вопрос, как считать продвижение к коммунизму, по самому быстрому кораблю, или по самому медленному? По проценту, пересекшему воображаемую линию? Чижиков в стране немного, но, если вынести миллионы в валюте за скобки, то и немало. Процентов пять на глазок. Тех, кому нет нужды задумываться о лишней комнате и тысяче рублей.
Мысли, как мухи на липкой ленте, вязли в полусне: о Ливии, о пыльных бульварах Триполи, о нелепости этого возвращения, о соседе, чье детство пахло снытью и страхом потерянных карточек. Веки отяжелели, сознание поплыло в теплой, вибрирующей пустоте нави…
Но тут сосед, товарищ Глебовский, зашевелился. Потом заскулил, словно щенок, проснувшийся в ночи один одинёшенек. Я мгновенно вернулся в явь. Вот тебе и полёт во сне и наяву.
Геннадий Макарович приподнялся, опираясь на подлокотники. Лицо его было землистым, покрытым липкой испариной, словно его вытащили из болота. Глаза, цепкие и немного хищные, теперь смотрели мутно, невидяще, куда-то в пространство перед собой. Он обвел взглядом салон, словно искал что-то знакомое, и увидел меня.
– Ох… – выдохнул он.
И голос! Бабий, тонкий, жалобный, совершенно непохожий на его прежний, чуть хрипловатый тенорок.
– Ох! Приснилось… – продолжил он доверительно, с какой-то детской верой в других людей, наклонившись ко мне так близко, что я почувствовал кисловатый запах пота и несвежего дыхания. – Приснилось, что я опять… карточки потерял. Вот сейчас, в настоящем, потерял. И какие-то особенные карточки… не на хлеб, не на крупы…
Он замолчал, вглядываясь в меня, как будто я мог подтвердить что-то был сон, и не более.
– Потерял карточки на всё! На всё сразу! Стою на пороге… а Клавдия Ивановна, жена моя, спрашивает: где, мол, карточки, Геночка? – он передразнил женский голос, но без злобы, а с какой-то жуткой, пронзительной жалостью к самому себе. – Не строго спрашивает, не зло… а как-то печально-печально… И дочка, Анастасия… тоже спрашивает: где карточки, папа? Она у меня взрослая, дочка, институт заканчивает… а во сне ей лет пять, не больше. Спросила… и заплакала. И я сам… – голос его на мгновение пресёкся. – И я заплакал, не знаю отчего…
Тут глаза Глебовского подозрительно заблестели. Он резко отвернулся, зашмыгал носом, судорожно вытирая лицо ладонью. В этом жесте была жалкая, унизительная нагота души, выставленная напоказ невольно, под гнётом кошмара.
Он тяжело дышал, прислушиваясь к себе. Пальцы его сжимали подлокотник. Потом медленно поднялся.
– Я, знаете ли… отлучусь, – пробормотал он, избегая моего взгляда. – Пожалуй… вы правильно отказались от бутерброда… – в его словах звучало не только признание моей правоты, но и немой укор собственной жадности, заглушившей осторожность. Он вылез из кресла, пошатнулся, выпрямился и осторожно пошел по проходу. Куда можно отлучиться в этом стальной птице, летящей над бездной, кроме как в тесную, пахнущую химией и человеческими испарениями кабинку ватерклозета?
Да, выглядит он неважно. Совсем неважно. Вот потому я и не ем в самолетах. Да и вообще… Ведь оно как устроено? Питание готовят загодя, на земле, в кухнях «Аэрофлота». В момент загрузки на борт оно должно, по бумагам, быть безупречно доброкачественным. Теоретически. Срок реализации салата «Советский», к примеру, – шесть часов. Не больше. Я знаю это точно, гигиена питания – великая наука.
Итак, загрузили в Москве. Затем перелёт в Ливию Триполи с остановкой в Вене. На этом отрезке салат «Советский» безопасен. И всё остальное тоже. Но потом… Прилетели в солнечный Триполи. Стоянка четыре часа. Самолет – металлическая коробка – греется на раскаленном аэродроме под африканским солнцем. Кондиционеры стараются, но кто знает, что творится в багажных отсеках и буфетах? Новых продуктов за границей не берут, святое правило: беречь валюту для Родины. Пользуются тем, что привезли. Отсюда и риски. Конечно, шпроты – консервы. Но когда их вскрыли? Если здесь и сейчас, на обратном пути – это ничего, это можно, если они не просрочены. А если их вскрыли по пути в Ливию? Часть не съели… И вот, следуя священной формуле «экономика должна быть экономной», которую порой понимают с убийственной буквальностью, недоеденные по пути туда шпроты или салат предлагают доедать по пути обратно? Экономия! Превышение плана по сохранению народной копейки! Эта мысль казалась чудовищной, но в то же время – до боли знакомой, вписанной в логику системы. Практика… она показывала и не такое.
Самолет начал снижаться, заложило уши. Я тихонько запел песенку из детства: «взвейся да развейся, знамя боевое, знамя полковое, мы идем в поход» И отлегло, уши вновь обрели прежнюю чуткость.
И я услышал резкий, тревожный звук. Стук. Настойчивый, металлический. И голос стюардессы, уже без прежней сладковатой профессиональности, а жесткий, командный:
– Гражданин! Пожалуйста, вернитесь в салон! Немедленно! Во время посадки находиться в туалете категорически запрещено! Пожалуйста, вернитесь и пристегнитесь в своем кресле!
В ответ ни звука. Ни ответа, ни щелчка отпираемой двери.
Стук повторился, громче, нетерпеливее. Голос стюардессы перешел в требовательный регистр, почти крик, заглушая шумом двигателей:
– Откройте немедленно! Это приказ командира! Немедленно выйдите!
Пауза. Напряженная, густая. Потом – лязг металла. Мастер-ключ. Скрип открывающейся двери. И тут же – короткий, сдавленный вскрик стюардессы, мгновенно стихший. Потом ее голос, уже срывающийся, полный паники, зазвучал по всему салону через систему оповещения:
– Внимание! Если на борту есть врач – немедленно подойдите к туалетной кабине в носовой части салона! Повторяю, срочно требуется врач!'
Ну, вот. Я как раз и есть врач. Тот самый, что размышлял о сроках годности салата «Советский». Отстегнулся от кресла, и пошёл туда, куда позвали, чувствуя на себе вопрошающие взгляды других пассажиров первого класса. Мир сузился до узкого прохода и открытой двери туалета.
Картина безрадостная, как в американском учебнике по неотложке. Тесная кабинка была забрызгана рвотой – желтоватой, с кусочками непереваренного хлеба и рыбы. Запах стоял тяжелый, кисло-сладковатый, тошнотворный. Костюм Геннадия Макаровича тоже был испорчен. Сам он сидел рядом с унитазом, прислонившись к переборке, голова запрокинута. Лицо землистое, губы синюшны. Глаза закатились, видны были только белки. Дышал он шумно, хрипло, с надсадными, прерывистыми вдохами и слабыми выдохами. Пульс под моими пальцами на запястье едва прощупывался – нитевидный, аритмичный. Кожа холодная, липкая. Он не просто сидел. Он умирал. На глазах. Здесь, в зловонной кабинке, на высоте нескольких километров, на пути из социалистической Ливии в капиталистическую Вену.
Последующее слилось в калейдоскоп действий, знакомых до автоматизма, но от этого не менее жутких в данной обстановке. С помощью двух стюардесс (лица белы как мел, но руки работали четко) мы вытащили Геннадия Макаровича в проход. Положили на спину. Расстегнули воротник, ремень. Голову набок – чтобы не захлебнулся рвотой, которая продолжала сочиться изо рта. Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца. Кто-то подал аптечку. Судорожные попытки найти вену на холодной, липкой руке. Нашел, куда она денется, вена.
Почти каламбур.
Всё происходило под рёв двигателей снижающегося лайнера, под испуганными взглядами пассажиров, прижатых к своим креслам командами бортпроводников. Мир качался, вибрировал. Стюардесса требовала от пилотов, чтобы связались с землей, с Веной.
Проведенные реанимационные мероприятия – этот казенный термин покрывал собой адский труд, липкий пот, ноющую боль в сведенных мышцах рук и ощущение полной, беспросветной беспомощности перед лицом неизбежности – позволили дождаться посадки. Не более. Сердце, слава богу, не остановилось окончательно. Дыхание, жалкое, поддерживаемое искусственно, сохранялось. Жизненные функции организма теплились вплоть до момента, когда трап подкатил к самолету и на борт ворвались австрийские медики в чистых, не помятых халатах, с современным оборудованием. Их лица были сосредоточены, профессиональны, лишены той паники, что читалась у наших стюардесс. Они быстро переложили Геннадия Макаровича на носилки, подключили кислород, начали свои манипуляции. Во всяком случае, вынесли его из самолета дышащим. С биением сердца. Формально – живым.
Я стоял в проходе, вытирая платком липкие руки, чувствуя въедливый запах рвоты и лекарств, смешанный с привычным запахом пластика салона. Смотрел, как австрийцы уносят это живое-неживое тело, завернутое в серебристое спасательное покрывало. «Живым». Что значило это слово сейчас?
Карточки, Геночка. Где карточки? Жалостный голос Клавдии Ивановны, плач пятилетней Насти… Они нашли его. Нашли в самолете, летящем между двумя мирами. Нашли и отобрали последние, «особенные» карточки. На всё.
Такой вот перелёт. Из пункта «А» в пункт «Б». С «самым лучшим» обслуживанием. Практика показала. Она всегда показывает. Я вернулся на свое место, упал в кресло. За иллюминатором проплывал венский аэропорт – чужой, равнодушный. В ушах стоял хриплый стон Глебовского, ладони помнили его рёбра. И почему-то очень захотелось боржома. Просто боржома. Без шпрот.
Глава 6
1 мая 1980 года, четверг
Отравленная пешка
Мы стояли на трибуне Мавзолея, овеваемые майским ветерком, ласковым, весёлым, пропитанным весной. Весной, но и чем-то ещё – торжественным и солидным, как гранит вокруг нас. Мимо двигались колонны демонстрантов. Знамена трепыхались, как прибитые к древкам шкуры поверженных драконов, портреты вождей качались над толпой – эти плоские лики, глядящие поверх всех и вся. Утомительно это: стоять, будто на смотринах у истории, пусть честь пребывания на трибуне и считается высокой. Ноги скучали, спина просила движения, а мысли, как назойливые мухи, лезли невесть куда.
Меня распределили в одну тройку с небожителями – нет, не богами, конечно, но героями: с Берталаном Фаркашем и Валерием Кубасовым. Они неделю как вернулись с небесной тверди, отщелкав на орбитальной станции «Салют» тридцать суток – рекорд для программы «Интеркосмос». Их лица хранили следы невесомости, легкую одутловатость, а взгляд, особенно у Кубасова, казалось, все ещё цеплялся за далекие звезды, а не за эти московские крыши. И удостоились они, по праву, этой высокой чести – быть здесь, на самом острие события. А я? Я был здесь… по стечению обстоятельств. Как значок ГТО на груди – вроде при деле, а толку от него никакого.
Валерий Николаевич Кубасов. Человек-утёс. Не по росту, нет, а по основательности. По тому, как он стоял, рассекая и воздух, и гул толпы. Редкая улыбка смягчала строгие черты. Третий полёт. Но я знал, что душа его рвалась дальше. Не довольствовался он кружением над землей, словно воробей над крошками. Марс манил его. Красная, загадочная планета. Что ж, Марс подождет. Орбита его, как и наша земная судьба, исчислена с математической точностью. В нужный час и наши корабли, и наши люди окажутся в назначенной точке пространства. Всё по плану. Не в этой жизни, так в следующей.
Первые полчаса на этой почетной высоте я чувствовал себя котом, забравшимся на шкаф в чужой квартире. Вёл себя тихо, вел себя скромно, вел себя незаметно. Ведь кругом – Они. Те самые, чьи лики несла толпа. Столпы. Олимпийцы. Не в смысле спортивном, разумеется, а в том, древнем. Боги, обитатели высот, повелевающие громами и молниями, морями и океанами, недрами и пажитями да и всем прочим, что движется, дышит и мыслит на этой огромной, но покорной им земле. Как тут не притихнуть? Как не потупить взор, будто октябрёнок перед грозным учителем?
Но прошли минуты, и небожители оказались людьми вполне простыми. Собственно, я знал это и прежде, но всегда опасался, что когда они скучкуются в критическую массу, количество перейдёт в качество. Ан нет. Не перешло. Они перебрасывались словами, как токари в курилке, шла ли речь шла о клёве на Оке под Каширой, или о том, что мазь на яде гюрзы от прострела в пояснице вещь неплохая, но пачкает бельё. Один, с лицом мудрого филина, с жаром расхваливал гомеопатические шарики от простуды. Другой, не забывая приветствовать демонстрантов, делился опытом ношения наколенников из собачьей шерсти – «греет, знаете ли, лучше овечьей, и суставы не болят ничуть, прямо хоть снова в письмоноши» – когда-то в юности, ещё при НЭПе он почти год работал на почте. О судьбах мира, о глобальных противоречиях, о звёздных войнах или братстве народов – ни слова. Ни единого намека. Нет, я не сомневался, что наступит час, и они вернутся к ответственным темам. Но сейчас, под небом голубым, важнее были капли Вотчала и пластыри от бессонницы.
Под этот странный аккомпанемент – гул демонстрации и разговоры о шерстяных наколенниках – моя робость стала понемногу таять, и вскоре истаяла совсем. Чижик я, или не Чижик? Я повернулся к Берталану Фаркашу. Молодой, глаза горят, в них ещё не погас восторг от увиденного над облаками.
– Эсперанто, – начал я, чувствуя, как язык ведёт прямо до Киева, а, может, и гораздо дальше, и совсем в другую сторону, – прекрасная идея. Практически совершенная. Но… – я сделал паузу, вспоминая слова. – Нет, я не думаю, что мир когда-нибудь заговорит на эсперанто.
– Почему же? – живо откликнулся он. Голос у него был мягкий, с легким акцентом. – Берти, – добавил он тут же, улыбаясь. – Зовите меня Берти.
– Почему? – повторил я. – Да потому что эсперанто совершенен. А мир… – я махнул рукой в сторону бесконечных колонн, коробки ГУМа и прочих строений, всего этого огромного и сложного муравейника для двуногих, – … а мир, Берти, далёк от совершенства. Люди консервативны. Осторожны, как старые кроты в привычных норах. Они будут держаться за свой язык, за свои привычные, корявые слова, за свою грамматику, полную исключений, ещё очень и очень долго. Вечность, пожалуй. Ну, вот скажите, зачем это все им? – Я кивнул в сторону невидимых стран и континентов. – Зачем это англичанину, американцу, австралийцу? У них же есть свой язык, на котором говорит полмира. Зачем им учить что-то ещё? Ради абстрактной идеи братства? Они скорее поверят в летающие тарелки, чем в такую утопию.
– Но вы же сами говорите на эсперанто? Сейчас, – удивился Берти.
– Говорю? – я усмехнулся. – Как вы можете сами убедиться, говорю скверно. Книжно. Мёртво. Как попугай, заучивший фразы из разговорника. На ливийском базаре осенью, купил самоучитель. Из любопытства. Знаете вы ливийский базар? О, вы не знаете ливийского базара! Всмотритесь в него… Впрочем, об этом в другой раз. Купил самоучитель, выучил правила, слова – чтобы отвлечься, переключиться… А практики – ноль. Это все равно что вызубрить шахматный самоучитель, найденный в тюрьме во время пожизненного заключения, вызубрить, но ни разу не сесть за доску с живым соперником. Теория есть, а духа игры – нет.
С эсперанто мы перешли на русский – Берти учил его в школе, потом шлифовал в отряде космонавтов. Говорил он по-русски старательно, четко выговаривая каждое слово, чтобы никто не мог понять его превратно. Затем вернулись к эсперанто. Берти – эсперантист не только по факту изучения, но и по духу, пропагандист, истинный верующий в эту идею. Его глаза загорелись, когда зазвучали плавные, искусственные слоги. Речь идеального робота Дэниэла. Он меня понимал, я его понимал. Значит, работает? Значит, эта хитроумная лингвистическая конструкция, это дитя доктора Заменгофа, всё же жизнеспособно?
Валерий Николаевич Кубасов, стоявший чуть поодаль, следил за нашей беседой. Он прислушивался, не поворачивая головы, но его опытное ухо, привыкшее улавливать малейшие неполадки в гудении космического корабля, явно ловило странные звуки эсперанто. Он хмурился. Густые брови сдвигались на переносице. О чём это болтают? – читалось на лице. – О чем-то легковесном? Неуместном? Или, того хуже… не анекдоты ли рассказывают? Прислушивался, но толку, естественно, было мало. Эсперанто не просочилось сквозь броню секретности. Вот вам и первая практическая польза (или вред?) международного языка – создать маленькую зону непонимания для непосвященных, островок приватности на виду у всего мира.
И вот, наконец, прошла последняя колонна. Дикторы, слегка охрипшие, прокричали последние, потерявшие смысл от повторения, призывы. Гул толпы начал стихать, растворяясь как сахар в чае. Трибуна зашевелилась, ожила. Начался ритуал схождения.
Покидают трибуну Мавзолея не абы как, не толпой, не суетливо. Здесь всё подчинено незримому, но железному распорядку, где каждый шаг, каждый жест имеет значение, как в балете или на параде. Сначала, почти незаметно, вышли двое дежурных. Они, собственно, и не показывались на людях вовсе, стояли всё это время у самого входа, в тени, как стражи невидимого порога. На всякий пожарный случай. Словно призраки, они исчезли первыми. В полдень. Или около того.
Затем началось главное действо – схождение олимпийцев. Шли по старшинству. Не по возрасту, по авторитету, по должности. По месту в этой строгой, невидимой пирамиде. Вот тронулся, не спеша, степенно, один. Вот – другой. Вот – третий. Стельбов? Косыгин? Суслов? Или Суслов, Косыгин, Стельбов? А может, Косыгин, Стельбов, Суслов? Порядок следования – предмет бесконечных спекуляций иностранных корреспондентов. Говорят, Би-Би-Си отдало бы круглую сумму за одну лишь достоверную фотографию, запечатлевшую, кто за кем ступает на эту лестницу вниз. Лестница-то была неширокая, и довольно крутая. Пройти втроём – никак невозможно. Даже вдвоем – тесновато, приходится придерживаться за перила, слегка наклоняясь. И вот они спускались, эти вершители судеб, один за другим, с величавой неспешностью, каждый погруженный в свои думы – о рыбалке, о ревматизме, о шариках гомеопатии или о том, как бы поудобнее устроиться в машине. А я смотрел на них, потом на пустеющую площадь, и думал о совершенном языке для несовершенного мира, о Марсе, который подождет, и о том, что собачья шерсть, пожалуй, действительно, греет надежнее любых утопий.
Я видел: первым двинулся Стельбов. Он ступил на первую ступеньку, опередив Михаила Андреевича Суслова буквально на полшага. Но тут же, с почти балетной чуткостью, Андрей Николаевич слегка развернулся и подал руку Суслову – не столько для опоры, сколько как знак почтения, ритуального участия. Там, конечно, были перила с одной стороны, прочные, дубовые. Но с другой стороны теперь была рука Стельбова. Дружеская поддержка? Или тщательно отрепетированный жест, часть бесконечного спектакля под названием «Единство»? Суслов принял руку легко, почти не опираясь – скорее как символ, чем как необходимость. Его лицо, обычно замкнутое и непроницаемое, как древняя икона, на мгновение смягчилось едва заметной, может быть, даже искренней улыбкой благодарности. Это длилось секунду.
И уже третьим, словно догоняя, но без суеты, ступил на лестницу Алексей Николаевич Косыгин. Он шел нарочито бодро, почти подпрыгивая на носках, стараясь придать своей немолодой, отяжелевшей фигуре подобие легкости. Вот ни к чему ему эта бодрость, – Ни к чему вовсе. Ему бы снизить обороты, дать мотору передышку. Тогда, глядишь, и прослужит подольше. Может, три года, а, может, и все пять…
Но кто я такой, чтобы давать советы Председателю Совета Министров? Непрошеный совет, даже самый здравый, – все равно что камень, брошенный в глубокий колодец: тихий всплеск, да и все. Кто он, а кто я? За здоровье Алексея Николаевича отвечают большие люди. Товарищ Чазов, Евгений Иванович, в первую очередь. Большой учёный, светило, в кардиологии знает толк. Но вот знает ли он толк в самом товарище Косыгине? Понимает ли эту упрямую волю к работе, эту неумолимую ответственность, что давит на плечи тяжелее любого недуга? Легко ли лечить человека, для которого слово «долг» значит неизмеримо больше, чем «жизнь»? Легко ли прописать покой тому, кто сам себе – строжайший надсмотрщик?
Не сложилось у меня с Чазовым. И вряд ли сложится.
Следом за этой троицей потянулись и остальные обитатели трибуны. Не спеша, но и не мешкая, сохраняя достоинство и дистанцию. Казалось, каждый внутренне просчитывал свое место в этой невидимой процессии. Никто не хотел быть последним, суетиться, привлекать ненужное внимание. Да это никому и не грозило: последним, совершенно очевидно, предстояло идти мне. Мои спутники-космонавты уже двинулись следом за основной группой второстепенных, но важных лиц. Берти оглянулся, помахал мне рукой – мол, идем! Я кивнул.
На трибуне, под перекрёстными взглядами вождей и толпы, я оказался по воле пославших меня Ольги и Надежды. Но они были лишь проводниками, а сама идея, сама мысль поставить меня здесь, среди героев космоса и столпов государства, исходила, как я понимал, от Стельбова. А ещё более – от генерала Тритьякова. Евгения Михайловича. Человека с виду малоприметного, но умевшего видеть вглубь на пять саженей. Именно он, в своем кабинете, увешанном картами и портретами, после моего доклада о… инциденте, решил, что прятаться не нужно. Нужно, наоборот, не прятаться. Пусть знают, что мне это на пользу пошло. В смысле карьеры.
А доклад мой был о происшествии в самолёте. Том самом, что случился в полете от Триполи до Вены. Меня расспрашивали долго и обстоятельно, Тритьяков, и ещё один товарищ чьё имя я так и не запомнил. Потому что не знал.
Что могло случиться с товарищем Глебовским?
Я разводил руками. Ну, почти руками. Назвать конкретно, чем именно отравился или заболел товарищ Глебовский, не могу. Симптомы… рвота, резкая слабость, падение давления, потеря сознания… Могло быть что угодно. Пищевая токсикоинфекция. Некачественный продукт. Возможно, что-то нехорошее он съел ещё на земле, в Ливии. Польстился на что-нибудь необычное, арабское – знаете, эти их экзотические закуски… Но, возможно, и в самолете еда была… второй свежести, что ли. Исключить этого не могу. Хотя…
– Хотя что?
– Хотя я сам в самолёте не ел ничего. И не пил. Ни виски, советский, разумеется, ни бутерброд со шпротинкой. Это была… взлетная закусочка, так сказать. Для поднятия духа перед долгим перелетом. И виски, и бутерброд съел мой попутчик. Глебовский. Хай в нас, чем в таз, – сказал он. Не хотел, чтобы добро пропадало.
Глебовского скорой помощью с борта самолета доставили в больницу. Хорошую венскую больницу. Где он и скончался, так и не придя в сознание. Результаты вскрытия? Вчера они были неизвестны. Никто не спешил, все делали аккуратно и по регламенту. Посольство, как только стало известно о случившемся, взяло случай под плотный контроль. Тело, разумеется, будет отправлено в Москву.
Остатки питания из самолёта, как мне сообщили, тщательно собрали и отправили на экспертизу. В лучшие лаборатории. Но особых открытий я не жду, – мысленно заметил я уже тогда и повторял сейчас, глядя вслед уходящим с трибуны. – То есть недочетов, нарушений – найдут, конечно, множество. Несоблюдение температурного режима хранения сливочного масла для бутербродов. Несоблюдение сроков реализации шпрот. Недостаточная стерилизация подносов. Потому что гладко, как известно, только на бумаге. Действительность же полна оврагов, косогоров, зыбучих песков и прочих буреломов, в которых безнадежно вязнут самые благие инструкции. Но конкретный фактор, приведший к смерти товарища Глебовского… Виски? Его пил весь первый класс. Шпроты? Опять же их, судя по подносам, ели многие. Нет… Я вспомнил рукописи, потоком идущие в
«Поиск», детективные романы, присылаемые со всей страны. Как прочитавший множество самых разных, порой весьма заковыристых историй, я знаю, что можно нанести яд на край стакана и ловко подсунуть его конкретному человеку. Или отравить именно тот самый бутербродик. Но это уже означает… что убийца – стюардесса. Но зачем стюардессе убивать Чижика? Какая ей корысть? Она лишь была исполнительницей, марионеткой. Проводником чужой воли. Тонким инструментом в руках тех, кому я чем-то мешал. Впрочем, почему именно я? А если это Глебовский?