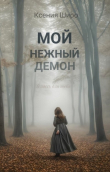Текст книги "Защита Чижика (СИ)"
Автор книги: Василий Щепетнев
Жанры:
Альтернативная история
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
Директор Карбышев начал покрываться испариной, хотя термометр в номере показывал комфортные двадцать два градуса.
– Товарищ гроссмейстер… Михаил Владленович! Я прямо сейчас… сию секунду… – он замахал руками, словно пытаясь отогнать обвинения.
Но я не дал ему договорить. Лязгая металлом, я продолжил:
– Кроме того, следует учесть, что я не просто играю в шахматы. Я представляю и продвигаю продукцию советских предприятий на международной арене. Своего рода живая реклама, да. Весь шахматный мир знает: перед решающей партией чемпион мира, гроссмейстер Михаил Чижик выпивает чашку «Советского Краснодара»! Выпивает – и побеждает! Именно поэтому спрос на него за границей столь велик! Он приносит нашей стране необходимую валюту! Миллионы и миллионы! То же самое касается осетровой икры – это же визитная карточка нашей гастрономии! Поэтому, Herr Direktor, – я снизил голос до конспиративного шепота, но каждое слово било точно в цель, – нельзя исключать и такую версию. Диверсия экономическая. Вам, как руководителю, должно быть понятно: борьба империалистов против СССР давно перетекла из области чисто военной в область экономическую и идеологическую. Я вам, как кандидат в члены Центрального Комитета, – тут я позволил себе легкую паузу, опуская из гордости уточнение про комсомол, но интонацией давая понять всю весомость этого статуса, – я вам это со всей ответственностью заявляю.
Слово «Центральный Комитет» подействовало на директора, как удар кувалды в грудь. Он побледнел ещё больше, крупные капли пота выступили на лбу и висках, несмотря на прохладу. Он вытащил платок, но руки его дрожали так, что он не мог им воспользоваться. Его взгляд вновь метнулся к Ольге, ища защиты, но наткнулся на полную безучастность. Тогда он посмотрел на Надежду, но Лиса лишь пожала плечами: «Ну я же думала, что десять».
– Ольга, дорогая, – обратился я к Пантере – думаю, стоит позвонить Андрею Николаевичу. Скажи, что Чижик свою… оплошность признал. Что он согласен переехать на Белую Дачу. В «Жемчужине» его, увы, обокрали. Крайне некстати. Андрея Николаевича это огорчит.
– Сейчас позвонить? – уточнила Ольга, уже протягивая руку к телефону.
– Закончим разговор с гражданином директором, тогда решим.
«Белая дача» и имя Андрея Николаевича подействовало на Карбышева сильнее любого упоминания ЦеКа или НАТО. Он помертвел по-настоящему. Белая Дача – это на голову выше санатория «Сочи». На две головы. Выше некуда. На этой даче отдыхал сам Сталин, а теперь… Жалоба самому Андрею Николаевичу означала не просто выговор. Это означало комиссию из Москвы. Людей, которые не знали его лично, не пили с ним коньяк в местном ресторане, не получали презентов. Людей, нацеленных на результат. Они начнут рыть. И в пыльных архивах «Жемчужины», в отчетах, они найдут такое… А что не найдут, подскажут завистники и недоброжелатели. Судьба директора Елисеевского гастронома, мрачный пример для всех директоров определенного сектора советской экономики, предстала перед ним во всех жутких подробностях. Его колени чуть подогнулись.
Я видел его панику И в этот момент, когда паника достигла апогея, я смягчил тон. Не из жалости. Просто из понимания, что от перемены мест сумма не изменится. Ну, будет директором не Карбышев, а Погосян или Квитко, поезд с рельс не сойдёт, а сойдёт – то катастрофа.
– Однако, – сказал я, словно делая великодушное отступление, – есть ещё одна, менее зловещая версия. – Я указал на банку с баклажанной икрой, стоявшей на столе как вещественное доказательство подмены. – Вот это. Зачем? Зачем воришке заменять чай краснодарский – чаем грузинским второго сорта? А икру осетровую – икрой… кабачковой? Не логичнее было бы просто украсть? Зачем оставлять это?
– Зачем? – выдохнул Карбышев с робкой, безумной надеждой, ухватившись за соломинку.
– Зачем? – эхом повторила Надежда, но уже с неподдельным любопытством. Даже Пантера слегка повернула голову.
– Зачем? – Я усмехнулся коротко и сухо. – Ищите, Herr Direktor, среди имеющих доступ к номеру не просто вора. Ищите среди них молодых душой и сердцем. Ищите тех, кто… скажем так, испытывает романтический порыв социальной справедливости. Кто хочет указать мне, Михаилу Чижику, что я, дескать, оторвался от советского народа и, говоря попросту, зажрался. Вот, мол, пей, чемпион, чаёк второго сорта, как все, и закусывай кабачковой икрой, как все. Чтоб не зазнавался! – Я опять показал на стеклянную банку. – Ну, и руки шаловливые, конечно, не без этого. Сентиментальный вор с классовым чутьем. Ищите такого. Найдите. И проведите… воспитательную работу. Если человек искренне раскается, осознает всю нелепость и вредность своего поступка… – Я сделал многозначительную паузу.
– То?.. – прошептал Карбышев, и надежда в его голосе окрепла, засверкала, как первый луч солнца после грозы.
– То решать, конечно, вам. Выговор по месту работы. Лишение квартальной премии. Перенос отпуска на зимнее время… Что-то в этом роде. Сугубо воспитательные меры. С возмещением материального ущерба, разумеется. – Я посмотрел ему прямо в глаза. – И запомните, Herr Direktor: доверяй, но проверяй. Как говаривал один очень большой человек. Бдительность – наше все.
Карбышев стоял несколько секунд, переваривая свалившееся на него спасение. Потом его лицо расплылось в гримасе, напоминавшей одновременно плач и смех облегчения. Он шагнул ко мне и схватил мою руку своими влажными, холодными ладонями, начал трясти её с неистовой благодарностью.
– Михаил Владленович! Товарищ гроссмейстер! Я… Мы… Обещаю! Клянусь!.. – Он задыхался, не в силах вымолвить связную фразу.
– Чижик, время! – резко напомнила Надежда, глядя на часы. – Партия давно началась! Арнасон сидит, ждет! С полчаса уже!
– Ничего, – махнул я рукой с видом человека, вышедшего за пределы суеты. – Форс-мажор. Обстоятельства непреодолимой силы. Признаны международным правом.
Я налил в стакан минеральной воды. Чай грузинский, да ещё второй сорт – нет, не то. А «Боржом» – это то.
Я выпил полстакана медленными, размеренными глотками, выходя из образа прусского аристократа.
Вместе с девочками я спустился в игровой зал. Партер полон, царила напряженная тишина, нарушаемая лишь редким стуком шахматных часов.
Мое место, ясно, пустовало. Соперник, исландец Арнасон, сидел, скучал, его лицо выражало скорее недоумение, чем гнев. Главный судья, пожилой мастер с вечно усталыми глазами, при моем появлении взглянул на часы и тяжело вздохнул.
Мои часы были пущены давно. Опоздание на час влечет за собой техническое поражение. Но я опоздал ровно на пятьдесят семь минут. Три минуты запаса.
Я подошел к столу. Сначала – к исландцу, вежливо поклонился:
– Прошу прощения за задержку, сэр. Форс-мажор. Обстоятельства. Вы понимаете.
Арнасон что-то промычал, кивнул, не глядя. Он явно был сбит с толку.
Затем я подошел к главному судье:
– Товарищ судья, форс-мажор. Приношу свои извинения.
Судья лишь махнул рукой, устало показывая на доску, садитесь уже, играйте.
Я повернулся к зрителям, сидевшим в полутьме. Сделал небольшой, но отчетливый поклон. Не знаю, что они видели: героя, преодолевшего козни врагов, или капризную звезду, опоздавшую на собственный спектакль. Аплодисментов не последовало. Лишь сдержанный шорох.
Я сел. Белые фигуры стояли, выстроившись в начальной позиции, как новобранцы на параде. Черные – ждали. Часы мои неумолимо отсчитывали последние секунды трехминутной отсрочки. Я взял королевскую пешку. Чувствовал на себе взгляды: судьи, Арнасона, Ольги и Надежды, возможно, даже запаниковавшего директора Карбышева, выглядывающего из-за двери. В горле все ещё стоял привкус «Боржоми».
Я передвинул пешку с е2 на е4. Самый стандартный, самый предсказуемый первый ход. Ход, за которым не стояло ни мысли, ни вдохновения, лишь автоматическое движение руки и легкая печаль о настоящем, не подмененном «Советском Краснодаре».
Игра началась.
Глава 16
21 июня 1980 года, суббота
Назовите вашу цену
Наблюдать шахматную партию – занятие, требующее специфического устройства души. Занятие для изощрённого, очень большого любителя. Сродни наблюдению за метеорами. Метеоры, «падающие звезды» – суть не более чем агония космической пыли, микроскопических осколков комет или астероидов, врывающихся в земную атмосферу с космической скоростью и сгорающих в краткой вспышке трения. «Ах, звезда упала, загадай желание!» – восклицает профан, не ведая, что в этот миг он аплодирует гибели межпланетного камешка размером с горошину. Но истинное, научное наблюдение метеоров – это процедура, лишённая всякой романтики, доведённая до механического аскетизма. Представьте: двое людей, закутанных в одеяла, или прямо в спальниках, лежат на сырой земле где-нибудь за городом, их взоры прикованы к участку неба, искусственно ограниченному проволочной окружностью, закреплённой на жердях – своеобразный прицел для ловли мимолётных смертей. Один монотонно бубнит: «Единица… Двойка, двойка… Тройка…» – классифицируя яркость очередного сгоревшего пришельца. Другой репетует, в смысле – повторяет. А третий, самый умный, сидит поодаль и заносит эти цифры в журнал в свете потайного тусклого фонарика с темно-красным светом, как в фотолаборатории. Процесс бесконечен, монотонен, холоден. Занятие для студентов, отрабатывающих пропущенные занятия, или энтузиастов, чья страсть к небу превозмогает скуку. Так было в начале века – то был передовой фронт исследования межпланетной среды! Пока не явились Чувствительные Фотопластинки, вооружённые Светосильными Объективами, а затем и Автоматические Фотоаппараты. Эти бездушные, не знающие усталости стражи приняли ночную вахту. Они с холодной эффективностью регистрируют каждый акт космического крематория, не требуя ни спальников, ни термоса с чаем, ни оплаты сверхурочных. Наука прогрессирует, вытесняя человека из ниш, где требуется лишь тупое, неуклонное внимание.
Но представьте иную картину! Когда небо расчерчено не единичными росчерками, а прошито целыми залпами – метеорный дождь, перерастающий в настоящий ливень. Когда падающие звёзды не капризничают, являясь два-три раза в час, а сыплются дюжинами, беспрерывным серебристым градом! Тогда ахает и поднимет очи к небу всякий прохожий, самый что ни на есть невежественный в астрономии обыватель. «Красота! Красота-то какая!» – вот единственный лексикон, доступный для описания этого фейерверка самоуничтожения космического мусора. Массовость, частота, яркость – вот что превращает научную рутину в доступное зрелище.
Вот и шахматная партия – для внешнего наблюдателя, для этого самого «прохожего» от шахмат, ценна лишь подобными «ливневыми» моментами. Чем их больше – тем «зрелищнее». Мат! Двойной удар! Мельница, эта карусель пленных фигур! Жертва ферзя – акт интеллектуального самосожжения во имя высшей цели! Но увы… В партиях современных мастеров, этих холодных тактиков и эндшпильных стратегов, такие катаклизмы – редкость, почти аномалия. Они избегают их, как чумы, предпочитая медленное удушение, позиционную возню, где победа достигается не ярким взрывом, а микроскопическим перевесом в пол-пешки, добытым на шестидесятом ходу. Это астрономы, считающие единичные метеоры в своем узком секторе неба.
Поэтому собирают мастеров в турниры, в надежде, что уж сейчас-то, когда их, игроков, много, когда они, игроки – молодые, стремящиеся к славе тигры, когда и турнир-то в память о шахматном забияке – звезды-то и посыпятся.
А сыпятся всё-таки редко.
Вот пример: мне удалось поставить эффектный мат сопернику. Здесь, в Сочи, на этом турнире. Об этом рассказал в эфире «Маяка» Яков Дамский, возник даже анекдотический «Клуб Заматованных». И что же? Каков был эффект? Эффект был обратный! Мои последующие оппоненты стали сдаваться загодя, не дожидаясь красивого конца. Рекорд – на восемнадцатом ходу! Абсурд? С формальной точки зрения – нет. Соперник сдался абсолютно правильно: он потерял «всего лишь» пешку, но позиция была безнадёжна. Через три хода он терял вторую пешку, еще через ход – коня, либо получал мат в несколько ходов. Играть без шансов, получать мат на глазах у публики? Нет уж, лучше капитулировать тихо и с достоинством, мол, высоко сижу, далеко гляжу. Но вот беда: рядовой зритель, любитель уровня третьего разряда (а таких в залах большинство), этого микроскопического позиционного преимущества, этой предсмертной агонии позиции – не видит! Он видит лишь то, что один игрок вдруг протягивает руку, опрокидывает короля и говорит «Сдаюсь». На доске – почти полный комплект фигур! Со страху сдался, шепчутся на галерке. Или того хуже – сговор!
И никакие доводы о тонкостях позиционного цугцванга, о связанности фигур, о контроле над ключевыми полями – не убедят их. Им нужен ливень, а им подсунули регистрацию единичного, почти невидимого метеора.
Возникает идея, почти техническая утопия: а что если комментировать партию прямо во время игры? По радио, транслируя анализ в наушники зрителей! Чтобы каждый, сидящий в зале, мог слышать анализ мастера, разъясняющего: «Вот видите, белые только что сделали скромный ход пешкой. Кажется, ничего особенного. Но только кажется. Это – начало конца. Черный слон теперь заперт, конь на b8 лишен перспектив, а ферзь… о, ферзь черных теперь похож на балерину, запертую в телефонной будке. Через пять ходов он либо погибнет, либо будет вынужден отступить, отдав инициативу…» Это превратило бы наблюдение за единичными метеорами в увлекательное сафари по дебрям позиционной борьбы! Но увы, пока это лишь мечта. Технически сложно, организационно хлопотно, да и мастера не горят желанием раскрывать свои мысли в реальном времени перед соперником, пусть и через наушники зрителей. Кибернетический комментатор? Пока фантастика. Так и сидит зритель в полутьме зала, наблюдая за немыми фигурами, как астроном прошлого века за немым небом, ожидая чуда, которое обычно не приходит.
Сегодня – последний тур. Решили начать пораньше, в десять утра. Для «торжественности». Обещали почтить своим присутствием Первые Лица Краснодарского Края. На закрытие – придут «железно», это не обсуждается. Их присутствие – такой же неотъемлемый атрибут финала, как раздача призов и аплодисменты. Они явятся, займут первые ряды, будут стараться выглядеть заинтересованными (или, по крайней мере, не спящими), произнесут несколько правильных слов о значении шахмат для воспитания молодежи и развития логического мышления в эпоху НТР. Их лица будут отражать сосредоточенное непонимание, как у человека, впервые увидевшего дифференциальное уравнение. Но присутствовать – будут. Таков ритуал.
И по этому случаю играем не в «Жемчужине», это не по статусу. Играем в Зимнем театре. Монументальное, слегка пыльное здание с колоннами и бархатными креслами. «Все равно простаивает,» – резонно заметил кто-то из оргкомитета. Да, простаивает. Анна Ванна и её ансамбль «Очаг» внезапно прервали гастроли. Вернее, гастроли были прерваны за них. Решение пришло свыше, быстро и неотвратимо. Теперь в ближайшие года три, а то и больше, Анна Ванна, если и будет петь, то исключительно под баян в сельских клубах где-нибудь на задворках великой страны. Причина? В «Литературной газете» появилась обличающая статья под убийственным заголовком: «Халтурщики на эстраде». Статья была образцом идеологического разгрома: детально, со знанием дела (или его видимостью) разбирался «случай Анны Ванны и её ансамбля», уличенных в том, что доверчивым слушателям они «скармливали магнитофонные записи, созданные неизвестно где и неизвестно кем». Фраза «скармливали» – шедевр обличительного пафоса, приравнивающий артистов к фальсификаторам пищевых продуктов. Убытки? Колоссальные! Билеты на десятки тысяч рублей были распроданы, деньги пришлось возвращать, касса театра опустела. Но это – мелочи. Когда говорит Государева Справедливость, деньгам надлежит безмолвствовать. Они – лишь прах у ног Истины. А Истина в данном случае имела вполне конкретное обличье и родственные связи. Источником «справедливости» выступила двоюродная сестра товарища Суслова. Да-да, того самого. Она мирно отдыхала в санатории «Сочи», посетила концерт Анны Ванны и заметила обман. Её ухо уловило фальшь. Несовпадение движений губ с фонограммой? Легкую задержку звука? Или просто каприз? Неважно. Сигнал был подан, механизм проверки запущен, статья в «Литературке» стала лишь финальным актом этой мелодрамы. Конечно, о «двоюродной сестре» газета скромно умолчала. В статье фигурировали «бдительные зрители», «трудящиеся», «общественность». Сестра товарища Суслова растворилась в этой анонимной массе бдительности, как капля воды в океане народного гнева. Таковы неписанные законы функционирования системы: истинные пружины событий часто скрыты за ширмой коллективных абстракций. «Халтура» была лишь удобным ярлыком, наклеенным на сложный клубок обстоятельств, где переплелись эстрадная лень, техническая возможность, жажда легкого успеха и… случайное присутствие особы, чья родственная связь придала ее эстетическому недовольству вес идеологического приговора.
Так и стоят теперь шахматные доски на сцене Зимнего театра, где недавно звучала фанерная музыка «Очага». Фигуры выстроены в начальной позиции – последний акт интеллектуального турнира, последняя регистрация «метеоров» мысли перед лицом ожидаемых Первых Лиц. Игра начнется в десять. Воздух пропитан ожиданием: кто-то ждет спортивной борьбы, кто-то – редкого «ливня» тактических красот, кто-то – просто отрапортовать о «проведенном мероприятии». А где-то в «Сочи» двоюродная сестра товарища Суслова пьет минеральную воду, даже не подозревая, что ее бдительность косвенно освободила зал для безмолвной битвы деревянных армий. Абсурд? Да. Но именно из такого абсурда, замешанного на бюрократии, человеческих слабостях и вечном поиске красоты в недрах рутины, и соткана ткань этого дня – 21 июня 1980 года, субботы.
Обыкновенно в зале «Жемчужины», собиралось человек шестьдесят, от силы семьдесят. Тишина стояла такая, что слышно было, как за окном, с пляжа, доносится смех да плеск волн. Шахматы – дело важное, но смотреть на игру лучше осенью, в дождливую, промозглую погоду, когда заняться совершенно нечем. Но летом, в Сочи, когда манит пляж, море переливается бирюзой, а по набережной гуляют нарядные девушки? Нет в этих партиях интриги, нет жаркого противостояния, нет конфликта, способного заставить сердце биться чаще. Все давно решено, как бухгалтерский отчет. Победит Чижик. Если быть совсем точным, я уже победил. Отрыв от ближайшего преследователя перед последней партией – два с половиной очка. Отрыв как у сегодняшней страны по сравнению с Россией одна тысяча девятьсот тринадцатого года. А кто там займет второе место или, скажем, восьмое – это волнует лишь самих участников, да и то не всех. Своего, сочинского гроссмейстера среди них нет, а болеть за какого-нибудь москвича или ленинградца… Ну, болеют, конечно, особенно отдыхающие, от нечего делать, от избытка курортной энергии. Но не настолько же, чтобы просиживать драгоценные отпускные часы в душноватом зале, глядя на демонстрационные доски или на самих шахматистов. Что шахматисты – сидят, и сидят. Не ругаются, не плюются, руками не машут, ногами не дрыгают. Скучно. В отпуске есть занятия куда как более увлекательные – мимолетные знакомства у бара, солнце на пляже, вечерние посиделки в ресторане под шум прибоя, наконец, музей Островского…
Кстати, о музее.
Наши Лиса и Пантера, Ми и Фа, и бабушки, куда ж без них, – отправились именно туда. Приобщаться к истории, к высокому, как положено культурным людям на отдыхе. Главное, по их словам, уложиться в пятнадцать минут, иначе мелким станет смертельно скучно, и место робкого интереса моментально займет тяжелое, сонное равнодушие, а то и откровенное отвращение к музеям. Впрочем, там сейчас, к счастью, открыта временная экспозиция картин Ватагина – слоны, мартышки, бегемоты… Вот это, считают, должно сработать. Бегемотик уж точно каждому понравится. А там, глядишь, на фоне этого звериного рая, и образ самого Островского, этого железного человека, хоть чуть-чуть да запомнится. Хорошая мысль. Практичная.
Но вот парадокс – вестибюль Зимнего театра сегодня, вопреки всякой логике и здравому смыслу, был полон. Не просто полон, а набит битком. И виной тому – комсомол. Вечная ему слава за энтузиазм и исполнительность! Из местных оазисов образования, медучилища, музучилища и Политехникума, позвали самых активных, самых сознательных комсомольцев. По разнарядке, разумеется. А то ведь не уместятся. Райком дал команду, а юноши и девушки потянулись, как муравьи, выполняя долг. И школьный актив – комсомольцы и даже пионеры. Но молодежь – народ непоседливый, ветреный. Чтобы удержать их на месте, не дать разбежаться при первых же ходах, придумали хитрость: объявили лотерею. По входным билетам! Пятьдесят счастливчиков получат «Поиск». Нет, не сам журнал, а право подписаться на второе полугодие! А самые-самые удачливые, пятеро избранных, обретут заветное право выписать «Библиотеку мировой фантастики». Гениально, не правда ли?
Идея, как нетрудно догадаться, принадлежала Ольге и Надежде. Популяризация современной литературы среди молодежи. Слово «реклама» мы старательно избегали – оно имеет отчетливо неприятный, буржуазный привкус. Популяризация звучит куда возвышеннее, с идеологическим подтекстом.
Да, всяким американцам, с их примитивными розыгрышами автомобилей, не понять тонкой советской механики счастья: выигрывается не сам товар, а лишь драгоценная возможность его приобрести, священное право отдать свои кровные деньги! Кстати, о деньгах. Цена входного билета на шахматное мероприятие – пятьдесят копеек. Администрация театра рыдает от счастья – все ж таки доход, пусть и небольшой, а не убыток.
Доход, впрочем, ожидался не только от билетов. Есть ведь еще буфет. Святая святых любого учреждения культуры. В буфете пахнет ванилью, копчёной колбасой и надеждой. На стойке красовались пирожные «картошка», чуть подсохшие по краям, бутылки «Пепси-колы», и – о чудо! – тарелки с аккуратными ломтиками буженины, украшенной скромным венчиком зеленого горошка из баночки. Комсомольцы, как известно, очень любят буженину с зеленым горошком. Если, конечно, у них есть деньги. И если, что не менее важно, в буфете водится сама буженина и тот самый горошек. Сегодня они были. По буфетным ценам, естественно, то есть слегка кусачим. Но ведь разок-то можно? В честь шахматного события! В честь лотереи! В честь себя, любимого, наконец! Можно?
Нужно, читалось в глазах многих, кто, сжимая в кулаке рубль или трешку, поглядывал на заветную стойку. Жизнь-то одна, а буженина в Сочи – явление временное. Как беззаконная комета, наблюдаемая лишь в телескоп. То бишь в буфете Зимнего театра.
Перед игрой я уединился в гримуборной. Мне, как Чемпиону Мира, персоне особой важности, выделили отдельную. Не общую, где готовятся к выходу участники поменьше рангом, а на одного. Словно примадонне оперной, или народному артисту, приехавшему на гастроли. Инициатива, опять же, Ольги и Надежды.
Вопрос престижа! Не моего личного, а престижа советских шахмат! Чтобы все, и особенно молодежь, понимали: гроссмейстер – это звучит гордо!
Ничего особенного гримерная из себя не представляла. Маленькая, квадратная комната. Стены, выкрашенные блеклой зеленой краской. Тусклое зеркало. Стол, покрытый когда-то белой, а теперь серой клеенкой. Три креслица прежних времён. Диванчик. Шкаф. Театральная романтика, ага. Но можно включить воображение.
Я сел на диван, и представил себя Леонидом Утесовым. Вчера прилетел из Москвы, провел ночь в… ну, допустим, в номере люкс той же «Жемчужины», и вот сейчас, в этой самой гримуборной, готовлюсь к первому, ответственнейшему выступлению, открывающему двухнедельные гастроли. Если понравлюсь Первым Людям Краснодарского Края. В ушах уже звучал джаз, чувствовалось легкое волнение перед выходом на сцену, слышались аплодисменты… Сижу, значит, сижу, и вдруг – шаги. Кто-то подходил к двери гримерной. Твердые, отчетливые шаги по паркету коридора. Стук каблуков. Женщина. Несомненно. Администратор? Или поклонница? С огромным букетом роз (красных, конечно) и бутылкой шампанского?
Кто может прийти к Утесову.
Но вдруг сон превратился в явь. Шаги. Да, женские. Да, на каблуках, скорее, высоких. Дверь открылась. Без стука. Почти без звука. Вошла. Цветов не было. Но бутылка – была. Завернутая в газету «Труд».
– Вот! – сказала она резко, коротко, как отрубила, и поставила бутылку на клеенчатый стол с таким видом, будто заключала выгодную сделку.
Поставила, и развернула газету.
Я пригляделся. Коньяк «Москва». Бакинский винный завод номер один. Двенадцатилетней выдержки, если верить этикетке. Почему, собственно, не верить? Мы в Советской Стране!
– Что это означает? – спросил я, стараясь сохранить гроссмейстерскую бесстрастность, хотя внутри все перевернулось от нелепости ситуации.
– Сделайте сегодня ничью! – произнесла она твердо, властно, глядя мне прямо в глаза. Женщина лет сорока, сорока двух, в строгом костюме, с лицом, на котором читалась привычка командовать. Не красавица, но с характером.
– Сделать ничью? – переспросил я, давая себе время осмыслить абсурдность требования.
– Ничья ведь вас устраивает, не так ли? – парировала она, не отводя взгляда. – Два с половиной очка отрыва. Даже поражение не страшно, по сути. А ничья – и вовсе золотая.
– Скорее, да, чем нет, – признал я. – Формально устраивает.
– Вот и предложите ничью. На двадцатом ходу. Или на двадцать первом. Чтобы уж наверняка. – Говорила она, как отдает не подлежащее обсуждению распоряжение подчиненным.
Я перевел взгляд на бутылку. «Москва». Двенадцать лет. Здесь вам не там.
– За бутылку коньяка? – спросил я, подпустив иронию.
Она нахмурилась, приняв мой тон за попытку торга.
– Вам мало? – выпалила она, и в глазах мелькнуло раздражение. – Назовите вашу цену! Говорите!
Мне стало вдруг смешно. И грустно. И любопытно.
– А если не смогу? – спросил я тихо, испытывая ее.
– Что не сможете? Назвать цену? – не поняла она.
– Если не смогу сделать ничью? – уточнил я, глядя куда-то поверх ее головы, на трещину в зеленой краске стены. – Предложу, а он не примет. Или… вдруг я проиграю? Шахматы – игра непредсказуемая. Особенно когда играешь с отрывом в два с половиной очка и мыслями где-то далеко.
К такому повороту она явно готова не была. Ее уверенность дрогнула. На мгновение в глазах мелькнуло что-то похожее на растерянность. Но ненадолго. Она быстро взяла себя в руки. Партийная закалка.
– В этом случае… – она сделала паузу, подбирая слова, – … бутылка все равно ваша! – выдохнула она с видом человека, совершающего великодушный, но дорогостоящий жест.
Сказала, развернулась, и вышла.
А коньяк остался. «Москва». Двенадцатилетней выдержки. Баквинзавод номер один. Дефицит. Цена – ничья. Или поражение. Во столько оценили Чемпиона Мира перед последней, ничего не решающей партией. Идиотски нелепая, смешная и в то же время бесконечно грустная бутылка, ставшая вдруг символом чего-то очень знакомого, очень нашего, родного. Жизнь за царя, Иван Сусанин.
И тишина.
Пятнадцать минут до начала. Пятнадцать минут, чтобы задать себе сакраментальный вопрос: зачем?
Зачем я здесь, в этом тесном и душном городе, где тысячи и тысячи сограждан теснятся на галечных пятачках, чтобы окунуться в грязноватое море, где воздух пропитан запахом морской соли, выхлопных газов и сладковатым душком нереализованных амбиций? Что я, собственно, надеюсь отыскать? Бутылку коньяку, завернутую в газету «Труд»? Не смешите мои старые шахматные башмаки. Автомобиль «Волга»? Уже лучше, но у меня уже есть «Волга». А в Дортмунде, куда меня зазывают организаторы, дополнительный приз – «Мерседес» последней модели. Но зачем мне «Мерседес»? Владимир Семенович как-то рассказал, что своего коня он продал потому, что надоело. Надоело, что постоянно прокалывают колёса, и кто прокалывает, свой же брат артист и прокалывает!
Хочу победить, потешить самолюбие? Но турнир этот, нужно признаться, не моего уровня. Откровенно второго сорта. Я здесь – как Меньшиков в Березове. Только генералиссимуса сослали по указу, а я приехал сюда добровольно. Но славы здесь не добудешь. Нет славы в победе над слабыми.
Нет. Я здесь для иного. Я здесь, чтобы не забывать. Не забывать о Пряниках. С большой, жирной, заглавной буквы «П». О тех самых Пряниках, что припасены Родиной – тоже с заглавной «Р», той самой, единственной и неповторимой – для своих любимых сыновей. О тех Пряниках, которыми грезят по ночам сыновья обыкновенные, те, что толкутся в очередях за колбасой «Докторская», пишут встречные планы и выезжают на подшефные картофельные поля. Грезят о теплом море, о пальмах, которые шуршат на ветру загадочными, иноземными листьями. О ресторанах, где на столе – не селедка «под шубой», а что-то невообразимое, покрытое соусами с французскими названиями. И вершина всего, апофеоз Пряничного Бытия – Гримуборная. Кабинет для переодевания. Святая Святых. С драгоценным, янтарным коньяком на столе, который не выдают по талонам, а просто… ставят. Как символ. Как награду. Как знак причастности к избранным.
Маловато будет? Ну что ж, извини, дорогой товарищ Внутренний Голос. Другой Родины у меня нет. И других Пряников – тоже. Эта – как родная мать: и накормит чем придется, и приголубит по-своему, и по голове треснет, если что не так. Принимай, как есть.
Ладно. Хватит копаться в подполье собственной души. Давай о другом. О деле. О последнем туре.
Мой соперник – бакинский волшебник. Так окрестила его молодежная пресса. Паренек из другого южного города, не из этого показного Сочи. Лицо – как у вундеркинда из журнала «Юный техник», только без очков. Формально он еще и школу не закончил – экзамены ему великодушно перенесли. За участие в турнире. У него уже есть на счету один гроссмейстерский балл, завоеванный в прошлом году в Баня-Луке. Второй – и он полноправный международный гроссмейстер. И он его уже заработал, этот балл, выполнил норму на этом самом турнире. Математика проста: у меня – первое место, у него – второе. И при любом исходе нашей личной дуэли итоговые места не изменятся. Я останусь первым, он – вторым. Турнирная таблица – вещь упрямая, как ослик.
И вот вопрос, который гложет меня, как шашель старую мебель: почему же меня попросили сделать ничью? Почти приказали, смягчив, правда, приказ бутылкой двенадцатилетнего коньяка?
Хотят, чтобы он сохранил кураж? Чтобы, дескать, с самим Чижиком сыграл на равных? Чтобы унес с собой в Баку не поражение, а почетную ничью? Возможно. Хотя любой трезвомыслящий человек, хоть немного понимающий в шахматах, скажет: игра с Чемпионом Мира, пусть даже закончившаяся поражением, – это ценнейший урок. Урок, который не заменит никакая расписная ничья. Это как замена настоящей хирургической операции тренировкой на манекене. Но человек, как известно из курса общей патологии человеческого поведения, редко поступает разумно. И вот мама просит дядю.