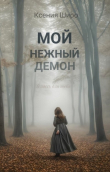Текст книги "Защита Чижика (СИ)"
Автор книги: Василий Щепетнев
Жанры:
Альтернативная история
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
– Смотрите, это дуб. Старый, видите, морщины на коре? А вон тот – граб. Листики у него резные, нежные, не то что у дуба. А это… – она остановилась у дерева с пальчатыми листьями, – каштан. Но не конский, а благородный. Его плоды можно есть.
Пантера, всегда практичная, тут же спросила:
– Сейчас?
– Нет, – Лиса улыбнулась. – Позже. Осенью. В октябре.
Я мысленно представил жареные каштаны на парижских бульварах, и вздохнул:
– Ладно, не так уж мы и голодны. Обойдемся без октябрьских деликатесов в мае. Хватит и капустки с морковкой.
Мы шли неспешно, наслаждаясь прохладой под полумраком крон, слушая пересвист птиц и далекий гул моря. И вдруг Пантера, шедшая впереди, резко остановилась, замерла.
– Змея! – предупредила она тихо, но отчетливо, указывая чуть в сторону от тропы.
И в самом деле, змея. Она лежала, точнее, скорее вилась, на толстой, покрытой мхом ветке невысокого бука, почти на уровне наших глаз. Довольно крупная, серовато-оливковая, с тёмным узором вдоль спины. Она казалась частью дерева, его продолжением, и лишь медленное движение плоской головы выдавало в ней существо живое и настороженное.
– Они здесь неядовитые, – спокойно, словно констатируя погоду, произнесла Надежда. – И шакалы тоже, кстати. Бояться нечего.
Надежда третий день с упоением штудировала познавательную книгу «Флора и фауна Большого Сочи», купленную в курортном киоске, и теперь чувствовала себя полноправным гидом по местной дикой природе. Ее уверенность была подкреплена глянцевыми страницами и четкими подписями под картинками.
– Совсем-совсем неядовитые? – уточнил я, инстинктивно делая шаг назад. Книга книгой, а змея перед глазами – реальность куда более убедительная.
– Совсем, – подтвердила Надежда. – Те, которые внизу, у моря. А повыше, от километра и дальше в горы, там гадюки водятся. Те ядовитые. А это… – она прищурилась, вглядываясь, – это, кажется, полоз. Да, Эскулапов полоз, – добавила она чуть менее решительно, вспоминая картинку. – Он же на эмблеме медицины, знаешь? Чаша и змея. Вот эта самая.
Эскулапов полоз, словно услышав свое имя, замер, устремив на нас немигающий взгляд. Его тёмные, круглые зрачки казались бездонными, гипнотизирующими.
– Видите? – торжествующе шепнула Надежда. – Зрачки круглые! Это верный признак неядовитой змеи. Полозы, они же ужикам, в общем-то, родня.
Логика была безупречна. Но древний страх, сидящий где-то в подкорке, шептал другое. Кто её знает, родню? Может, у неё сегодня плохое настроение? Или книга что-то упустила? Мы дружно предпочли не испытывать судьбу и змеиное терпение. Наблюдать за диковинным гадом решили с почтительного расстояния. Так было спокойнее. И нам, и самому полозу, который, почувствовав отсутствие угрозы, медленно пополз дальше по ветке, растворяясь в узорах света и листвы.
Аккурат к началу ужина, под мерный звон колокольчика, созывающего к столу, мы втроём вышли из зеленого сумрака леса на освещенную вечерним солнцем дорожку санатория. Я оглянулся на таинственную чащу. Никаких оборотней, никаких следов неведомых опасностей. Всё тихо, всё спокойно, всё по-курортному благопристойно. Даже змея оказалась эскулаповой, почти что домашней, с медицинской эмблемы сбежавшей. И главное – никто никого не съел. Ни шакалы нас, ни мы шакалов. Мирное сосуществование в действии. Обыкновенная сочинская идиллия, где дикая природа вежливо сторонится санаторного распорядка, а страхи растворяются в морском воздухе, словно сахар в тёплой воде. И лишь лёгкий холодок от встречи с взглядом полоза напоминал, что не всё в этом мире так уж предсказуемо и безопасно, как о том пишут в познавательных книжках.
У клуба припарковался автобус. Не роскошный «Икарус», а плебейский «ПАЗ», видавший виды, с потертыми боками и мутными стеклами. Из его распахнутых дверей, словно горох из перевернутого мешка, посыпались люди. Судя по виду – непростые. Кто ж из простых смертных, обремененных прозой жизни, осмелится щеголять в розовых штанах, расшитых золотистыми галунами, да ещё в столь ранний вечерний час? Кто наденет бархатную куртку, отливающую пурпуром, в тёплом сочинском мае? Лица – не местные, не санаторные. Лица с легкой усталой гримасой гастролёров, привыкших к интересу публики. Артисты, вестимо. Бродячие труженики лиры и сцены.
Так оно и оказалось. Бабушка Ни, наш негласный информатор и знаток местных порядков, сообщила за ужином с видом посвященной:
– После ужина, в семь тридцать пополудни, будет концерт. Анна Ванна и ансамбль «Очаг». Прямо здесь, в клубе.
– Здесь? – недоверчиво переспросил я, представив размеры зала и масштабы ансамбля, чьи афиши красовались на столбах у Зимнего театра. – В этом клубе?
– Именно здесь, – подтвердила бабушка Ни с достоинством. – Выступать в здешнем клубе, дорогие мои, – не просто гастроль. Это – великая честь. Признание уровня.
Что ж. Ровно в назначенный час, подчиняясь невидимому распорядку, обитатели санатория потянулись к клубу. Тянулись неспешно, группами, обмениваясь тихими репликами, как на обязательном, но не слишком обременительном мероприятии. Зал клуба встретил их привычной картиной: тяжелый, пыльно-красный занавес, на заднике – неизменный профиль Ильича, по верху сцены – золотом выведено традиционное «Слава КПСС». Всё, как в любом уважающем себя райцентровском Доме Культуры. Разве что просторнее: расстояния между рядами кресел и самими креслами были увеличены, словно рассчитаны на людей в шубах или с развесистыми крыльями. Разница чувствовалась сразу – как между тесным туристским салоном и салоном первого класса на «Боинге», летали, знаем. Из ста с лишним мест в партере занятыми оказалось едва ли половина. Собрались, по сути, все отдыхающие, включая детей, которых привели ради культурного развития.
Работники санатория – горничные, официантки, истопник – тоже собрались, но скромно, на балконе. В клубе был балкон – узкий, как полка для ангелов. Не все служащие, конечно, только свободные от смены. Эгалите, так эгалите. Пусть тоже приобщаются к культуре.
Расселись по ранжиру: самые почтенные и значительные – в первых рядах. Наша же разношерстная компания устроилась в правой ложе. Выбор был продиктован практичностью: если Ми и Фа, не выдержав высокого искусства, начнут капризничать или, не дай Бог, требовать немедленного продолжения упражнений Иллюстрисимо, можно будет увести их незаметно, не нарушая порядка, не вызывая укоризненных взглядов. Ну, и удобства ради: в ложе можно деликатно потягивать «Боржоми» из высоких стаканов, шуршать обертками «Мишек на Севере», или даже листать свежий номер «Правды» – единственной газеты, вышедшей в этот понедельник. Тихий шелест газетных страниц казался нам менее грешным занятием, чем возможное ворчание или храп.
Впрочем, газету мы читать не успели. Едва тяжелый занавес с легким скрипом раздвинулся, открыв музыкантов «Очага», взявших в руки инструменты с видом жрецов, готовых к священнодействию, как на нас обрушилась стена звука. Грохот! Рёв! Словно в зал въехал груженый БелАЗ на полном газу, да ещё и с включенной сиреной! Могучий ураган, рожденный акустическими колонками, привезенными артистами и установленными на сцене с явным расчетом на Зимний театр или открытую площадку, в этом небольшом, камерном, по сути, зале, обернулся пыткой. Звук бил по барабанным перепонкам, гудел в груди, вытесняя саму мысль. Слышать это без физического страдания и явного ущерба для слуха было решительно невозможно.
Мы и не стали терпеть. Поднялись с кресел, и поспешно ретировались, прикрывая уши. Вслед за нами, а кое-кто и раньше, опомнившись от звукового шока, потянулись к выходам и остальные. Лица у всех были одинаково страдальческие. Невыносимо же!
Музыканты на сцене, заметив Исход, засуетились. Кто-то махнул рукой звуковику. Громкость убавили. Достигли некоторого, весьма относительного прогресса – рёв сменился оглушительным грохотом. Через минут десять, когда основная волна беженцев успокоилась на свежем воздуха, до нас долетела вежливая просьба, сказанная в микрофон (ещё одна ошибка!):
– Уважаемые зрители, просим вас вернуться на места! Звук отрегулирован!
Вернулись не все. Мы, например, детей оставили дома, на попечение бабушки Ка. Пусть уж лучше смотрят «Спокойной ночи, малыши» – там и звук тише, и Хрюша с Филей милее розовых штанов. Вернулись в зал лишь взрослые, с опаской.
Музыка, надо отдать должное, стала чуть тише. Немного. К микрофону подошла сама Анна Ванна. Певица. Особа с пышной прической и в платье, усыпанном блестками, как новогодняя ёлка. Она открыла рот, и из колонок понеслось что-то мощное, вибрирующее, искусственно усиленное до неестественности. И тут… случилось нечто. Из первого ряда, словно пружина, вскочила сухопарая, но бодрая дама лет семидесяти. Серебряные седины, прямой стан, взгляд острый, колючий. Несмотря на возраст, она бойко взбежала по боковой лесенке на сцену, решительно оттеснила опешившую Анну Ванну от микрофона и, взяв его в руки (как трофей!), обратилась сначала к певице, а потом и к залу. Голос у нее был звонкий, без тени старческой дрожи, режущий воздух, как нож:
– Знаете, милочка, – начала она, обращаясь к Анне Ванне, но так, что слышно было до самого балкона, – патефоны и магнитофоны у нас, слава Богу, и у самих в достатке имеются. Смотреть же, как вы открываете рот под запись, нам, простите, неинтересно. Это – обман. Если можете петь сами – пойте. Живым голосом. Для аккомпанемента, – она кивнула в сторону стоявшего в углу рояля, – инструмент есть. Гитары берите нормальные, акустические. И без этого вашего железа! – она презрительно ткнула пальцем в сторону микрофона и колонок. – Зал здесь камерный, скромных размеров. Даже среднего голоса хватит, чтобы слышно было в последнем ряду! – И, выключив микрофон, бросила в зал, как вызов: – Слышно ли меня, сынку⁈
– Слышно!!! – грянул дружный, почти радостный ответ и из партера, и с балкона. Работники санатория аплодировали особенно рьяно.
Анна Ванна, надо отдать ей должное, не заробела. Краска залила ее щеки, грим не скрыл.
– У нас, гражданка, – ответила она с холодной вежливостью, – не сельская самодеятельность! У нас – выверенная электроакустическая гармония всех участников! Исключать кого-либо из ансамбля или отказываться от аппаратуры мы не намерены! Это – наш стиль! Наша концепция! Приглашайте себе баяниста, – добавила она с едва уловимой язвительностью, – если вам современная музыка непонятна!
Сухопарая дама даже не вздрогнула. Она лишь перешла на «ты» с убийственной нечувствительностью, словно ставя точку в споре:
– Мы-то пригласим, за нас, милочка, не волнуйся. Баянист найдётся. А вот вы решайте. Либо продолжаете концерт, но петь и играть должны сами, живыми голосами, на живых инструментах, без этой вашей… аппаратуры. Либо – нет. Третьего не дано.
Анна Ванна выпрямилась во весь невеликий рост. Ее лицо выражало оскорбленное достоинство артистки, привыкшей к иным аудиториям.
– Я, – заявила она твердо, – выступать без ансамбля и без звукового оформления не буду. Это невозможно.
– Ты сказала, – констатировала дама. Она повернулась к залу, взяла микрофон (уже в последний раз) и объявила громко, четко, без тени сожаления: – Концерт отменяется, товарищи! Артисты к выступлению не готовы. Завтра пригласим других. Честных.
Шум в зале был самый незначительный – легкое разочарованное шуршание, вздохи облегчения, сдержанные смешки. Люди без лишних слов, быстро и деловито, стали расходиться. Видно, здесь так принято. Никаких бурных протестов, никаких требований вернуть деньги (представление-то бесплатное). Просто – не сложилось. Как будто отменили рядовую лекцию о вреде табака.
А глаз у той дамы, несмотря на возраст, зоркий. Она сразу заметила несоответствие между аппликатурой гитариста, его пальцами, лихо бегавшими по грифу, и звучанием ритм-партии, доносившимся из колонок. Снебрежничал гитарист, схалтурил, думал – в суматохе звука никто не заметит. Не вышло. Не прошло. В этом маленьком, строгом мирке людям в розовых штанах не доверяют.
И мы пошли прочь, в наступающие сочинские сумерки. При заходящем солнце, окрасившем небо в пастельные тона, я устроился на веранде с номером «Правды». Читал без особого интереса. В Сочи открылось новое агентство Аэрофлота – двадцать с лишним билетных касс, а также международный сектор, обслуживающий новый прямой рейс Берлин – Сочи – Берлин.
Но мне-то в Берлин не нужно. Не тянет.
Вся последняя полоса была отдана спорту. Половина – приближающейся Московской Олимпиаде, треть – отчёту о Чигоринском мемориале, а остаток – всему прочему. Наши велосипедисты опять выиграли Велогонку Мира! Честь им и хвала. Но мысли мои были далеко от велосипедов. Они возвращались к вечернему фиаско в клубе, к розовым штанам и круглым глазам Эскулапова полоза.
Солнце скрылось за горами, потянуло вечерней прохладой. Я вернулся в дом. «Спокойной ночи, малыши» уже кончились. Мы уложили Ми и Фа в их кроватки. И в тишине, нарушаемой лишь стрекотом цикад за окном, исполнили традиционную колыбельную – «Summertime». Негромкий перебор струн моей испанки. И наше трио. Никаких колонок, никаких микрофонов. При открытых окнах звук плыл в теплый южный воздух, чистый и нежный. Вышло очень мило. Искренне. И как-то по-настоящему. Вопреки всем галунам и электроакустическим гармониям странного, предолимпийского лета.
Глава 15
31 мая 1980 года, суббота
Чижик идёт по следу
В номере было умеренно тихо, умеренно светло, умеренно прохладно. За окном – последний день весны. Отдыхающие окончательно перешли на летнюю форму одежды: всё лёгкое, всё нарядное. Местные – нет. Сочинца легко отличить от приезжего и по хмурому виду, и по неважной одежде. Нет, не нарочно плохой, но обыденной. Рабочей. Для завода, для огорода. Приезжему здесь праздник, а местному человеку что? Будни, вот что. Трудовые будни. И ничто не раздражает рабочего человека так, как вид счастливого бездельника. То, что этот бездельник одиннадцать месяцев вкалывал не меньше его, да ещё где-нибудь в Воркуте – это не считается. Ходят толпами, бока на пляжах греют, в столовых из-за них не протолкнуться, на базаре цены конские, а дети твёрдо говорят, что хотят быть курортниками – разве это может радовать сочинца? Не может это радовать сочинца. Вот и не радует.
Время чая. «Советский Краснодар» – чай хороший. Не скажу, что волшебный, чудес не обещает, в отличие от снадобий таинственного состава, которые мы встречали на филиппинском рынке. Нет. Он просто хороший. Бодрит исправно, настроение поднимает без лишнего шума в голове, и после чашки чая любое, даже самое кропотливое дело – ну, скажем, разбор партий минувшего тура – спорится как-то легче. Так гласит реклама. И кто бы что ни говорил о нашей советской действительности, но реклама у нас – кристально честная штука. Не то что капиталистическая трескотня, цель которой – всучить доверчивому обывателю залежалый хлам по цене золота. У нас такого просто нет, залежалого-то. Взять хотя бы «Советский Краснодар» – расходится со скоростью мысли. Вот только что доставили в гастроном пятьсот упаковок, не успел моргнуть – и нет ничего. Пустота. И молва, эта вечная спутница дефицита, уже приписывает чаю свойства небывалые. Шепчутся, будто сам Леонид Ильич Брежнев пил «Советский Краснодар» исключительно ради долголетия, и вслед за ним, естественно, потянулось всё руководство. Заговор чайный, что ли?
То, что Леонид Ильич, при всем почтении, прожил не так уж и долго, да и сменивший его Юрий Владимирович Андропов образцом богатырского здоровья не блистал – народную веру не поколебало. Отравили! Ясное дело, отравили! И Брежнева, и Андропова! Враги! Кругом враги! Кто же они? Американцы? Китайцы, с их вечными претензиями? Или, прости Господи, евреи? Отомстили за то, что мало выпускают из Союза? Или, напротив, за то, что вообще выпускают? Ведь в Израиле, как известно любому читателю «Правды», хорошо живётся только кучке богачей, а простому человеку, хоть он трижды еврей, по матери, по фамилии, и по внешности, грозят нищета, голод и смерть под палящим солнцем. Такой вот парадокс. Но вера в чудодейственный чай – непоколебима.
Подарить доктору пачку «Советского Краснодара» – это сейчас всё равно что преподнести бутылку «Двина», коньяка отменного, дорогого, и тоже редкостного. Об этом коллеги в Москве рассказывали. Со знанием дела. Мне? Ха! Кто ж станет дарить мне? Я ведь не практикую на родных просторах. Я несу знамя советской медицины в Ливии. Высоко и далеко несу, под знойным ливийским солнцем. В Ливии чай не дарят, там у них другие нравы. Но случается всякое. Отказываться – нельзя это оскорбительно. Восток дело тонкое. Очень тонкое.
«Советский Краснодар» я добываю разными путями. Иногда выдают в столе заказов – в Москве, на улице Грановского, кто знает, тот знает, а кто не знает, тому и не надо. Но чаще – просто покупаю в «Берёзке». Заходишь, если чеки есть, и покупаешь. У меня пока есть. Рубли? Рубль – не деньги, рубль бумажка, как метко зафиксировал Владимир Семёнович, и дал благой совет не экономить. Чеки, конечно, тоже бумажка, и экономить их тоже не стоит. Но не будем о грустном.
Чай я начинаю пить за четверть часа до пуска часов. Ритуал. Неторопливо, вдумчиво, смакуя каждый глоток. На чашку уходит ровно семь минут – проверено. Затем ещё пять минут неспешной прогулки по коридорам, лестницам и опять коридорам, к игровому залу. И ровно без трех минут до начала игры я сажусь за доску. Всё рассчитано. Всё как часы. Особенно здесь, в Сочи, в этом отеле, который стал символом гордости и предубеждения советского ненавязчивого сервиса, где каждый шаг можно рассчитать, как ход на шахматной доске. Предсказуемость – она успокаивает нервы перед битвой.
Но сегодня… Сегодня моя выверенная до секунды схема дала сбой. Трещину. Большую и неприятную.
Надежда, которая обыкновенно чай и заваривает, не обнаружила заветной коробочки с пакетиками «Советского Краснодара» – и да, линию по упаковке чая в заварочные пакетики купили и установили по распоряжению Брежнева, было дело.
– А это что такое? – она протянула мне невзрачный цыбик, обернутый в простую, чуть шершавую бумагу цвета пыли.
Я принял. Легкий, почти невесомый.
– Это? – переспросил я, хотя прекрасно знал ответ. – Это, Лиса, чай. Грузинский. Второй сорт. Рязанская чаеразвесочная фабрика. Пятьдесят граммов нетто. Цена – тридцать копеек. Аромат… – я судорожно втянул носом воздух – аромат сена, слегка подмоченного дождем. Или воблы. Бодрит, конечно. Особенно если заварить покрепче. Но настроение… настроение поднимает своеобразно. Скорее, наводит на философские размышления о бренности бытия.
Надежда вздохнула, словно прочитала мои мысли о бренности, и решительно направилась к холодильнику. Холодильник был импортный, чешский, «Mora», предмет гордости «Жемчужины». Она распахнула дверцу, заглянула внутрь.
– Ещё одна подмена!
– Ещё?
В холодильнике у нас хранилась осетровая икра. Вчера оставалась баночка, трехунциевая, синяя, жестяная. А сегодня – крибле-крабле-бумс! – она превратилась в стеклянную банку икры баклажанной, Астраханского консервного завода, 670 граммов нетто, ценой пятьдесят семь копеек без стоимости посуды. А сколько стоит стеклянная банка?, Пятачок, гривенник? Не знаю, сдавать не приходилось. В Ливии свои обычаи.
– Что ж, – произнес я, стараясь, чтобы голос звучал ровно, философски, – проиграли в качестве, но выиграли в количестве. В массе. И в калориях, надо полагать. Баклажаны – дело сытное.
Но внутри все сжалось от досады. Острой, едкой. Дело вовсе не в деньгах. Убыток – десять рублей, или около того. Для меня пустяк. Дело в осадочке. Ну, что такое таракан, скажите на милость? Насекомое. Одно из многих. Сам по себе – ничего особенного. Но стоит обнаружить его, этого самого таракана, плавающего в тарелке с борщом – и весь аппетит, всё удовольствие от еды пропадает. Тошно становится. Так и воровство. Противно и гадко. Как пыльный цыбик грузинского второго сорта вместо ароматного «Краснодара».
Исчезла предсказуемость. Растворилась в чувстве всеобщей подмены. Кто? Горничная? Или просто невидимая рука советского быта, где одно всегда незаметно подменяется другим, чуть хуже, чуть дешевле, чуть… противнее?
Часы сбились.
– Нам ли печалится? За неимением гербовой напишем и на простой. Выпью и грузинский, хоть и второй сорт. Второй сорт – не брак!
Бодрости от грузинского чая я не ждал. Лишь бы не уснуть за доской от его унылого, сенного аромата. И чтобы это гадкое чувство – чувство таракана в борще – не мешало сосредоточиться. Хотя… как сосредоточишься, когда знаешь, что где-то здесь, совсем рядом, кто-то смакует твой «Советский Краснодар», причмокивая губами? Или, быть может, меняет его на что-то ещё более эфемерное в этом причудливом мире вечного дефицита и вечных подмен? Мир съежился до размеров гостиничного номера, где даже чай и икра не принадлежат тебе по-настоящему. Противно. Ага. Ощущение всепроникающей фальши, подмены, этой вечной игры в «испорченный телефон», где твой «Советский Краснодар» на полпути к твоему же рту незаметно превращается в рязано-грузинскую труху второго сорта.
Нет. Нельзя уступать обстоятельсвам.
– Пожалуй, я не буду сегодня играть, – сказал я, – я лучше пойду домой. Поеду. Полечу.
– Куда полетишь? – спросила Ольга без тени удивления, будто обсуждали прогноз погоды. Голос был ровный, холодный, как лезвие ножа.
– В Чернозёмск, вестимо, – ответил я, чувствуя, как абсурдность собственных слов придает мне странную смелость. – К тётке. В глушь. Или… или прямо в Берлин, что ли! – выпалил я, размахивая рукой в сторону невидимой Европы. – А оттуда, глядишь, в Дортмунд! Меня туда зовут! Приглашают! Призовые – золотые горы! И знаете что самое главное? – Я сделал паузу для драматического эффекта, подражая старым провинциальным трагикам, которых видел когда-то в юности. – Ни разу в отелях не обворовывали! Представляете? В Германии – ни разу! В Польше – ни-ни! Даже в Соединенных Штатах Америки, этом оплоте загнивающего капитализма, – голос мой зазвенел форсированным надрывом, – не воровали! И только однажды меня обокрали! Один раз! Украли чемодан! Но кто украл⁈ Кто⁈ – Я воздел руки к потолку. – Свои же! Свои, советские люди! Наш брат! Горько мне! Горько! Горько! – Я даже приложил руку к сердцу, изображая непередаваемую скорбь.
– Ты бы ещё рубаху стал на себе рвать, – произнесла Ольга хладнокровно, с убийственной точностью попав в самую суть моего дешёвого представления.
Эффект был мгновенным. Пафос сдулся, как проколотый шарик. Я опустил руки, смущенно поправил воротник той самой рубашки.
– Рубаха денег стоит, – пробормотал я уже обычным, усталым голосом, гладя рукав. – Италия. Натуральный шёлк. Двести рубликов, кажется. Рубаху жалко. – Я вздохнул. Театр кончился. Осталась только усталость и то самое, непреодолимое нежелание. – Но играть… играть мне не хочется. Совершенно. Считайте, что я взбрыкнул. Каприз артиста. Или шахматиста. Всё едино.
– Чижик не может взбрыкнуть – это Надежда. Трава зеленая. Небо голубое. Чижики не брыкаются. Логика неопровержимая.
– Тогда вспорхнул, – сдался я, ощущая себя маленькой, жалкой пташкой, севшей не на свою ветку.
Лиса и Пантера переглянулись. Мгновение. Ни слова. Ни звука. Но в этом молчаливом взгляде, в едва уловимом движении бровей, в легком наклоне головы Ольги прочитывался целый диалог, понятный только им двоим. Они существовали в своем поле, в своей системе координат, где мои эмоции были лишь помехой, которую надлежало устранить с привычной, отработанной эффективностью.
Ольга кивнула, едва заметно. Надежда, словно получив приказ по телеграфу, тут же перешла к действию и подсела к телефону. Связь тут через гостиничный коммутатор. Во избежание лишних звонков и связанных с ними «недоразумений». Например, если отдыхающий вернется в свою Тюмень, а потом окажется, что оплачивать трехсотрублевый счет за межгород некому.
Но Надежда начала не с межгорода. Она сняла трубку, подождала сигнала коммутатора и произнесла с ледяной вежливостью, граничащей с угрозой:
– Алло? Коммутатор? Соедините, пожалуйста, с директором. Гражданином Карбышевым. Срочно. Ревизионная комиссия ЦеКа спрашивает. – Пауза. – Да-да. Именно так. Благодарю. – Она положила трубку аккуратно, без стука.
Всё верно. Ревизионная комиссия ЦеКа. Надежда в неё входит, в комиссию. Только комиссия эта – ЦеКа комсомола,. Контроль за гостиницами, за чаем и икрой в холодильниках постояльцев, ну никак не её забота. Но, с другой стороны… Разве не всё взаимосвязано? Это как посмотреть. Если под нужным углом… И Надежда посмотрела именно так.
– Десять, – тихо, но отчетливо сказала Надежда.
– Пять, – так же тихо ответила Пантера.
Я не понял, о чем они. О рублях? О чем-то своем, девичьем? Но результат был ошеломляющим.
Гражданин Карбышев, директор «Жемчужины», явился в номер ровно через три с половиной минуты. Он вошел, слегка запыхавшись, с лицом, на котором улыбка радостного служения боролась с тенью неподдельного страха. На нем был слегка мятый костюм, галстук съехал набок. Призыв «ЦеКа» придал ему скорость, с какой пожарная команда выезжает на вызов пятой категории.
– Ольга Андреевна! Чем могу служить? – произнес он тоном, в котором старая угодливость смешалась с новой, липкой ноткой паники. Весь его вид кричал: 'Какое счастье быть полезным! Только скажите, чем!
Но Пантера молчала. Она даже не повернула головы, продолжая изучать из окна набережную. Это была моя партия. Мой выход.
Я подошел к столу и с достоинством, на которое только был способен, указал пальцем на злополучные предметы
– Как прикажете это понимать, гражданин директор? – спросил я, вкладывая в голос всю накопившуюся горечь.
Карбышев недоуменно посмотрел на стол, потом на меня, потом снова на стол. Его взгляд скользнул по цыбику грузинского чая, по банке с баклажанной икрой.
– Что именно? Простите великодушно, не совсем понимаю… – Он развел руками в извиняющем жесте.
– Вот это! – Я ткнул пальцем в цыбик. – Чай грузинский, второй сорт, рязанской чаеразвесочной фабрики! И вот это! – Палец переместился к банке. – Икра кабачковая, Астраханского завода! Как они очутились в моем холодильнике? И куда делся мой чай, «Советский Краснодар»? И куда подевалась банка осетровой икры, которую я оставил здесь же, в номере, полагая, что в советской гостинице «Жемчужина» хотя бы холодильник – священное место⁈ – Голос мой крепчал, я входил в образ прусского барона, оскорбленного в лучших чувствах. Ещё немного – и я лопну от спеси и презрения.
Карбышев побледнел. Он инстинктивно бросил взгляд на Ольгу, ища спасения, объяснения, подсказки. То, что он увидел – профиль, обращенный к морю, – его явно не обрадовало. Страх в его глазах сменился паникой. Он сглотнул.
– Что⁈ Чай? Икра? Пропали⁈ – Он изобразил шок, но это было плохо сыграно. – Не могу в это поверить! У нас же… у нас порядок!
– По-вашему, – я выпрямился во весь рост, расправил плечи, стараясь выглядеть максимально внушительно, – по вашему я лгу? Я, Михаил Чижик, Герой Советского Союза, намеренно оклеветал ваше безупречное заведение из-за пачки чая и банки икры⁈ – голос зазвенел металлом. Медью.
– Нет! Разумеется, нет! Ни в коем случае! – залепетал Карбышев, переводя испуганный взгляд с меня на неподвижную Ольгу и обратно. – Но… но вы могли… могли ошибиться? Перепутать? Может, горничная убирала… почистила холодильник? – Он выдвигал версии с отчаянной надеждой.
– Я? Ошибиться? – Я фыркнул с таким презрением, что директор физически отшатнулся. – Я считаю ходы на двадцать вперед, гражданин директор! Ошибка для меня – понятие из области фантастики! А тут… тут целая подмена! Кража!
Слово «кража» прозвучало как выстрел. Карбышев вздрогнул. Он понял, что отговорка не пройдут. Ольга Андреевна молчит, а это – самый страшный знак. Он вытер ладонью внезапно выступивший на лбу пот.
– Мы… мы немедленно! Немедленно во всём разберемся! – заверил он, кивая с неестественной быстротой. – Я лично! Сейчас же! Проведу расследование! Допрошу персонал! Загляну во все углы! – Он говорил так, словно собирался штурмовать вражескую крепость, а не искать украденную баночку икры. – А ущерб… ущерб мы, безусловно, возместим! Никаких сомнений! Только… только прошу, успокойтесь, Михаил Владленович! – он почти взмолился, бросая умоляющий взгляд в сторону Ольги. Его судьба, карьера, висели на волоске, и он знал, что спасение – только в прощении. Чижик, будь он хоть дважды Героем – птичка для директора «Жемчужины» не страшная, но дочь товарища Стельбова…
Я вздохнул. Где-то, возможно, в соседнем номере, кто-то заваривал мой «Советский Краснодар», намазывал на белый хлеб мою чёрную икру. В глазах директора Карбышева я увидел такой животный страх, такую абсолютную, почти комическую беспомощность перед незримой, но всесильной волей Ольги, что гнев начал понемногу сменяться усталой брезгливостью. Играть не хотелось. Но и смотреть на этого жалкого человека, трепещущего перед Пантерой, стало ещё противнее. Здесь не было победителей. Ни я с моим украденным чаем, ни он, дрожащий директор, ни даже молчаливая Ольга. Была только всепоглощающая тоска. Тоска по миру, где не воруют чай. По простой человеческой предсказуемости. По тому, чтобы вещи оставались на своих местах, а люди – на своих, без этих вечных, противных подмен.
Тишина после моих слов повисла не просто густая, а губительная. Карбышев стоял, словно пригвожденный к паласу, его лицо приобрело цвет несвежего творога. Девочки тоже молчали. Только холодильник «Mora» тихо гудел на своей чешский манер, напоминая о предательски пустых недрах. Абсурдность ситуации требовала абсурдного же ответа.
– Боюсь, вы не вполне точно оцениваете ситуацию, Herr Direktor, – продолжил я, и голос мой звучал теперь не просто противно, а как скальпель по стеклу. Я нарочно ввернул немецкое обращение, для загадочности. – Речь здесь идёт отнюдь не о банальной краже, с которой ваша администрация, несомненно, справилась бы… в меру своих скромных возможностей. Речь идет о событии иного порядка. О политической акции. – Я сделал паузу, дав словам осесть в сознании директора.
Карбышев попытался открыть рот, но я продолжил, методично наращивая давление:
– Осетровая икра – наша, каспийская, дар нашей Родины. Чай «Советский Краснодар» – не прихоть избалованного мажора, как вы, возможно, подумали, глядя на мою итальянскую рубашку. Отнюдь нет. Эти продукты я употребляю строго по предписанию профессора Петровой, ведущего специалиста страны в области спортивного питания. Это – моя боевая диета, Herr Direktor! Здесь, в Сочи, на глазах у всего мира, я участвую в международном турнире, защищая спортивную честь нашей великой страны! – Я выпятил грудь, вкладывая в позу всю значимость момента. – И лишить меня в этот ответственный час назначенного питания… Это равносильно тому, чтобы перед велогонкой проколоть колесо советскому гонщику! Саботаж! Целенаправленное действие! А именно сегодня, в эти самые минуты, – я с драматизмом указал на часы, пятнадцать минут пятого, – должна играться моя ключевая партия с исландским мастером, Йоном Арнасоном! Исландия, как вам, надеюсь, известно из программы «Время», является членом агрессивного военного блока НАТО! И любое мое ослабление, любой личный неуспех наши геополитические противники немедленно используют во вред престижу Советского Союза! Вы понимаете масштаб, вы понимаете ответственность, лежащую на вашем учреждении? Это – первое.