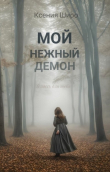Текст книги "Защита Чижика (СИ)"
Автор книги: Василий Щепетнев
Жанры:
Альтернативная история
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц)
– Наш дорогой венгерский друг, космонавт Берталан Фаркош, для друзей Берти – представил я спутника, и девочки оживились моментально, с той особой, теплой любезностью, которая была их оружием и украшением. Пожали руки, сказали пару искренне-восхищенных слов о космосе, о подвиге, о его усах. Берти, кажется, впервые за день расслабился по-настоящему. Но долго задерживаться не стали – время антракта неумолимо.
– А теперь – к Высоцкому? – спросила Надежда, уже зная ответ. И мы, небольшой процессией – Лиса, Пантера, я и космический гость, – двинулись дальше, в святая святых, ходоки к Владимиру.
Гримуборную ему отвели особенную. Знаменитая «шаляпинская». Почему её так окрестили – загадка, покрытая пылью театральных легенд и канцелярского воображения. Сам Федор Иванович, разумеется, ногой здесь не стоял. Разошлись во времени. Может, призрак великого баса являлся здесь по ночам, напевая «Блоху»? Или гримуборная эта, просторная, с высоким потолком и добротной мебелью, считалась достойной лишь памяти Шаляпина? Но наиболее правдоподобной казалась прозаичная версия: так её назвал сам Чечулин, легендарный архитектор, в порыве ностальгии или пиетета, вспомнив о давней, мимолетной встрече с кумиром юности. Назвал – и пошло. У нас зря ничего не называют, каждое имя – как печать, как знак качества или проклятия.
Мы зашли. Народу было немного. Человек пятнадцать, не больше. Не толпа почитателей, а именно ближайшие друзья, коллеги по сцене, те, кого он впускал в это свое временное убежище без лишних слов. Казалось, сама комната дышала спокойствием посреди бурного моря вечера. Воздух, однако, был густ: висел стойкий шлейф крепкого табачного дыма, смешанный с запахом дружеского тепла, искреннего восхищения и… отчетливым, резковатым духом советского виски. Несколько скромных бутылок с узнаваемыми этикетками скромно стояли на столике в углу, рядом с гранеными стаканами. Следы официального праздника в неофициальной обстановке.
Но сам Владимир Семенович, центр этого тихого круга, выглядел поразительно свежо, трезво и собранно. Ни тени усталости или разбитости. Он сидел в глубоком кожаном кресле, чуть откинувшись, но не развалившись. Улыбался – не широко, а сдержанно, по-домашнему, коротко, но емко отвечал на летящие со всех сторон приветствия, шутки, слова поддержки. В его глазах светился ясный, сосредоточенный огонь. Он был здесь и сейчас, полностью.
При виде девочек встал и поклонился
– А я всё ждал и ждал.
Мне пожал руку.
Затем пришла очередь Берти:
– А вот и герой космоса! Как вам было там, товарищ космонавт? Рядом со звездами?
Вопрос был задан без пафоса, с искренним, почти мальчишеским любопытством.
Берти, кажется, на мгновение растерялся от такого прямого обращения, но не подкачал. Он выпрямился, по-военному, и ответил просто, но метко:
– Рядом со звездами я не там, Владимир Семенович, а здесь. И мне очень хорошо.
Высоцкий засмеялся, коротко и радостно. «О! Это ты верно подметил, брат!» – тут же перешел на «ты», как к своему. – Здесь каждый – звезда. Включая тебя. Настоящая!
Он широко улыбнулся, и в этой улыбке была такая обезоруживающая теплота и простота, что Берти аж порозовел от неподдельного смущения и удовольствия.
– Спасибо, – пробормотал он, явно тронутый.
Тут подошел кто-то из «своих», из Таганки, вечно озабоченный, с лицом злодея и заговорщика. Ткнул пальцем в кружку, которую Высоцкий держал в руке – простую, алюминиевую, потертую, явно свою, не из буфета.
– Что, Володь? – спросил он с напускной строгостью. – Теперь совсем-совсем? Ни-ни-ни? Завязал?
Высоцкий усмехнулся, поднес кружку к губам, не спеша отпил пару глотков. Поставил ее на подлокотник кресла с таким видом, будто это была драгоценная чаша. В глазах его мелькнула и тень усталости, и привычная ирония, и какая-то глубокая, внутренняя сосредоточенность.
– Да, ребята-демократы, – сказал он спокойно, но так, что слышали все в комнате. – Только чай. Крепкий, сладкий. Кружка эта… заговоренная у меня. Из нее чай веселит не хуже чего иного, знаешь ли, но… мысли не туманит. А мне есть о чем думать. – он сделал небольшую паузу, и в этой паузе повисло что-то серьезное, важное, что он не стал проговаривать. Потом взгляд его снова нашел Берти, и голос стал теплее: – Но! Но дома у меня, – он подчеркнул слово, – много чего есть для настоящих друзей. Так что жду. Особенно тебя, космонавт. Уважаю я космонавтов. Сила. Выносливость. Честь.
И это было уже не просто приглашение, а знак высшего доверия, персональный вызов. Берти кивнул, поняв.
В этот момент из колонки над дверью резко, настойчиво прозвучал сигнал – три коротких гудка. Пора. Начинать второе отделение. Магия антракта кончилась. Волшебный круг в гримуборной распался. Улыбки стали дежурными, движения – более резкими. «Удачи, Володя!», «В бой!», – послышались голоса. И мы разошлись, растворившись в потоке людей, устремившихся к своим местам.
Вторую часть мы смотрели из ложи А, добытая, несомненно, ловкостью лисы и хваткой пантеры. Помимо меня и Берти, в ложе были еще пятеро гостей. Очень известных, даже знаковых персон: два Поэта с большой буквы и три Писателя, чьи лица были знакомы каждому вдумчивому читателю. Писатели сидели чинно, держали марку. А Поэты… Поэты явно не теряли времени в антракте. От них попахивало резковатым духом «советского виски» – рубль семьдесят за рюмку. Нет денег – сиди дома, а буфет – это для кого нужно буфет, ага.
Они перешептывались, чуть покачиваясь, их глаза блестели нездоровым, лихорадочным блеском в полутьме ложи. Один из них, с копной седых волос, пытался что-то шепнуть на ухо Берти о звездах, но космонавт вежливо отстранился, его взгляд был прикован к сцене, где возникала одинокая, хрипящая правдой фигура. Контраст между казенным величием ложи, чинностью Писателей, подвыпившим вдохновением Поэтов и тем, что происходило на сцене – был разителен, почти невыносим. Берти сидел неподвижно, и лишь его пальцы чуть постукивали по бархатному подлокотнику кресла в такт знакомому, берущему за душу ритму.
По графику, утвержденному в высоких кабинетах Госконцерта, второе отделение должно было завершиться ровно в двадцать два пятнадцать. Но кто в этом зале, охваченном единым дыханием, помнил о графиках? Публика и Владимир Семенович соскучились друг по другу за долгие месяцы его отсутствия. Эта встреча была сродни долгожданному свиданию, и никому не хотелось ее прерывать. Он пел – хрипло, страстно, выворачивая душу. Останавливался, чтобы перевести дыхание или закурить прямо на сцене, под софитами. Начинал рассказывать. Простые, будничные истории обретали под его нажимом масштаб притчи. Смешил – вдруг, неожиданно, какой-нибудь абсурдной деталью, и зал хохотал, как один человек. Потом снова пел. И снова рассказывал. Время текло, как густой мед. Тот самый. Мёд Стожар.
Да, осень и зиму он провел не в шумной Москве.
– В деревне, – признался он, поправляя гитару на колене. – Да-да, представляете? Тишина. Снег по крышу. И… покой. Он сделал театральную паузу, лукаво прищурившись. – Отдыхал? И отдыхал тоже. А еще… думал. Много думал.
Зал замер, ловя каждое слово.
– И знаете, чем еще занимался? Учился. Всерьёз! – Он подчеркнул слово. – На повара. Экстерном, между прочим. В самом что ни на есть кулинарном техникуме. Он грациозно склонил голову в сторону Хазанова, сидевшего среди других поздравлявших артистов прямо на сцене. – Спасибо за наводку, Гена! Теперь я – повар четвертого разряда. Очень, – он сделал еще одну паузу, глядя в зал, – очень важная профессия!
Взрыв смеха, теплого, понимающего. Он улыбнулся в ответ, но в глазах мелькнула не только шутка, а что-то серьезное, обдуманное.
– Планы? – переспросил он, отвечая на незримый вопрос зала. – Планы – огонь! Совсем скоро, семнадцатого мая, вот здесь, в этом самом зале, – он стукнул каблуком по сцене, – состоится кинопремьера. Мой… наш… фильм. «Лунный Зверь» Я там – режиссер. И артист. Немножко. Будем его представлять. Всем скопом. Со всеми потрохами. Он обвел рукой пространство перед собой. – Некоторые из участников, между прочим, присутствуют в зале. Но из скромности просили их не упоминать. Так что… гадайте!
По залу прокатился веселый гул, люди оглядывались, пытаясь угадать – кто же из сидящих рядом причастен к таинственному «Зверю»?
– А потом… – голос его внезапно стал тише, задумчивее. – Потом планирую сменить широты. Круто сменить. Поработать. Годик. В Антарктиде.
Зал ахнул. Невероятно! Шутка?
– Кем поработать? – он развел руками, снова с лукавой искоркой. – Так поваром же! Я ж теперь спец! Вторым поваром, если точно. Буду людей борщом кормить. Рассольником тоже. Харчо. Щи удаются. Гороховый суп с копченостями умею…
Снова смех, но уже с оттенком сомнения. Я посмотрел на Ольгу и Надежду, сидевших рядом в ложе. Они едва заметно, но твердо кивнули. Так и есть. Не шутит он. Уже зачислен. Их рук дело. Комсомольская путевка на край света. Во имя… чего? Искреннего порыва? Жажды новых впечатлений? Или это был гениальный ход, способ вырваться из надоевшей клетки славы и московских интриг под благовидным, героическим предлогом? Девочки знали ответ, но не спешили делиться.
Чехов ездил на Сахалин. Высоцкий – в Антарктиду. Времена меняются, да.
Закончили без четверти двенадцать. Не в двадцать два пятнадцать. График был безнадежно растоптан энергией живого чувства. Когда смолкли последние аплодисменты, зал начал медленно, нехотя, расходиться. Народ поделился на две неравные части. «Безлошадные» – те, кому предстояло еще долго трястись в ночных трамваях и автобусах по недружелюбным московским окраинам, – торопливо, с оглядкой на часы, пробивались к выходам. «Всадники» же – обладатели машин или просто те, кому некуда было спешить, – медлили. Они стояли кучками в фойе, оживленно обсуждали только что пережитое. Некоторые, подогретые эмоциями и поздним временем, даже заворачивали в буфет, где рубль семьдесят за рюмку виски казался уже не такой безумной платой за продолжение праздника. Помогая тем самым буфету выполнить и перевыполнить план по выручке.
Мы с Берти поспешили к нашей «Чайке», припаркованной в укромном, охраняемом месте за залом. Нужно было отпустить и водителя, и неизменного гида в штатском. По идее, сделать это следовало перед началом концерта, но кто же мог знать, что он так затянется, выбив все планы из колеи? Водитель, пожилой, видавший виды мужчина с орденской планкой на пиджаке, лишь кивнул, устало потер переносицу. «Гид» же просиял неестественно широкой улыбкой облегчения. Его смена явно кончилась.
– А как же я обратно?' – спросил Берти, глядя, как «Чайка» плавно отъезжает, увозя его официальный эскорт. В его голосе прозвучала нотка тревоги. – Ночью в Москве… с такси ведь плохо? Я слышал…
Я похлопал его по плечу.
– Для хорошего человека, Берти, такси всегда найдется. Да и зачем такси, у нас хорошая машина, отвезу, если что. Но почему ночью? – улыбнулся я. – Ночь в Москве жизнь только начинается. Самые интересные разговоры разговариваются именно ночью. Поверь, тебе понравится.
Он скептически поднял бровь, но доверился.
Высоцкий, как выяснилось, сегодня был без своей машины. Для конспирации. Ольга, всегда практичная, предложила довезти: «Матушка» в глаза не бросается, не «Мерседес», но поместительная. Они – Лиса, Пантера и сам Владимир Семенович – уже ждали нас у машины, стоявшей чуть в стороне от основного потока. Высоцкий отхлебывал из кружки, видно, горло пересохло. его лицо в свете уличного фонаря казалось усталым, но спокойным. Он что-то тихо говорил девчонкам, те кивали. Рядом, в темноте, ждали своего часа еще три машины – скромная «копейка» и две «двадцать первые» Волги. Все были забиты друзьями Высоцкого, артистами, музыкантами – теми, кто был допущен в этот ближний круг. Они тоже ждали отмашки, чтобы двинуться в ночь, к продолжению вечера, к разговорам, к чаю (или не только к чаю) в московской квартире. В Ленинграде знаменитая квартира Мойка, двенадцать, в Москве – Малая Грузинская, двадцать восемь. Среди прочих знаменитых квартир.
Именно в эту минуту относительного затишья, когда основная толпа уже рассосалась, а ночная тишина только начала окутывать площадь перед залом, появились они. Дюжина, не больше. Люди, с горящими, не совсем трезвыми или просто фанатично преданными глазами. Первые разведчики, сумевшие вычислить или подслушать маршрут отхода кумира. Вот она, оборотная сторона настоящей славы – эти восторженные, порой неконтролируемые взгляды, эта готовность прорваться сквозь любую преграду. Они шли быстро, целенаправленно, еще издали выкрикивая его имя: «Володя! Володя! Спасибо!» Их энтузиазм был почти трогательным и одновременно тревожным.
И вдруг. Вдруг один из них, парень в темной ветровке, не дойдя десяти шагов до нашей «Волги», резко, как-то неестественно вырвался вперед. Его рука вскинулась. Не для приветствия. Мелькнул короткий, тусклый блеск металла в свете фонаря. Похоже на «Макаров». Стрелял он хаотично, отчаянно, не целясь толком – в Высоцкого, в Надежду, в Ольгу… Я не стал разбирать, куда именно. Некогда. Расстояние между мной и стрелком приличное, метров двадцать, «ПСМ» не самое удачное оружие для стрельбы на таком расстоянии. Зато наши и моя цель не на одной прямой. А за целью в пятидесяти метрах глухая стена.
Мой первый выстрел прозвучал одновременно с его третьим. Я расстрелял весь магазин, восемь патронов. Сначала по ногам Не из желания сохранить ему жизнь, отнюдь. Пуля, раздробив бедренную кость, лишает противника опоры. Он падает. Упав, теряет мобильность, теряет цель, может выронить оружие, потерять сознание от шока и боли. Это эффективнее, чем попадание в корпус. Впрочем, в корпус я тоже стрелял.
Попал. Он рухнул на асфальт, как подкошенный. Время, сжатое до мгновения, снова растянулось. Грохот выстрелов оглушил, в ушах стоял звон. Дымок пороха повис в сыром ночном воздухе, смешавшись с запахом бензина и страха.
Лиса и Пантера сработали мгновенно, как единый механизм. Не крик, не паника – холодная ярость женщин, чьих подопечного только что пытались убить. Они кинулись к упавшему, не обращая внимания на его стон. Молниеносные движения: залом, захват, обездвиживание. Он лежал, скрученный, дергаясь в истерике боли, его темная ветровка быстро темнела еще больше у бедра. Нейтрализован.
Но главное было не в нем. Ольга и Надежда невредимы. А Владимир Семенович Высоцкий… Он стоял секунду, опираясь о серый бок «Волги». Его лицо было странно спокойным, почти удивленным. Потом он медленно, очень медленно начал сползать вниз. Не падать, а именно сползать, его спина скользила по холодной двери, по крылу, пока он не осел на корточки, а потом – совсем тихо, беззвучно – опрокинулся на бок, уткнувшись плечом в переднее колесо автомобиля. Из-под светлой рубашки, чуть выше пояса, медленно расползалось пятно. Кровь.
В руке, сжимавшей до последнего мгновения ту самую алюминиевую кружку, не осталось сил. Кружка выпала, покатилась по асфальту, звеня пронзительно и безнадежно в московской тишине.
Глава 8
6 мая 1980 года, вторник
Пустая пачка сигарет
Воздух в Москве, как часто бывает ранней весной, был прозрачен и упруг, словно натянутая струна, но в нем уже витало обещание грядущего тепла, смешанное с гарью и пылью вечного города, с отчётливым, узнаваемым запахом выхлопа потока автомобилей.
– Таким образом, Михаил Владленович, – произнес генерал-майор Батырбаев, мой непосредственный начальник в «девятке», откинувшись в кресле, обитом потертым, но добротным зеленым плюшем. Его кабинет, высокий и просторный, с окнами на тихую, почти провинциальную улицу в центре, дышал солидностью и некой казенной уютностью. На стенах – портреты, неизбежные и строгие. Слева, конечно, товарищ Феликс, справа – Стельбов и Суслов. Переглядываются сурово, без улыбок. Тяжелые шторы, ковер, давно утративший яркость красок, но сохранивший достоинство. Хороший кабинет. Чувствуется, хозяин в нем человек не временный, поселился всерьёз и надолго.
– Действия ваши признаны правомерными, и будут отмечены благодарностью в приказе и денежной премией. – Голос его звучал ровно, по-отечески, с той теплотой, которую он, казалось, приберегал специально для меня. Батырбаев ко мне – как отец родной. Ладно, не отец, это было бы слишком патетично и не слишком правдиво. Но добрый дядя – да. Ну, почти. Почти дядя, с которым можно и о службе, и о жизни, и даже о чем-то сокровенном, не переходя, конечно, границ.
– Служу Советскому Союзу, – отчеканил я, вставая по стойке «смирно», как полагается. Форма – всё, содержание – ничто, как говаривал Павел Петрович, убиенный император. Один из. Ритуал – это скрепа, без него всё рассыпается. Генерал встал, обходя массивный дубовый стол – реликт, должно быть, еще сталинской эпохи, – и крепко пожал мне руку. Его ладонь была сухой, твердой, рука рабочего человека, прошедшего путь от желторотого птенчика до генеральских погон. В этой рукопожатии была и похвала, и одобрение, и что-то еще – может быть, тень усталости от всего этого, от необходимости раздавать награды за дела, о которых лучше не вспоминать на досуге.
– Кстати, не забудьте обновить погоны, – напомнил он, возвращаясь за стол и бросая взгляд на мои плечи, на которых погон отродясь не было. За исключением сборов после пятого курса, да. – Вы теперь капитан.
– Никак нет, не забуду, товарищ генерал-майор, – ответил я, и вновь его рука протянулась для пожатия. Капитан… Звание это свалилось на меня прошлой зимой, вне очереди, как снег на голову. Но был я в ту пору далеко – в Ливии, под жарким, нещадным солнцем, Там и получил телеграмму, сухую, как военный приказ. Батырбаев тогда же стал генерал-майором. Интересно, связаны ли эти два события – мое повышение и его генеральство? Я уверен, что нет. Батырбаев, думаю, то же самое считает. Мы оба профессионалы, оба понимаем, как крутятся шестеренки в этой машине. Но вдруг? Вдруг моя «успешная операция» на Куршской косе стала последним доводом в его представлении к званию? Мысль эта, как назойливая муха, залетела в голову и жужжала там, вызывая странное чувство – смесь благодарности и легкого отвращения. Нет, лучше не думать. Не думаю – не существую. Призрак я. Фантом «девятки».
В кабинете повисла тишина, нарушаемая лишь тиканьем настенных электрических часов. Батырбаев перебирал бумаги на столе. Я стоял, ощущая неловкость от внезапно закончившегося разговора. Финал, финал нужен!
– Э… – начал я нерешительно, словно мальчишка, просящий совета у взрослого.
– Что, товарищ Чижик? – поднял голову генерал. В его глазах мелькнуло легкое любопытство.
– Я… Может, нужно как-то… отметить? – выдавил я из себя, чувствуя, как глупо это звучит. А и надо глупо. – Собрать коллег, в ресторане? Поздравить друг друга, так сказать, по-человечески.
Батырбаев медленно отложил бумагу. Он сделал вид, что глубоко задумался, потирая переносицу. Его лицо, обычно открытое и добродушное, стало непроницаемо-начальственным.
– В ресторане? – переспросил он, растягивая слова. – В каком же?
– В «Узбекистане», например, – предложил я. «Узбекистан» среди московских ресторанов – как «Мерседес» среди вереницы «Москвичей», «Жигулей» и «Волг». Так считают ценители и снобы. Мне тоже там нравилось. Пахнет дорогими специями, пловом, который готовили как спектакль, и легкой дымкой коньяка. Освещение там было приглушенное, золотистое, скатерти – белоснежные, официанты – почтительные и быстрые. Я, наверное, сноб. Или просто меня там тоже ценили. Как… друга Шарафа Рашидовича. Ну, не друга, конечно, кто он – первый секретарь, хозяин Узбекистана, а кто я? Но – доброго товарища. Вместе оперы писали, я музыку, он текст на узбекском языке. Соратники, а не конкуренты. Что может быть лучше?
– В «Узбекистане»… – задумчиво повторил Батырбаев. Потом покачал головой, и в его глазах появилось то самое выражение – смесь сожаления и непреклонной служебной необходимости. – Жаль, конечно, Михаил Владленович, очень жаль. Но мы не можем позволить себе собираться вместе иначе, как по делам службы. Вот представьте, – он наклонился вперед, понизив голос, хотя в кабинете, кроме нас, никого не было, – увидят нас недруги, всякие там… наблюдатели, в таком месте. И смекнут – вот она, вся верхушка девятого управления, как на ладошке. Соберутся, сфотографируют на память. Нет, нельзя такого допустить. Невозможно. Риск неоправданный.
– И мне жаль, – тихо сказал я, чувствуя, как легкая, почти мальчишеская надежда угасла, оставив после себя пустоту и горечь. Чтобы хорошо сыграть, нужно поверить самому.
В печали, неловко кивнув, я покинул кабинет генерала. Дверь закрылась за мной с мягким, но непреклонным звуком. Спустился по широкой мраморной лестнице – холодной, протоптанной тысячами ног. Девятнадцатый век, имперский размах. Ковра давно нет – сняли, видимо, как пережиток, но остались медные шайбы, шарики, которыми он крепился. Прутья же, державшие ковер, увы, исчезли бесследно, как многое другое из прежней жизни.
На посту у тяжелых дубовых дверей показал удостоверение – с этим здесь строго, до щепетильности. Молодой лейтенант, дежуривший там, взглянул на красную книжечку, потом на меня – и в его глазах мелькнуло то самое знакомое сочетание: любопытство, настороженность и едва скрываемый страх. Да, он знал. Все знали.
Вышел на улицу. Майское солнце, еще нежаркое, но уже настойчивое, ударило в глаза. До моей «Волги» два квартала. Я нарочно оставил «Матушку» подальше, в переулке, для конспирации. Решил пройтись пешком, поразмыслить на свежем, насколько это возможно в центре Москвы, воздухе. Погода была умеренно-майская – самая что ни на есть подходящая. Легкий плащ песочного цвета, итальянский, купленный в командировке, не стеснял движений. Так же, как и шляпа с неширокими полями, и солнечные очки с поляризующими стеклами – тоже не отечественного производства. Я прекрасно понимал: этот наряд привлекает внимание. На обычного москвича я не походил. А для кадрового сотрудника девятки это был непростительный грех – выделяться, быть заметным. Как павлину в вороньей стае.
Но я не кадровый. Вот в чем загвоздка. Я – не поймешь кто. Загадка для системы. Особое распоряжение самого Андропова – зачислить и предоставить специальные полномочия. Что-то вроде того самого «вольного агента» из буржуазных шпионских боевичков в мягкой обложке, которые, говорят, Юрий Владимирович почитывал в редкие часы отдыха, пряча их под папкой с докладами. С правом ношения оружия. Скрытого ношения, разумеется. Пистолет и сейчас надежно лежал под мышкой, в кобуре, пристегнутой к плечевому ремню. Вычищенный, смазанный, с полным магазином. Будь готов! Всегда готов!
Андрей Николаевич ясности в мой статус вносить не торопился. И у всех причастных, от генералов до водителей, сложилось устойчивое мнение: обыкновенный «блатной», в смысле – родственник-мажор, пригретый могущественным покровителем. Тягот и лишений обычной оперативной службы не знает, бумажной волокиты избегает, зато получает полное довольствие, может козырять волшебным удостоверением, щеголять при оружии, и из лейтенантов за какие-то полтора года долетел до капитана. Вот он какой, Чижик-пыжик из Дома На Набережной. Снисходительные усмешки, разговоры за спиной – все это я видел и слышал. И ничего не мог поделать. Да и не хотел.
Но.
«Сколько он зарезал, сколько перерезал, сколько душ невинных загубил…» – слова из бессмертной комедии пришли на память сами собой. Резать я никого не резал, в буквальном смысле. Нож – не мой инструмент. Невинных – по крайней мере, тех, кого я считаю невинными, – не губил. Совесть моя в этом отношении чиста. Но если посчитать холодно, без сантиментов, то перебито мной людей немало. Даже много, если говорить прямо. Для мирного времени – так и вовсе непозволительно много. Именно поэтому негласная кличка у меня в недрах девятки была соответствующая: «Смерть-Чижик». И это, конечно, никак не способствовало установлению теплых, дружеских отношений с коллегами. Они видели во мне либо опасного фаворита, либо хладнокровного палача, либо и то, и другое вместе. Именно по этой причине Батырбаев, мой «добрый дядя», и отклонил мое наивное предложение «проставиться». А вовсе не из-за его мнимой боязни «засветить» сотрудников в ресторане. Это был предлог, вежливый и неуклюжий, как филатовский медведь на цирковом льду. Все полевые сотрудники давно засвечены – кто на фотографиях встреч важных людей с передовыми рабочими коллективами, кто в кинохронике о партийных съездах, кто мелькнул в программе «Время» за спиной патрона. Нет, причина была глубже и проще: никто не хотел сидеть за одним столом с «Смертью-Чижиком», чокаться с ним бокалами, есть один плов, слушать его тосты. Это было бы… неестественно. Как если бы мясник пришел на пикник к вегетарианцам.
Я шел по тротуару, стараясь ни на кого не смотреть, но ощущая на себе взгляды прохожих. Шляпа, очки, плащ… Да, я выделялся. Грешил. Но разве я мог быть другим? Этот образ – часть моей легенды, часть той самой «вольности», которую мне даровали. Идти же в неказистом плащике местного пошива, в потрепанной кепке – значило бы ломать себя, притворяться тем, кем я уже не был и не мог быть. И не хотел. Вот ни разу не хотел. Сноб, ага.
А вот интересно, – подумалось вдруг, когда «Волга» уже показалась впереди, сверкая знакомым боком, – есть ли другие такие же «вольные стрелки» в недрах девятки? Прямо сейчас? Были ли они в прошлом? При Никите Сергеевиче Хрущеве, с его непредсказуемыми порывами? И раньше? При Берии? При самом Железном Феликсе? Ведь система, эта огромная, сложная, бездушная машина, наверняка нуждалась в таких, как я – не вписывающихся в строгие штаты, не скованных уставом до последней запятой, способных на то, на что не способны или не имеют права «кадровые». Своего рода хирургический инструмент для особо деликатных операций. Где-то в архивах, под грифом «совершенно секретно», наверное, лежат папки с такими же, как я, призраками.
– Дядя, дай жвачки! – раздался ломающийся голосок.
Передо мной замер шкет лет пятнадцати, в потертых как бы джинсах, в клетчатой рубашке навыпуск. Лицо – смесь наглости и детской неуверенности. Чуть поодаль, у стены, притулились еще трое его спутников, наблюдали с видом заговорщиков, ожидая результата авантюры. В их позах читалась и надежда, и готовность в любой миг обратиться в бегство.
– Жвачки, – повторил зачинщик, повышая голос, словно перед глухим. – Гам-гам! – И, для вящей понятливости, энергично задвигал челюстями, изображая процесс жевания. Видимо, принял меня за иностранца, существо с другой планеты, на которой понятен лишь универсальный язык жвачки и жестов.
– Мы не в Чикаго, моя дорогая, – произнес я размеренно, на чистейшем русском языке, глядя ему прямо в глаза.
Эффект был мгновенным. Наглость сменилась растерянностью, затем – досадой. Шкет скорчил гримасу, показал язык, короткий и розовый, как у щенка, и, не сказав более ни слова, рванул прочь. Его ватага слиняла следом, растворившись в сумеречном переулке с быстротой теней.
Да, уличных банд в Москве, слава Партии, пока нет. Не Чикаго. И днем в центре столицы еще можно ходить без особой опаски, глядя по сторонам, а не озираясь через плечо. Но времена меняются, и ветер будущего несет дымок тревоги. Потому и принято мудрое решение – на время предстоящей Олимпиады всех столичных школьников отправить подальше, в пионерские лагеря. Под бдительное око вожатых, под сень сосновых боров. Не только школьников, разумеется. Но и школьников тоже. Во избежание нежелательных контактов, недоразумений, эксцессов. Чтобы поменьше общались они с заезжими иностранцами, да и иностранцы целее останутся. А то ведь как бывает? Ограбят какого-нибудь сонного британского туриста на Арбате, вырвут сумку с фотоаппаратом «Пентакс», а потом про этот жалкий случай раструбят на весь белый свет по Би-Би-Си, да еще и краски сгустят. Нет уж, лучше уж подальше, в лес, на Волгу, на Клязьму. Пусть купаются, загорают, играют в «Зарницу». На поля, на прополку свеклы. Всем спокойнее, всем полезнее.
Дойдя до «Матушки», я остановился. Осмотрел дверцу. Две пулевые пробоины были заделаны лишь накануне. Не такая это простая штука оказалась, как думалось поначалу. Мастера в спецгараже, люди видавшие виды, предложили заменить дверцу целиком. Вот беда: наша «Матушка» – из особой, малой серии, предназначенной для заграничных продаж. И гальваника у нее особенная, и окраска – не просто «яично-синий», а какой-то сложный, с перламутром, импортный лак. Подобрать под цвет – задача почти титаническая. А то и вовсе невозможная – той самой краски, говорят, на заводе больше нет, импортная, кончилась, как и многое другое кончается в этой жизни.
Но русский человек, к счастью, на выдумку хитер. Проблему решили, и решили с чисто русской смекалкой и простотой. Яша Шифферс, недавно ставший москвичом и возглавивший гараж издательства «Молодая Гвардия» (девочки его переманили, хватит тебе, барон, нежиться в Чернозёмске, пора покорять Москву), предложил крестьянское решение: поставить заплатки. Как на портки. У меня, сказал Яша, поглаживая щетинистый подбородок, есть один жестянщик. Мужик хоть куда. Горячее сердце, холодный ум и… – он сделал многозначительную паузу – … золотые руки. Сварганит так, что сам Генри Форд позавидует.
И вот я стою и смотрю на результат трудов этого виртуоза. Если не знать, что искать, то глазу не за что зацепиться. А если знать… если знать, то, присмотревшись, можно заметить. Но не далее, чем за пять метров. Да и то – если зрение у тебя орлиное, а не замутненное чтением докладов и отчетов в полутемных кабинетах. То есть в общем потоке машин, в этой вечной московской сутолоке, наша «Матушка» выделяться не будет. А это именно то, что мне и требуется.
Открыл машину, уселся. Повернул ключ зажигания. Мотор заурчал ровно. Нет, не заминировали пока. А шкеты, подумал я, могли ведь и с ножами напасть – но не напали. А еще, глядя на верхние этажи, подумалось: кирпич мог свалиться на голову – но не свалился. Однако на всякий случай, решил я, по Бронной улице пешком лучше не ходить. Там всегда многолюдно, сумрачно, да и смотреть надо в оба: не пролито ли где постное масло, подсолнечное, хлопковое, или, не дай бог, рыжиковое – скользко. И уж ни в коем случае не перебегать трамвайные пути перед приближающимся, звенящим и дребезжащим, как разбитое корыто, трамваем. Москва – город коварный для неосторожных.
Тронул с места и поехал неспешно, вальяжно, по широким и залитым солнечным светом московским проспектам. Очень неспешно. В нашем деле есть два способа оторваться от предполагаемой слежки. Первый: гнать как угорелый, на запредельных скоростях, выписывая невероятные виражи. Второй: ехать медленно-медленно, черепашьим шагом, заставляя и возможного преследователя ползти с той же неестественной скоростью, выдавая себя. Ну, или он начнет нервно обгонять, потом ждать впереди, снова обгонять, снова ждать – что опять же выделяет его из общего, размеренно текущего потока машин, как больную овцу из стада.