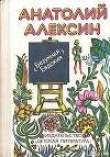Текст книги "Четверо в дороге"
Автор книги: Василий Еловских
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 17 страниц)
Дубровская умоляюще смотрела на Лаптева:
– А почему я?
– Дубровская никуда не поедет, – резко сказал Лаптев. – Главный зоотехник пока я.
Птицын все-таки порядком злил Ивана Ефимовича. Толстенький, аккуратненький, чувствуется, что очень ценит и уважает себя; но гладкость и аккуратность необычная – старомодная: брюки длинные и широкие, узел галстука непомерно мал и во всей одежде какая-то очень уж провинциальная, слишком старательная приглаженность. Простые фразы произносит так, будто изрекает что-то сверхоригинальное, значительное, о чем по недомыслию не знают другие.
В манере говорить у Птицына и Утюмова было много общего, сходного, хотя у одного басовитый, хрипловатый голос, у другого – чистый, высокий, почти девичий; один говорит простовато, грубовато, озабоченно и торопливо, другой – медлительно, снисходительно, противно-ласково.
«Явно на пост врио директора метил, – подумал Лаптев. – Борьба и за маленькие посты бывает грубой, ожесточенной».
Когда все ушли, Лаптев задумался: правильно ли он вел себя на сегодняшней несостоявшейся планерке. В принципе-то правильно. А в деталях? Надо бы держаться спокойнее, говорить убедительнее. Они привыкли к планеркам. Собственно, дело не только в планерках. Планерки – форма, суть – в содержании. Не те методы руководства – это Иван Ефимович чувствовал, в этом был убежден. Утюмов произнес бы банальную фразу: привычка – вторая натура.
Резко зазвонил телефон.
– Максим Максимович?! А где он? Ну, все равно. Из Травного говорят... Тут вот какое дело... Зарплату, срезают. Я щели заделывал в свинарнике, в общем свинарник ремонтировал. Ну, так вот, мало заплатили, вычеты непонятно какие.
– А с бухгалтерами говорили?
– С Вьюшковым толковал. Тити-мити, говорю, недодаете. А у него – смехи.
– Поговорите с бухгалтером фермы. Если ответ бухгалтера фермы вас не удовлетворит, позвоните главному бухгалтеру.
Только положил трубку – опять звонок. Снова из Травного. Бойковатый женский голос:
– Мне бы путевку в дом отдыха. Дома разве отдохнешь. Я уже четыре дня как в отпуске. Весь отпуск пролетит – не заметишь.
«Шпарит, как из пулемета – тысяча слов в минуту».
– Обращайтесь в рабочком. Путевки распределяют там. Нет у меня путевок, понимаете? Что? О переводе на другую работу говорите с начальником отдела кадров. Все!
Вошел Птицын. Сейчас это был уже какой-то другой Птицын – обыкновенная улыбка, спокойный, мягкий голос:
– Хулиганы витрину повалили с комсомольской газетой. Не то чтобы совсем, но она уже не в вертикальном положении...
Все эти люди, кажется, решили свести Лаптева с ума мелочами. Ему не нравилось, что главный агроном говорит с ним сейчас мягка, вежливо, проникновенно, совсем не так, как говорил при людях.
– Пусть этим делом займется секретарь комитета комсомола. А нам надо вот о чем потолковать. В совхозе, я знаю, задержали выдачу зарплаты:
– Уж так получилось. Но– люди у нас, в общем-то, живут хорошо. Приглядитесь-ка.
– На мой взгляд, личные хозяйства у специалистов и рабочих слишком уж раздуты.
– Разве можно в деревне без скотины?
– Нельзя. Но если у рабочего во дворе своя собственная ферма... Кое-кто даже по три коровы держит...
– Это дело каждого, в конце концов. – В голосе главного агронома неприкрытое удивление. – Чем меньше бездельничать будут, тем богаче жить станут.
– Не о том богатстве речь, вы это прекрасно знаете. Есть нормы, установленные правительством, где определено, сколько рабочий и служащий совхоза может держать личного скота. Какое хозяйство, к примеру, у вас?
– Держу... Две коровы держу... и телка.
– А свиней?
– Я не люблю свинину, она жирна. А для пожилых жирное не годится. У меня овцы. Между прочим, будущее несомненно за овцами.
– Сколько же их вместе с ягнятами?
– Ну... двадцать две.
– И, наверное, пчелы?..
– Мед при моем здоровье крайне необходим.
– Да гуси, куры. И у Максима Максимовича почти столько же.
– У него тоже две коровы и телка... – Птицын чуть заметно усмехнулся: – У того вкус другой – любит свинину. Боровов держит. И уток. А какое, собственно, все это имеет значение? Ведь вот сегодня я куда раньше вас на работу пришел. Вы еще сладкие сны видели, когда я во дворе прибирался и мимо ваших окон проходил. Я всех раньше пришел. И вечером ухожу позже всех. Не все ли равно, что я дома делаю: лежу на кровати, с женой обнимаюсь или навоз убираю, капусту поливаю?
«Странно, он стал говорить проще и как-то искреннее. А ишь... задело... оправдывается».
– Кроме того, физический труд полезен. У вас другое. Вам нет смысла держать коров, заводить свиней и овечек. Много ли одному надо?
– Это все же касается не только вас лично. Если у меня не корова, а целая ферма, то мысли о ней будут все время лезть в голову. Поехал в командировку, а думка одна – как бы быстрее домой вернуться. Такому человеку и передохнуть некогда. На работе спит. Я же видел вчера на планерке. Дремлют. Даже посапывают. И не до учебы таким...
В приемной хохотал Саночкин, с кем-то говоривший по телефону:
– В воскресенье встречай! Поллитровочка чтоб и все прочее. Ну, а я, как договорились, везу свинью и трех барашков.
Саночкин! Где-то что-то было у Лаптева связано с этой фамилией. Не с Митькой, а с фамилией его. Может быть, встречался еще один Саночкин? Нет, не вспомнить. Но фамилия навевает что-то бодрое, хорошее.
Когда Птицын ушел, Лаптев пригласил Саночкина. Надеялся увидеть недалекого, разболтанного, пустого человека, одного из тех, которые доставляют лишь неприятности, но сразу понял: Митька неглуп, глаза понимающие, прозорливые.
– Скажите, сколько вы имеете личного скота?
– Скота?
– Да, да, личного скота.
Саночкин качнулся, устраиваясь поудобнее на стуле, и на Лаптева пахнуло винным перегаром.
– Сегодня успели выпить или вчерашнее не выветрилось?
– На какой вопрос отвечать? – усмехнулся он.
– На оба.
– Пропустил сегодня стакашек, был такой грех.
Лаптев с досадой махнул рукой: какой разговор с пьяным!
– Вы про скот спрашивали. У меня двадцать восемь голов. Коровьих, овечьих, свинячьих. Больших и маленьких. Куры, гуси и утки не в счет. Я свою ферму во как поставил! – Он поднял кверху большой палец и хохотнул. Хохоток короткий, приглушенный, многозначительный. – Сальцо у моих свиней трехслойное, так и тает во рту. Особливо, если после водочки. Заходите, угощу. Овечки тонкорунные. Не то чтоб самой-самой высшей породы, но мерлушка хорошая, на толкучке с руками готовы оторвать. А коровы мои дают столько, что на всех конторских и молока и сметаны хватит. Попробуйте найдите еще таких коров. В совхозе-то и ветврачи, и зоотехники.... Науку всякую применяют, а скотина тощая – кожа да кости и все чё-то дохнет от мудреных книжных болезней. А у меня здоровешеньки. Вот такось!
«Говорит, будто задеть хочет. Почему?.. И смотрит свысока. Черт знает что! У совхоза одни убытки – больше ста тысяч рублей в год. Кормов не хватает, свинарники – дрянь. Урожаи ничтожные. А люди... каждый живет сам по себе. Что тому же Саночкину зарплата? Лишь бы числиться на работе и пользоваться преимуществами совхозника. Саночкин! Где же встречал я эту фамилию?»
К чему-то вспомнилось... Знакомый пенсионер говорил ему: «Важно показать себя поначалу. Первое время работай на полную катушку, а потом, когда завоюешь авторитет, можно и с прохладцей». Иван Ефимович принял слова старика за шутку, а сейчас ему было ясно, что старик говорил всерьез. Сложна и объемна, видать, наука приспособленчества, и много их, кандидатов и докторов приспособленческих наук.
Из города позвонил председатель райисполкома Ямщиков:
– Ну, как у тебя дела? – Голос веселый. Ждет веселого ответа. – Побольше требовательности... Побольше контроля... В Новоселово только так привыкли.
2
Много в биографии Лаптева было и необычного, и огорчительного. Еще не стар – 1925 года рождения, а участвовал в боях с фашистами.
Летом сорок пятого с запада потянулись в Россию эшелоны с фронтовиками; победители возвращались домой, а навстречу им, без песен и музыки, спокойные и незаметные, ехали в теплушках солдаты-чекисты. Ехали воевать. О тех боях газеты не сообщали, и солдаты умалчивали в письмах. Это были особые бои, когда не рвались снаряды, не падали с самолетов бомбы. Но зловеще-игривый, тонкий посвист пуль Лаптеву стал хорошо знаком. Чекисты вылавливали фашистов, которые по одному, а чаще мелкими группами в три-пять человек скрывались в лесах Прибалтики. Солдаты – многие из них были совсем молоденькими, с нежными детскими щечками и тонкими детскими голосами – умирали и тогда, когда все считали, что наступил мир и покой.
Лаптева дважды ранили, один раз при необычных обстоятельствах.
Осматривали они безлюдный, заброшенный хутор – старый, полуразрушенный дом в четыре окошка и ветхие сараи. В углу небольшого сарайчика – куча соломы. Он никак не мог подумать, что в соломе прячется человек – куча казалась слишком маленькой. Поддел штыком солому так, не зная зачем, – два оглушительных выстрела почти слились. Резко ударило в бедро...
Рана скоро зажила. А через полгода – снова госпиталь. Лаптев тогда шел в цепи третьим слева. Во взводе больше тридцати солдат, а две пули, выпущенные фашистами, попали именно в него. Может быть, потому, что был выше других ростом. Теперь помнил только удар в грудь и больше ничего. Остального будто и не было...
Ушел в армию из деревни, и вернулся в деревню. Она привычна, знакома, а все привычное манит. Будто давным-давно, как во сне, было все: заочная учеба в институте, работа в МТС, за которую Лаптев получил орден Ленина. Когда стал председателем райисполкома и когда все вроде бы уже окончательно наладилось, неожиданно пришла беда, да такая, что всю жизнь изменила. Врач, отводя глаза, сказал Ивану Ефимовичу: «Ну как вы могли запустить болезнь до такой степени? Столько признаков: потеря аппетита, сухой кашель, постоянная температура, одышка... Туберкулез – болезнь тяжелая...»
И майский день утратил радужность: солнце по-прежнему светило, но уже раздражающе ярко и холодно; свет солнечный вдруг приобрел тоскливый сероватый оттенок, будто проходил сквозь пылевую завесу.
Но болезнь отступила, туберкулез теперь излечивают. Когда до выхода из больницы оставалось два дня и он наконец уверился, что будет жить, пришло письмо от Брониславы. Жена писала: «Я не могу больше... Я тебя уважаю, но не люблю. Ты уже здоров, по-прежнему полон сил, и моя помощь тебе не нужна. Так будет лучше...»
Многое можно стерпеть, но не ложь. Решила уйти – уйди, зачем лгать. Лаптев не знает, где она, и теперь уже не жалеет, что они расстались. А тогда было до слез обидно. Единственная мысль утешала его: «Я и так-то некрасив, а тут еще болезни...»
Он до сих пор дивится, что привлекло Брониславу в нем: неуклюжий, большой, костистый... Природа-скульптор не долепила его, создала скуластым, со впалыми щеками, насупленными бровями, лысым. Люди, однако, говорили, что его неказистость особого рода, не отталкивающая, наоборот, мягкая, добродушная, располагающая к себе, и, как сказала однажды Бронислава, – «у тебя умная улыбка». Смотрел на свою улыбку в зеркало, ничего умного не нашел.
Он всегда чувствовал себя немного неловко и, может быть, от этого горбился. Когда-то в молодости некрасивая внешность приносила ему много огорчений, и, стараясь скрыть излишне простоватое и, как ему казалось, неприятное выражение лица, он часто хмурился, так же вот, как главный экономист Дубровская на несостоявшейся планерке.
Не повезет, так не повезет. Вышел из больницы туберкулезников, лег к хирургам – сказалась рана в груди. И тут пошло: проверка, анализы, один врач, другой... Лаптев и не подозревал, как много в его теле «отклонений от нормы». Долго лечился, получая пенсию по инвалидности. Снова работал и снова лечился. Начал мечтать о диссертации по животноводству. И когда почувствовал себя хорошо, радуясь и дивясь этому, захотелось заняться делом, наиболее близким ему. В облсельхозуправлении сказали: «Утюмов собирается уходить, так что со временем, если, разумеется, вы покажете себя с положительной стороны, можем рекомендовать вас директором совхоза». Об этом слышать было неприятно: будто он мечтает о высоких постах. И уж если стремишься к чинам – работай в областном центре, оттуда дальше ускачешь. Он хотел проводить научные опыты. Громко звучит: «научные», и Лаптев никогда никому не говорил об опытах, это была его тайная мечта.
Однако в совхозе он совсем не думал ни о диссертации, ни об опытах.
...В Травное он прибыл под вечер. Сумерки были грустными, тихими, окна в домах еще не светились. В центре села стояли полуразрушенная церковь и два кирпичных двухэтажных дома без дверей и крыш – одни старые-престарые грязные стены, облезлые, побитые, как будто после бомбежки, угрожающе глядевшие на мир божий пустыми глазницами-окнами. Синеватый снег на улицах и скелеты высоких тополей дополняли эту картину. В Травном когда-то был женский монастырь, кажется, самый древний за Уралом и, судя по документам, хранящимся в краеведческом музее, очень богатый, хотя земли тут плохие и много болот. В Травном был монастырский центр, а в Новоселово, где до революции стояло лишь несколько бревенчатых домов, окруженных трясинами, камышовыми озерами, заваленными буреломом, – ссыльное место, здесь пребывали самые непокорные монашенки.
«Какая келейная тишина, – думал Лаптев. – Даже настроение портится».
В конторе фермы сумерничали три женщины. Зажгли свечу, стоящую в стакане.
– Ну, что поделываете? – спросил Лаптев нарочито веселым голосом. – Я вижу, у вас тут совсем как в монастыре.
– Да вот манны небесной ждем и света электрического. – Это сказала женщина лет тридцати пяти. Большие умные глаза ее смотрели откровенно насмешливо.
От нее повеяло на Лаптева чем-то удивительно знакомым.
«Нет, я ее никогда не встречал».
Догадка пришла внезапно: у нее так же надвое разделен подбородок, как у директора Утюмова, и когда она говорит, то, подобно Утюмову, странно напрягает верхнюю губу; только у того это напряжение являет собой недовольство, а у женщины – насмешливость.
Догадка развеселила. Позднее, уже в конторе совхоза, он узнает, что женщина – ее звали Татьяной Максимовной – приходится двоюродной сестрой Утюмову, который не жалует ее за строптивый характер, и они живут как чужие. Татьяна – свинарка, заочно учится в сельскохозяйственном институте. Фамилия ее Нарбутовских, по мужу.
– Ждете, значит? – спросил Лаптев по-прежнему весело.
– Да! Жду-пожду – наживу нужду. Ну вот и главный пророк по ступенькам поднимается.
«Разбитная и грамотная, видать».
Как он потом убедился, у Татьяны была странная привычка дерзить незнакомым, подшучивать над ними, строить из себя «нетерпимую», но – вот парадокс! – так она поступала с людьми, которые ей чем-то нравились.
«Главным пророком» оказался управляющий фермой Вьюшков, тощий, небритый человек с лицом мученика, влетевший в контору «на всех парах» и шумно, радостно приветствовавший Лаптева, которого прежде никогда не видел. Как он догадался, что это именно Лаптев, непонятно, но чувствовалось, искренне радуется его приезду.
– Ох, и беда с народом! Что за люди? Никакой личной ответственности. Летят, будто слепые... До седых волос доживут, а...
Длинно, путанно Вьюшков сообщил, что в соседней деревне сбили грузовиком столб, и свет неизвестно когда дадут, во всяком случае не сегодня.
– Не сегодня? – Нарбутовских вскочила со стула.
– Да уж чего ты больно? – махнул рукой Вьюшков.
– Что больно?
– Родят, ничего не сделается. Возьми лампу керосиновую. Вон ту, со шкафа.
– Она неисправна. Дымит и тухнет. Свиньи к электричеству привыкли.
– Еще к канализации приучи.
– Или ты не понимаешь? Электролампочка на потолке висит, не качается. А от керосиновой лампы тени по стенам мечутся. Это беспокоит свиней.
– Пусть мечутся. Природа потребует, так родят. Светло ли, темно ли.
– Чепуху мелешь. Надо хороших керосиновых ламп купить. Сколько раз говорили. Это не в первый раз без электричества. Я приношу свою керосиновую лампу, а другой свинарке, как и тебе, все равно.
– Что ты говоришь? Ну, что ты говоришь, Татьяна? Я на работе днем и ночью, Ни минуты отдыха. Детишков не вижу, недосыпаю, недоедаю. Побриться некогда, а тут... Ну, где у тебя совесть?
Огонек в керосиновой лампе заострен, как кинжал, над ним тонкая, тревожно вьющаяся струйка дыма.
Вьюшков был в затасканном, порыжевшем полушубке, старой шапке, одно ухо у которой надорвано, в подшитых валенках, и Лаптев подивился: управляющий фермой немало зарабатывал, держал коров, свиней, овечек, – хватит даже на соболью шубу.
– Дверь в свинарнике подремонтировали? А доску прибили? А стекло в окошке заменили? – Повернувшись к бухгалтеру фермы, Вьюшков такой же строгой скороговоркой проговорил: – Завтра стол привезут. Я заказал поменьше размером. Поставишь поближе к стене. Так, чтобы проход оставался. А шкаф отодвинь вон туда. Туда вон! Ничего, ничего, дверь будет открываться.
В контору без конца заходили мужчины, женщины, дети; сидели в комнатах и коридоре на стульях, на корточках, подпирали спинами стены и печку и разговаривали, кто о чем. У входной двери возились двое мальчишек, сопели, что-то выкрикивали.
Вошел бородатый мужик и потянул за рукав Вьюшкова:
– Все-таки сколько ж на крылечке у вас тут ступенек сделать? Ты говоришь – шесть, а по-моему, четырех хватит. Не ребятишки же...
Вьюшков скривился, как от боли, хотел что-то сказать, видать, сердитое, но его опередил Лаптев:
– Скажите, вы плотник?
– С пятнадцати годов топор в руках держу. А что?
– Ну так и делайте столько ступенек, сколько считаете необходимым. Зачем беспокоить управляющего по таким пустякам.
Лаптев говорил спокойно, дружески, но плотник по-чему-то рассердился:
– А чё вы на меня?! Сам он!..
Когда открывали входную, дверь, разносился протяжный, печальный, все усиливающийся скрип, как будто по басовитым струнам виолончели проводили смычком, а когда закрывали, раздавался короткий неприятный звук «хря», и Лаптеву казалось, что дверь ломается. Люди беспрерывно входили, выходили, дверь без конца пела свою противную песню, от которой у Лаптева разболелась голова; заслышав протяжный скрип, он почти со страхом ожидал громкого, грубого «хря» и думал: «Порою и мелочь – не мелочь. Как они терпят?»
– Вьюшков, на-ка подпиши! – Молодой рабочий, оглядываясь по сторонам и вихляясь, небрежно сунул управляющему смятую бумажку.
Вьюшков расправил ее и подписал, не глядя.
В небрежной позе молодца, во всем его поведении проглядывало что-то фальшивое, отталкивающее; эта ясно видимая фальшь и простоватая доверчивость Вьюшкова насторожили Лаптева. Он попросил бумажку, сел за стол и, хмурясь, начал стучать на счетах. Потом сказал тихо и требовательно:
– Товарищ Вьюшков, подойдите сюда! Вы разобрались в этом документе? Вы же подписали явную фальшивку. Судя по этой бумажке, у вас каждый день вывозят почти по пятнадцати центнеров навоза от одного поросенка. Да, вот так и получается. Математика здесь простая. В прошлом месяце вы получили пятьдесят два поросенка. Слишком мало, прямо скажем. Но это вопрос второй. Итак, пятьдесят два. А вывезено от поросят две тысячи триста тонн навоза. Ну вот и получается, что каждый поросеночек-сосунок ежедневно оставляет в свинарнике почти пятнадцать центнеров навоза. Разложите-ка по дням. Надо целый гараж грузовиков иметь, чтобы навоз вывозить. Человек подсовывает вам липу, обманывает государство, а вы подписываете, не проверяя. Вам все равно, что килограмм, что тонна. Любую бумажку подмахну, только подставляй.
«Растяпа! Занимается всякой чертовщиной, а за чем надо – не следит».
Даже при слабом освещении было видно, как сильно трясется у Вьюшкова рука:
– Мер-рзавец! Где он? Верните его! – Ткнул пальцем куда-то в темноту. – А ну-ка сбегай. Доверяешь людям. Советский человек, работник совхоза, а ведет себя как жулик!.. Я тебе сказал: сбегай!
Вьюшкову кто-то ответил грубовато:
– Не могу я. Ноги чё-то болят.
«Ну и порядочки!» – удивился Иван Ефимович.
Вечером, как всегда, на ферме была планерка, и она, как обычно, началась, с опозданием на час; люди, как и прежде, входили, выходили, курили, смеялись, переговаривались, будто это и не планерка, а вечеринка, где делай, что хочешь. Вьюшков утихомиривал людей, даже прикрикивал на них, но никто не слушал его, и Лаптеву становилось все яснее, что Вьюшков – плохой управляющий: много суеты, нервозности, болтовни, всех подменяет, и что странно – никто по-настоящему не уважает его, хотя без конца пристают с вопросами.
Лаптев не знал, как ему поступить. Конечно, надо сказать о недостатках в работе фермы и покритиковать Вьюшкова, однако насколько сильно покритиковать; не может же он сказать, на основе хотя и беглых, но – он был убежден в этом – точных впечатлений, что управляющий бездарен и его надо убирать, ведь и Утюмов, и Птицын хорошего мнения о нем, и у Ивана Ефимовича нет права говорить так и тем более нет никакого права увольнять управляющего.
Ему неожиданно вспомнилось, как он, будучи директором МТС, беседовал с пьянчугой-трактористом. Тот был так же вот, подобно Вьюшкову, суетлив и подозрительно активен; это мимолетное воспоминание подействовало подобно взбадривающему напитку, – Ивану Ефимовичу стало веселее.
Лаптев выступал последним, когда Вьюшков уже устал от длинных речей и замолк и люди (был поздний вечер) затихли, охваченные легкой дремой; управляющий слушал спокойно: начальство должно быть проницательным, видеть недостатки и критиковать – на то оно и начальство, но после слов Лаптева о том, что в Травном лучшие земли, здесь больше, чем на других фермах, людей и вообще благоприятные условия, а дела идут так себе – серединка на половинку, Вьюшков насторожился, потом недовольно поджал губы, покачал головой, это будто подстегнуло Лаптева, и он сказал то, чего не решался пока говорить: управляющий лезет в каждую щель, всех подменяет, лишает людей творческой инициативы.
– Да вы что?! – с дрожью в голосе выкрикнул! Вьюшков. – Вы что меня поносите? Я днюю и ночую на ферме. Недосыпаю... Я тут за всех как окаянный тяну, от Максим Максимыча стока благодарностей...
Люди оживились. На лице Вьюшкова – изумление, во взгляде Нарбутовских – любопытство и смешинка...
Сказав, что планерки на ферме надо проводить один раз в день, и недолгие – минут на двадцать, не больше, – Иван Ефимович перевел разговор на то, что его очень беспокоило:
– До революции земля принадлежала частным лицам, – начал он. – Ею владели помещики, кулаки да церковники. Теперь земля принадлежит всему народу...
Люди опять опустили головы, поскучнели: об этом они знают.
– Все блага, все богатства мы получаем от земли: каменный уголь, нефть, газ, руду...
Насмешливо улыбаясь, Вьюшков посматривал на рабочих, как бы говоря: «Ликбез, да и только... Кого это нам господь бог послал?»
– Используя эти природные богатства, рабочие на заводах делают автомашины, комбайны и все то, чем мы постоянно пользуемся, что нам крайне необходимо – кровати, телевизоры, радиоприемники, мотоциклы, часы, электролампочки. Рабочие в городах изготовляют для нас с вами пальто, костюмы, сапоги, туфли и многое другое. И мы покупаем все это по государственным ценам. Я подчеркиваю: не по рыночным, где устанавливается, цена, как бог на душу положит, а по государственным. Заводской и фабричный рабочий получает за свой труд зарплату. Зарплату! А мы с вами должны выращивать на земле хлеб, овощи, ухаживать за скотом и продавать государству продукты сельского хозяйства. И, конечно, тоже по государственным ценам. И получать, как городской рабочий, зарплату. В соответствии с количеством и качеством затраченного труда. А что же делаете вы? Городские товары покупаете по нормальным, государственным ценам, а вот мяско, молочко, картошку, яйца и другие продукты сельского хозяйства, выращенные на государственной земле, везете на базар и продаете втридорога.
– А это наше! – крикнула какая-то женщина. Лица ее не разглядишь в слабом свете керосиновой лампы, но одета она в дорогое пальто с каракулевым воротником, на голове пышная пуховая шаль:
– Что наше? – голос Лаптева посуровел.
– Продукты... Город-то кто кормит? Мы, деревенские.
– Перестань, Тася! – проговорил с испугом Вьюшков.
Татьяна Нарбутовских засмеялась, и смех ее был легкий, веселый, будто на вечеринке:
– Она хотела бы кормить только саму себя. Чтобы от всех других ей была польза. И от городских, и от деревенских.
– Как ты можешь так говорить, Татьяна? Нашла место для хаханек. – Вскочив, Вьюшков замахал руками. Закричала и замахала руками женщина, которую управляющий назвал Тасей.
– Замолчь, Таисья! Тебе говорю!
«Чета Вьюшковых, – догадался Лаптев. – Хоть и говорят: муж и жена – одна сатана, а все же, как видно, не одна».
– Если бы заводские рабочие стали исходить из вашей логики, они бы сказали: все, что мы делаем, это – наше. По какой цене захотим, по такой и продадим. Варите суп в чем хотите, хоть в деревянном корыте, хоть в ладонях. Копайте землю палками и одевайтесь в шкуры...
– Выходит, лучше лодырничать! – сказала Таисья Вьюшкова, и в ее голосе, не в пример мужнину, были твердость, самообладание. – Если и ночью, и днем храпака задавать...
«И все-таки они – два сапога пара», – подумал Лаптев. Он старался говорить спокойно, хотя уже нарастало раздражение, готовое вот-вот прорваться наружу. Еще раз повторил: скота надо держать столько, сколько положено по закону, нельзя смотреть на совхоз через рога собственных коров, иначе все совхозное будет казаться чужим. И назвал несколько цифр.
– Как видите, ваша ферма – средняя в нашем совхозе, который в большом долгу перед государством. И долг этот с каждым годом растет...
Было тихо. Нарбутовских проговорила, качнув головой: «Правильно». Остальные молчали, но в этом многозначительном молчании угадывалось согласие.
«Видимо, никто с ними не беседовал об этом. А народ тут, видать, хороший».
Потом он говорил о кормах. Была еще глубокая зима, весной и не пахло, а кормов оставалось всего – ничего, до лета не хватит.
– Товарищи! Я прошу вас отдать излишки сена, соломы и картошки совхозу. Надо спасать и свиней, и коров. – Пододвинул к себе лист бумаги. – Кто, сколько и каких кормов может выделить из своих личных запасов?
Вопрос был неожиданным. Люди смолкли на секунду, а потом зашумели:
– Да мы не понимаем, что ли. Записывай два воза сена. Ну, а картохи у меня маловато...
– Я дам пять мешков картошки, так и быть.
– Ну и от меня прошу...
«Люди здесь определенно хорошие», – снова подумал Лаптев и вздрогнул от резкого голоса Таисии Вьюшковой:
– Задарма, положим, не шибко охота...
Голос, правда, беззлобный, даже что-то дружеское уловил в нем Иван Ефимович.
– Да замолчишь ты или нет?! – крикнул Вьюшков. – Плетешь черт-те что. Совхоз вам не монастырь, зазря чужого не захватит, получите сполна... – Помолчав, добавил уже потише: – По государственным ценам. Пишите от меня...
«А ты сознательный, – усмехнулся Лаптев.
Расходились почти в полночь. Когда планерка, а точнее сказать, собрание было закончено, к Лаптеву подошла Таисья Вьюшкова:
– А почему начальство редко заглядывает к нам?
Она стояла рядом, свет от лампы падал ей на лицо, и Лаптев смог разглядеть вьюшковскую «супружницу». Крупный нос, мужской квадратный подбородок, розовые щеки; по всему видать, сильная, волевая женщина.
– Какое начальство?
– Главный зоотехник, к примеру, ветеринар, главбух, экономист?
– А вы кем работаете?
– Я – бухгалтер.
– Бухгалтерское дело хорошо знаете?
– На тебе! Больше двадцати лет со счетами.
– А свинарки?
– Что свинарки?
– Умеют ухаживать за свиньями?
– Спрашиваете тоже. Еще бы!
– Ну вот и работайте. Вы же тут хозяева. Сами все и решайте. А что не ясно – спросите. Если же будет что-то новое по вашей специальности, к вам специалисты придут и все расскажут, покажут.
Лаптев прожил на ферме два дня и все больше и больше убеждался: Вьюшков во многом копирует директора Утюмова, тоже силится показать, будто он «тянет за всех», трудится денно и нощно, недосыпая, не видя семьи. Но у травнинского руководителя было и свое, отличное от Утюмова: Вьюшков суетлив, тороплив, глядишь на него, и кажется, будто все на ферме вот-вот порушится, дома повалятся, свиньи подохнут, урожай погибнет.
Вьюшков был когда-то шофером. И не простым, а высшего класса. Лет пятнадцать водил легковушки и грузовики, считался передовиком. Районная газета печатала его фотографии. Передняя стена вьюшковского дома почетными грамотами увешана. И совхозное начальство решило: поставим его управляющим; все у этого человека «на должной высоте» – трудолюбив, исполнителен, бережлив, любой недостаток увидит, может и подсказать, и посоветовать, вина в рот не берет и потом, глядя на него, торопливого, беспокойного, радовались, будучи уверенными, что лучшего управляющего им днем с огнем не найти.
«Так и не поняли, что Вьюшков – никудышный руководитель, – в который раз задумался Иван Ефимович. – Ох, уж эти вьюшковы! С ними часто попадают впросак. Они рьяно берутся за дело, уходят на работу чуть свет, возвращаются почти в полночь, всегда небриты, в пыльной одежде. Многословны, несобранны, любят поучать. Рабочие привыкают к таким нянькам: «Скажи, что мне делать?..», «А как с этим?..» Работают без передыху, а дело не продвигается ни на шаг. Нет к вьюшковым настоящего уважения ни у начальства, ни в своих коллективах. Выдвиженцы обеспокоены. Они хотят, чтобы их заметили, чтобы у них самих и у ферм, которыми они руководят, был добрый авторитет, и начинают нервничать, покрикивать на людей. Отношения становятся болезненно напряженными. И уже кое-кто сомневается: действительно ли были выдвиженцы когда-то передовиками? Может, передовики-то «не всамделишные, липовые». А того не понимают, что не всякий передовик, даже очень грамотный, может руководить людьми. Нужен талант организатора, талант колхозного вожака. Не стоит лицемерить: не все рождаются с таким талантом».
Раздумывая об этом, Лаптев все больше утверждался в мысли, что Вьюшкова надо снимать.
«То, что в совхозе у власти такие люди – вполне закономерный процесс. Каков поп, таков и приход. Утюмов подбирал людей по своему образу и подобию, пестовал, отшлифовывая в каждом нужные ему качества характера. Их едва ли исправишь».
Он пытался сопоставить Вьюшкова с Утюмовым и Птицыным. Редко найдешь людей, внешне столь непохожих: Утюмов рослый, поджарый, большое красивое лицо, Вьюшков на голову ниже его, квеленький, личиком серенький, неприметный. Птицын важный такой, с первого взгляда заметно – это само начальство. А в общем-то у всех троих есть что-то общее, неуловимо схожее, как у родственников.