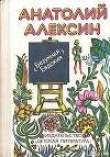Текст книги "Четверо в дороге"
Автор книги: Василий Еловских
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 17 страниц)
Четверо в дороге
В сборник вошли повести «Тепло земли», «Гудки зовущие», написанные на документальной основе, и рассказы. Первая повесть посвящена современной зауральской деревне, вторая – уральским рабочим тридцатых годов.
ТЕПЛО ЗЕМЛИ
Повесть

© Южно-Уральское книжное издательство, 1974.
1
Лаптев часто просыпался. Может быть, потому, что все время виделись ему кошмарные сны. Будто шагал он по горной узенькой тропинке, слева – отвесные скалы, справа – ущелье, прикрытое не то дымкой, не то туманом, и неслись из того ущелья гул и грохот несусветный. Тропинка скользкая, как лед, стена слева тоже скользкая. Но вот уже и тропинка исчезла, только скалы и ущелье; хочется обратно повернуть, и нет сил; хватается он за скалу, с ужасом чувствуя, что валится в темную пропасть. В последний миг ухватился за хилый кустик, растущий между камней, но голые жиденькие ветки оборвались, и он падает, падает бесконечно. И просыпается. Потом снилась ему одинокая заброшенная избушка в лесу. Возле избушки стоял мужик с палкой и, злобно глядя на Лаптева, что-то кричал.
Но, видно, сон был некрепок, потому что чувствовал, а точнее, подсознательно понимал Лаптев: не наяву это, во сне все видит – и избушку, и злобного мужика...
А когда мужик замахнулся палкой, Иван Ефимович проснулся. Был шестой час утра, время раннее, но нет уже полуночной тишины: где-то бойко гавкает собака, требовательно мычит корова, стучит калитка. У Лаптева не было обычного для него в глубокой ночи обостренного восприятия окружающего – и прежде всего звуков, – чувства абсолютной, что бывает только в деревнях, какой-то особенной тишины; и померкло, стаяло, исчезло тягостное сознание того, что он один, совершенно один в доме – случись с ним что, никто сразу и не узнает об этом. Подумал: сонные видения наверняка – результат легкой тревоги, которая обычно овладевает человеком, приехавшим на новое, незнакомое место, и связаны они с чем то реальным, давно пережитым и уже забытым. Что же похожее было, когда и где? И вдруг вспомнил. Еще мальчишкой, в гостях у тетки на Урале, надумал забраться на отвесную скалистую гору. Держаться приходилось за жидкие ветки кустарника, который кое-где пробивался на склоне. Когда же оборвалась одна ветка, он, холодея и дрожа, повис над пропастью, едва успев схватиться за острый каменистый выступ. Время сглаживает, стушевывает и радости и горести. Сгладило, стушевало оно и страх тех минут, когда, сдирая кожу с рук, лез и лез он наверх, постанывая, почти не дыша от страха.
Неужели же и сейчас подбирается к нему страх? Да ну, какая-то чепуха! Правда, вчера то тут, то там улавливал он тревожно-настороженные, холодные, а один раз – вот удивительно! – откровенно пренебрежительный взгляды. И что?! Будто раньше была только тишь да гладь – божья благодать, будто стремился он к этой тиши и глади и никогда не сидел в окопах, не слышал тонкого, зловещего посвиста пуль, их тихого, монотонного, дьявольского оркестра, не участвовал в марш-бросках, не рыл окопы и траншеи, не ползал по-пластунски, будто не видел лодырей, приспособленцев и негодяев. Многое видел...
Марш-бросок – весело звучит. Для непосвященного! Хорош бросок – бег (километров на двадцать-тридцать с полной выкладкой: шинелью-скаткой, вещмешком, винтовкой, малой саперной лопатой, которая надоедливо бьет и бьет черенком по ноге. Сам весь мокрехонек; впереди мокрая спина товарища, справа и слева взмокшие плечи. И пыль. Тяжко бежать в строю, и когда упадешь от усталости, все тело пробирает мелкая, холодная, как от мороза, дрожь.
Жизнь все время учила его на свой манер – не спрашивая ни о чем и не предупреждая. В детстве ходил он в рваных сапогах – «кирзачах», у которых почему-то всегда вылезали гвозди и натирали ноги. Бедно жила семья. С лопатой, граблями и вилами стал управляться еще мальчишкой. И пахло от него летом, в пору тяжкой мужицкой работы, терпким потом, который, казалось, никакой водой не смоешь. Да и воды не хватало.
У их деревни стояли болота, где гнили травы. А, по словам стариков, в прошлом веке было здесь хотя и мелководное, но с чистой водой озеро на километр. Для огорода и скота пахучая болотная водица кое-как годилась, а для питья, стирки и бань воду возили из соседней деревни, километра за четыре, – разве навозишься. Теперь живет Лаптев в местах, где воды хоть залейся, да и в родной деревне давно уже пробили глубокие колодцы, тоже вода есть, но Иван Ефимович до сих пор сохранил в глубинах души своей особое отношение к воде – ценит ее, как никто другой, любит баньку, любит купаться: все вспоминается ему острый запах мужицкого пота.
Странно, не может человек думать только об одном, о работе, к примеру, в голову все лезут посторонние, цепляясь одна за другую, мысли. Сейчас подумалось Лаптеву ни с того ни с сего, что надо б постирать сорочки. Для начала сделает это сам, а потом будет отдавать кому-нибудь из женщин. Вечером вскипятит воду. Печка на кухне жаркая, умелыми руками сложена. Да и вообще квартира куда с добром: две чистых, веселых комнаты. Сперва поселился в совхозной гостинице – бывшем кулацком доме, да неудобно там: народ все приезжий, шумливый, беспокойный. От новенького трехкомнатного особнячка под шиферной крышей, где жил прежний главный зоотехник, отказался – зачем одному такие хоромы? Светловатая полоса, вползавшая с улицы, откуда-то снизу, то меркла, то появлялась вновь, вырисовывая вверху на стене оконный переплет, и Лаптев понял, что это ветер раскачивает фонарь на столбе.
Подошел к окну, поеживаясь: в квартире выстыло, и от холода и темноты казалось, что в доме сыро. Многие окна в конторе совхоза уже светились. Горела лампочка и в кабинете директора. Собственно, видно было только одно, окошко кабинета, другие закрывала громоздкая нелепая скульптура, стоящая возле конторы. Он с первого дня, с первой минуты возненавидел убогую лепку, изображавшую двух мужчин. Одинаковые, мертвые, ничего не выражающие лица, неестественные позы, какие-то кривые, надломленные пальцы, короткие ноги.
За нее совхоз отвалил городскому скульптору восемь тысяч. И все ради показухи: у нас так же, как у добрых людей, и у нас скульптура.
Он бывал в Новоселово и раньше – раза два-три, читал лекции о международном положении, но люди здешние промелькнули тогда, как редкие огоньки полустанков в окнах ночного поезда – мгновенные и одинаковые, запомнился только директор Утюмов. Утюмов! Когда он познакомился с ним, бог ведает. Иногда кажется, что знаешь человека всю жизнь; где-то когда-то подметил, каков он в разговоре с подчиненными, в кабинетах у начальства, каков в радости, в злобе, каков в трудностях. Утюмов! Лицо выражает одновременно строгость (в меру), деловитость, усталость и какое-то легкое беспокойство. Такое выражение – Лаптев отметил про себя – и у новоселовских специалистов и управляющих фермами. Даже улыбка и та у всех у них одинакова – редкая, короткая, неяркая, будто неожиданный луч солнышка в ненастье. Утюмов сказал Лаптеву:
– И умереть будет некогда, будь оно проклято! Просыпаюсь до света, а ложусь в полночь. Голова, как чугун, тяжелая. И все на ногах, все на ногах. Везде успей, за всеми угляди. Чуть прохлопал – ЧП. У нас тут такие работнички, я вам скажу... Как дети. Все им надо разжевать и в рот положить. За плечами техникум или институт, виски серебрятся, а они ждут команды. Без команды никуда.
Он исподлобья взглянул на Лаптева и вздохнул:
– Это только издали все кажется просто и ясно. «Отстаете», «нахлебники». Ну, положим, отстаем. Но хлеб даром не едим. Уж в этом нас никто обвинить не посмеет. Вы знаете, какая здесь земля? А?! Шестьдесят... если хотите абсолютной точности, – шестьдесят два процента всех земель в совхозе – солонцы. А о них ученые пишут...
Он достал из книжного шкафа том Малой Советской Энциклопедии и начал читать поучающе:
– «Возделываемые на солонцах культуры лишь во влажные годы приносят урожай.» Э-э... «Естественная степная растительность обычно состоит из малоурожайных растений». Вот так!
«Только один том энциклопедии держит в кабинете, – подумал Лаптев. – И бумажка-закладка сверху пожелтела, давненько сунута. Видать, каждому читает».
– В разные условия попадают люди. У меня дружок на Кубани. Тоже директор совхоза. В институте учился так... средненько, хуже меня. И вообще был ни рыба ни мясо. А сейчас рукой не достанешь. Передовик, герой. Поехал я к нему как-то... Посмотрели бы, какие там земли! И тепло, весь год тепло. А здесь все зима, из полушубка не вылезаешь.
Вздохнул, будто пудовую поклажу с плеч сбросил.
– Многое нам мешает, очень, многое. Город рядом... в двенадцати километрах. Бегут, особенно парни бегут туда. Готовы на частной квартирчонке жить, в общежитии, только бы в городе. Театр, сады. Танцульки, девочки, пивко, то, се... И еще... Почти на восемьдесят километров тянется земля совхозная, узкой полосой тянется. Как рог коровий, изогнута. Неудобная конфигурация.
Опять вздохнул:
– Все на себе тащу.
Последние слова он произнес вполголоса, равнодушно, привычно.
Утюмов запомнился сразу. Жаль человека. И не унизительной жалостью: упорный труженик, даже не совсем удачливый, всегда вызывает у людей сочувствие.
На улице подвывала метель, было как-то одиноко и неприятно, и Лаптев облегченно вздохнул, переступив порог теплой конторы. Узкий, ярко освещенный коридор был пропитан свежим табачным дымом.
«Хоть колун вешай», – Иван Ефимович недовольно поморщился.
А ведь когда-то был заядлым курильщиком. Уходя на работу, брал две пачки папирос и коробку спичек, отчего карманы оттопыривались. До сих пор живо помнится ему противно-горьковатый привкус табака во рту. После того как решил бросить курить, недели две мучился – руки так и тянулись к папиросе. А теперь, спустя почти десять лет, табачный дым был неприятен ему.
Из кабинета директора доносились раздраженные грубоватые мужские голоса, слов не разберешь, а ясно, что люди чем-то недовольны. Лаптев подметил: в совхозе вообще говорят грубовато. Громче всех – басок главного агронома Евгения Павловича Птицына, местного старожила, о котором директор вчера сказал: «Этот семь раз отмерит, один раз отрежет. Бывалый. Каждую собаку в деревне знает». И хотя фразы эти ничего толком не говорили, Лаптев понял, что Птицын – авторитетный в совхозе человек. Был он маленького роста, толстый и прямой, как афишная тумба.
– Здорово, Михайло! – это кричал в телефонную трубку краснощекий парень, сидевший в приемной директора. – Неужели не узнал? Да чё ты, едрит твою?! Саночкин, Митька Саночкин из Новоселова. Шофер. Ну! То-то и оно!
Саночкин прямо-таки закатывался от хохота, пошатываясь, как пьяный, и размахивая свободной левой рукой.
– Мясо, говорю, хочу привезти. Мясо надо продать. Да чё ты, едрит твою, я тебя вон как слышу. Ха-ха-ха!
Просторный, в шесть окон, директорский кабинет забит народом. Кто в пальто, кто в костюме, двое в телогрейках. Многие в шапках, хотя в кабинете тепло, даже жарко.
«Налицо весь командный состав совхоза, – подумал Иван Ефимович. – Собрались на утреннюю планерку. А управляющие фермами и специалисты на фермах у телефонов дежурят. Ждут и. о. директора, главного зоотехника товарища Лаптева. А оный товарищ изволит запаздывать, с первого же дня показывая, как и положено чинуше, что он не просто зоотехник, не просто «главный», а лицо самое наипервейшее. Видимо, так вот они и думают обо мне».
Почти все курили; клубы дыма медленно тянулись к потолку и еще более медленно растекались по нему.
На столе, под носом у Птицына, телефонный аппарат, главный агроном кричит в телефонную трубку:
– Тут чисто психологический фактор... Лишь постоянное напоминание о деле и постоянный контроль со стороны управляющего фермой заставят людей трудиться с полной отдачей. А если свинарка предоставлена сама себе, если она знает, что никто от нее ничего не потребует, можно сделать так, а можно и этак, будьте уверены – проку не будет. Так у вас и получается. Поросята болеют и дохнут. В свинарниках, как в поле, ветер гуляет. Оторвется доска, и неделю никто не удосужится прибить ее. Вы обязаны ежедневно, если хотите, ежечасно быть возле свинарок, все видеть, все знать и направлять дело. Давайте продуманное, конкретное и твердое задание на день. Каждому человеку! И пусть каждый отчитывается о проделанной работе. Вот тогда будет толк, тогда можно рассчитывать на успех. Ну-ну, знаете, ваши утверждения не соответствуют действительности. Планерки вы проводите формально. Да, да, фор-маль-но! Поговорил десять – двадцать минут – и конец. Проверка же исполнения не организована. А в этом-то вся суть: дать задание и проверить, точно ли выполнено. У вас не свиноводческий трест, а ферма – самое низовое звено, и нечего разводить бюрократию и канцелярщину. Идите на производство, идите к рабочим. Советую вам посмотреть, как организует дело ваш сосед Вьюшков. Съездите к нему в Травное. Вы говорите не то, не то! У Вьюшкова показатели отнюдь не хуже ваших. А порядка в десять раз больше. Вьюшков по-настоящему болеет за дело. Да, и у него на ферме еще много неполадок, мы знаем. И сам Вьюшков видит их. Давайте говорить честно. Вьюшков, не в пример некоторым другим, полностью отдается работе, по-настоящему болеет за дело. Вот так, дорогой мой!
Птицын бегло, равнодушно глянул на Лаптева и продолжал поучать кого-то, видимо, заведующего фермой. Другие с откровенным, как принято в сибирских деревнях, любопытством рассматривали вошедшего, и лица у них были такие, точно ждали они, что Лаптев сейчас сообщит им что-то весьма важное, а может быть, несказанно удивит их чем-то.
Говорили вполголоса. Лаптев прислушался.
– Эту веревку я еще в позапрошлом году из города привез. Прелесть, какая веревка! И вот на тебе – дерябнули! Я все же на Митьку Саночкина грешу, его проделки, сукиного сына.
– Тот может.
– Может! Но не пойманный – не вор. Тут дело такое!..
Мужчины, сидевшие поблизости от Птицына, вели другой разговор:
– И вот послушайте, что дальше получилось. Он – за телушкой, а та брык и прямехонько в болотину. В той стороне – кочки, валежник... и человек не разглядит.
– Подожди, там и болотины-то никакой нету.
– Ну чё споришь? Летом нету, а весной еще какая. Брык – и по пузо. Старик вертится вокруг да около, а в болото сунуться боится. Холодно, да и утопнуть можно. А у телушки меж тем одна голова видна. Хрипит уже. И тогда старик, перекрестившись, прыг в болотину. А телушки уж нет, одни пузыри.
– Тащил бы быстрей.
– Куда там, сам еле выбрался.
Положив телефонную трубку, Птицын сказал:
– Не говори! У старика этого еще предостаточно сил. Он и жену взял лет на тридцать моложе себя.
– Лет на пятнадцать...
– Кто-то из великих людей говорил, что из всех низких чувств страх – самое низкое. Струсил старик. Что касается веревки... – Оказывается, Птицын слышал и этот разговор – вот чудно! – К такому делу едва ли причастен Саночкин. Саночкин – шалопай, драчун, но не вор.
Птицын скользнул по Лаптеву безразличным взглядом и продолжал:
– У соседки моей вчера вечером окошко разбили. Даже створку попортили.
Все засмеялись.
– Ну у этой – кавалеры.
– Веселая баба, язви ее!
– Когда же будет хорошая погода, братцы?
«Уж не на вечеринку ли я попал?» – задал себе вопрос Лаптев.
Птицын снова поглядел на Лаптева, на этот раз более внимательно, и встал.
– Садитесь, пожалуйста, Иван Ефимович. Товарищи, вы уже все, конечно, знакомы с Иваном Ефимовичем Лаптевым? С нашим новым главным зоотехником и заместителем директора. Максим Максимович месяц будет в очередном отпуске и месяц в отпуске без содержания, в связи с болезнью. Я вот боюсь, как бы Максима Максимовича не положили в больницу. Опять диабет обострился, да и с сердцем... Исполняющим обязанности директора назначен товарищ Лаптев. Так что давайте командуйте, Иван Ефимович.
Он улыбнулся, как-то странно, нехорошо улыбнулся – одной верхней губой, которая сперва медленно опустилась книзу, а потом вжалась в глубину рта. Птицын отличался медлительностью и размеренностью. Неторопливый, полный достоинства шаг, неторопливые движения рук, медленный пренебрежительный поворот головы. Улыбается по-разному, но все с оттенком какой-то противной снисходительности, затаенная, неоткрытая улыбка. Так было вчера. И вот сегодня... верхней губой...
Лаптев не привык доверяться первым впечатлениям. И все же улыбка Птицына не понравилась сразу. Но время покажет... Работать вместе придется, видимо, долго. Вчера Утюмов сказал перед уходом: «Зимой меня, Иван Ефимович, не ждите. И вообще... по секрету... Я приду, но ненадолго. Думаю перебираться куда-нибудь».
– Давайте, дорогой мой... – Птицын придвинул стул.
Лаптев поморщился: он не терпел подобного обращения – «дорогой мой», «милый мой», считая эти слова пошловатыми.
– Раненько собрались.
– Рано? – Птицын засмеялся, вполне искренне, дружески. – Что вы, Иван Ефимович! Много сна – мало услады. Сон богатства не приносит.
Многие улыбнулись. И только главный экономист Зинаида Степановна Дубровская, месяц назад приехавшая в совхоз, не меняла строгого выражения лица, хмурилась, поджимала губы. Лицо у нее совсем юное, свежее, а тело крупное, видать, сильное, как у зрелой женщины, и низкий, слегка хрипловатый немолодой голос.
Слушая Дубровскую, Лаптев вспомнил вдруг, как когда-то, будучи парнем, названивал телефонистке в район; голосок у нее был нежный-нежный, певучий, не голос, а соловьиное пение, и Иван Ефимович был уверен, что это красавица из красавиц. Заговаривал, шутил с ней, а она мило лепетала: «Говорите, пожалуйста, какой вам нужен номер». Не выдержал, поехал в райцентр, пробрался на телефонную станцию и через дверь увидел ее. То была некрасивая женщина лет сорока; она говорила кому-то прелестным голоском: «Гражданин, мне некогда с вами разговаривать».
– Каждый день к шести собираемся. – Птицын в упор взглянул на Лаптева. – По-доброму-то надо бы начинать планерку с пяти утра, но многие запаздывают, так что практически начинаем с половины седьмого. Вас вот ждали, заданьице получить.
Говор стих. Все смотрели на Лаптева. Молчание было нехорошим: люди ждали, что же скажет им новый зам. А он молчал.
– Планерки мы проводим и утром, и вечером, – продолжал Птицын, словно пугая. – Каждый получает задание от директора. На весь день. Ну, а вечером отчитывается. Все это вы знаете.
Последние слова он произнес с какой-то неприятной интонацией. Прозвучало это примерно так: горожанин, воздухом полей не дышал, грязь деревенскую не месил – откуда тебе знать! Лаптеву говорит, но в расчете прежде всего на то, что его слушают остальные.
«Развалили хозяйство и чего-то пыжутся, – с неприязнью подумал Лаптев, хотя понимал, что «пыжится» только Птицын. – Нелегко здесь будет, совсем нелегко, А когда было легко?»
– Мы собираем руководящий состав.
«Руководящий состав». Слова-то какие».
Лаптев сел, оглядел людей и сказал, стараясь придать голосу твердость и спокойствие:
– А вы знаете, что должны в этом месяце делать? Общая-то задача вам ясна?
На лицах людей отразились недоумение и удивление. Птицын что-то бормотнул про себя. Дубровская передернула плечиком:
– Ясна, конечно.
– Ну, так и работайте. Надеюсь, каждый знает свои служебные обязанности.
Лаптев начал прибирать на большом директорском столе, где были разбросаны журналы, газеты, лежали документы, письма.
Кто-то произнес «м-да», кто-то кашлянул фальшиво. Ерзали на стульях, недоуменно переглядывались. Но никто не встал со своего места.
– Разве Максим Максимович не рассказывал вам о планерках? – Сейчас голос у Птицына был сухой, слегка насмешливый.
Нет, не рассказывал. Директор тогда выглядел усталым, больным; было видно, что он ждет не дождется той минуты, когда, сидя в машине, пересечет неуловимую для постороннего глаза границу, отделяющую «свои» земли от земель соседнего колхоза. О планерках не говорил, но раза три повторил: «Основное внимание – животноводству. Кормов мало, надо спасать скот».
– Я знаю, Евгений Павлович, что такое планерка. Я – зоотехник, работал когда-то директором эмтээс и председателем райисполкома.
Конечно, лучше бы не говорить о своих прежних должностях, но... Иван Ефимович почувствовал: его последняя фраза произвела благоприятное впечатление.
Планерки! Сколько он их перевидел! Летом к пяти утра все совхозное начальство в полном составе собиралось в кабинете директора. Зимой – к шести. Так было установлено. Но кто к шести, кто к половине седьмого, а кто и к семи придет. Все ждали, что скажет директор. И директор командовал: главный агроном едет на первую ферму и занимается тем-то и тем-то, ветврач – на вторую ферму, главный инженер – на третью... Каждому задание. Да хоть бы коротко, деловито. А то – слова, слова, слова, споры о мелочах, нервные выкрики, бесконечная утомительная говорильня, после которой болит голова, хочется отдохнуть, а не работать. К семи вечера собирались на новую планерку, докладывали, что сделано за день. И снова речи, речи! До полуночи. После такой шумной планерки не сразу уснешь, от них порой устаешь больше, чем от любой работы.
– Вижу, удивил я вас, товарищи. – Лаптев обвел всех взглядом. – Ну, давайте поговорим, только откровенно. Я твердо убежден, что планерки, в том виде, в каком они у вас проводились, не приносят пользы. Более того, они вредны.
Птицын хмыкнул:
– Да как же так, Иван Ефимович?
До чего же много в голосе Птицына различных оттенков – и снисходительность, и самоуверенность, и ласковость. Силится говорить важненько, аристократично, а получается деланно.
– Специалист у вас, как плохой солдат в бою: дали команду – выполнил, не дали – не выполнил. Всякая творческая мысль скована. Ведь у всех ответственные должности. Главный агроном, главный инженер, главный экономист, главный бухгалтер, ветврач, управляющие фермами, специалисты на фермах... Ведь эти должности требуют от человека и знаний, и инициативы, и творчества. Каждый должен быть организатором и действовать самостоятельно. Вы – ру-ко-во-ди-те-ли. А вас превращают в простых исполнителей.
«Полегче бы, – подумал он. – А, выложу все!»
– Я на свой счет не заблуждаюсь и уверен, что каждый из вас лучше меня разберется во всех вопросах на своем участке работы.
– Мы с этим согласны, – сказал Птицын.
Лаптев сейчас ненавидел Птицына, все в нем казалось ему грубым и пошлым.
«Говорит один за всех. Будто в адвокаты нанялся».
– Думаю, что и Утюмов не семи пядей во лбу.
– К чему это, Иван Ефимович? – снова подал голос Птицын. – Планерки, или, как еще их называют, летучки, – от названия, собственно, ничего не меняется, – проводят везде. И в совхозах, и в колхозах. Так что...
– Знаю! Во многих хозяйствах проводят именно так, как у вас. Получается, что только директора совхозов одни все понимают, во всем разбираются, только они могут анализировать, давать оценку и предвидеть ход событий. Они самые лучшие агрономы, зоотехники, экономисты, инженеры, бухгалтеры и самые лучшие свинарки и механизаторы... Выходит, своим помощникам они не доверяют. А ведь каждый специалист – это полноправный руководитель. Он должен сам решать, что ему делать, и полностью отвечать за свой участок работы. Должен хорошо знать круг своих прав и обязанностей, планировать рабочий день, иметь личный творческий план. Месяц назад я был в колхозе «Сибирь». Там планерка продолжается минут двадцать, не больше. И никаких команд. Это еще куда ни шло. Хотя я думаю, что и такие планерки не нужны.
– Ну, а как? – Сейчас в глазах у Птицына было любопытство и голос почти дружеский. – Ведь никто ничего делать не будет.
Все засмеялись, кроме Дубровской, которая с сочувствием и, как показалось Ивану Ефимовичу, с жалостью смотрела на него, но почему-то сурово поджимала губы. И эта суровость озадачивала Лаптева.
– Директор может поговорить с кем надо в рабочем порядке. Повторяю, специалист должен чувствовать ответственность за свой участок работы. Быть творцом, организатором, а не просто исполнителем. Я слышал, как вы, товарищ Птицын, заявили вчера Утюмову: «А я при чем? Вы сказали сделать так, и я сделал». Речь шла о семенах. Забавно получается: вместо того чтобы все вопросы решать самому, вы ждете, что скажет директор. А ведь вы главный агроном, не директор вам, а вы должны помогать директору в вопросах агрономии. Что такое агроном? Ничего, ничего, здесь полезно об этом вспомнить. Я беру сельскохозяйственный словарь-справочник, вот он здесь лежит, на столе. Читаем: «Агроном – это специалист сельского хозяйства с высшим образованием, организатор...» Я повторяю: «Организатор многоотраслевого сельскохозяйственного производства, обладающий всесторонними знаниями в организации, технике и технологии основных отраслей сельского хозяйства, свойственных данной природно-экономической зоне страны, и применяющий свои знания для наиболее эффективного использования средств производства и достижения высоткой производительности труда». Словарик старый, но в общем-то написано правильно и довольно ясно. Как вы думаете, товарищ Птицын?
Лаптева так и подмывало сказать агроному что-то резковатое, но он сдерживался: резкое слово порою действует хуже удара, грубость помнят долго.
– Мое дело – разведение, кормление, содержание и правильное использование сельскохозяйственных животных. Я должен все делать для того, чтобы совхоз получал больше свинины, чтобы повышалась продуктивность животноводства. Таковы мои обязанности как главного зоотехника.
Птицын криво улыбнулся.
Лаптев повысил голос:
– Что проку от специалиста, если он только напичкан энциклопедическими знаниями, а организатор плохой. Если он тем и занят, что болтает...
«Сорвался. Не надо!»
– Я два месяца буду замещать директора. И в эти два месяца никаких общесовхозных планерок не будет. Когда возникнут вопросы, обговорю с теми, кого они касаются. Если потребуется, вызову... Решим, что надо, без лишних слов. О телушке и веревке разговор можно будет вести дома, за чашкой чая.
«Мягче надо, мягче. Спокойнее доказывать».
– Я вас, товарищи, подменять не буду. Сами все решайте. Все! У каждого свой участок, вот и командуйте. А от меня команд не ждите. Если нравятся планерки и считаете, что без них нельзя, пожалуйста, проводите. Если главный агроном считает, что ему надо собрать агрономов, пусть собирает. Он – хозяин. А потом мы с него спросим за все. Вот так! Управляющие фермами, агрономы и зоотехники ферм по любому поводу звонят директору. Заболели поросята – директору... А почему не ветеринарному врачу? Вчера об этом звонили Максиму Максимовичу. А разве Утюмов – врач? Пришел рабочий из Травного. Кто-то разбил стекла в квартире. Примите меры. Значит, директор должен выступать еще и в роли милиционера. Едва ли кому понравится такая роль.
Лаптев немножко схитрил, произнося последнюю фразу. Утюмов не прочь был поработать и за милиционера. Что произошло?
Выслушав рабочего, директор поморщился, будто осушил стакан с клюквенным соком: «Это все пьянчужки! А Вьюшков – потатчик». Лаптев спросил: «Почему вы с этим вопросом пришли сюда?» – «Да, едрит твою, второй раз уж такое. В прошлом годе гайку в окошко всадили». – «Говорили милиционеру?» – «Говорил. А он, едри его!.. А если Максим Максимович ввяжется, то тут уж...» – «Садись! – скомандовал Утюмов и поднял телефонную трубку. – Ты, Вьюшков? Здравствуй! У меня твой человек. Да, да, он! А ты как знаешь, что он сюда поехал? Видел, а не спросил зачем. Зря не спросил. На тебя жаловаться приехал, ха-ха-ха! Говорит, что в Травном много хулиганья и жулья развелось. Вольготно им под твоим крылышком. Да вот говорит, что опять окошко у него высадили. Займись этим делом. Давай, давай, а то под лежачий камень и вода не течет».
«До чего же он любит всем известные пословицы».
Утюмов проговорил с управляющим еще минут десять, все о том же разбитом оконном стекле, и, перед тем как положить трубку, сказал: «Смотри, Вьюшков, а то рыба с головы гниет». И повернулся к рабочему: «Езжай обратно. Будет наведен порядок».
Конечно, если приехал человек, за дверь его не выставишь. Но почему директор должен решать такой вопрос? Потому, что сам приучил людей к этому. Утюмов изображает из себя демократа, добряка и простака. Ведь так приятно и, главное, выгодно изображать из себя чуткого человека, который, конечно же, не остается глухим даже к малейшим недостаткам и неполадкам, который все видит, все знает, везде успевает, ко всему прислушивается; для него нет мелочей, все важно и серьезно. Только он может разрешить любой вопрос, разрубить гордиев узел. Таков уж этот грубоватый, но прямой, работящий, быстрый, исключительный человек! Нам страсть как хочется показать, что мы очень деятельные, оперативные, быстрые: сейчас – в конторе, через час – на первой ферме, через два часа – на второй, через три – на третьей... Ездит, ходит, бегает днями и ночами. На квартире же, конечно, почти не бывает, детей не видит, недосыпает, ест на ходу, торопливо и когда придется; вся жизнь в работе, постоянной и упорной. Поспит часа четыре – и опять на ногах; веки красные, воспаленные от бессонницы; проклятая усталость как печать на впалых щеках, изнуренном лице. И не беда, что он порой раздражен, не брит, а на «кирзачах» грязь. Умеет много и гладко говорить. Правда, все больше общие слова. По утрам заседания – то бишь двух– и трехчасовые планерки. Нацеливает коллектив, ставит вопрос ребром, дает боевое задание. А вечером неторопливо (ночь-то наша!) заслушивает, кто что сделал. Контролирует. Как в бою! Голос с металлическими нотками, вид внушительный, деловой. Главное – произвести впечатление, чтобы люди только ахали, чтоб видели: вот начальство какое! Одержимый! Настоящий вожак! Интересно, задумывался ли когда-нибудь Утюмов, что за мелочами упускает большое?
Сейчас Лаптев думал о директоре уже без жалости, без сочувствия.
– И на фермах... Надо, чтобы каждый управляющий был на ферме полным хозяином и не ждал команд и распоряжений. Пусть сам решает все. А если надо что-то спросить, позвони. И тоже не по мелочи, а только по серьезному вопросу, когда сам уже не в силах.
Люди молчали, но видно было, слушали с интересом. Дубровская по-прежнему супилась, поджимала и кусала губы, а глаза ее искрились, улыбались.
«Надо же! – удивился Лаптев. – Какая она еще молодая: розовые щечки, по-детски мягкая округлая ямочка на подбородке, пухлые детские губешки. Это она от смущения супится».
– Все, товарищи! – Лаптев открыл форточку.
– Я сейчас поеду на вторую ферму, – сказал Птицын неизвестно кому. – После обеда загляну в Травное. И было бы хорошо, если бы вы, Зинаида Степановна, побывали на четвертой ферме. За ними надо глядеть. В свинарниках сыро, грязно и темно. Главное ведь – профилактика.